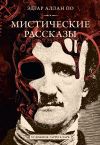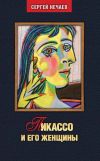Текст книги "Трилогия Лорда Хоррора"

Автор книги: Дейвид Бриттон
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Ну, – произнес Хоррор, откидываясь на кожаную обивку. – Эта свадьба должна попасть на светскую страницу «Еврейской газеты Ноттинг-Хилла». – Он стащил с себя влажные блузу и брюки и сложил их, тщательно стараясь не замарать кровью пол машины. Затем открыл дверцу под своим сиденьем и аккуратной стопкой разместил одежду там. Сверху опустил складную бритву.
Хоррор закончил вытираться бледно-голубым полотенцем и кинул его Менгу, который тоже быстро растерся. Словно вспомнив в последний момент, он также снял с себя бюстгальтер и трусики и остался совсем голым. Он сиял. Крупное овальное лицо придавало ему внешность нефертити мужского пола. Снаружи пролетавшие мимо деревья вдоль Холланд-Парк-роуд были жирны, как тучи.
Они ощущали расслабленность напряженья, и Хоррор тихонько себе что-то мурлыкал. Менг подался вперед и прижал голову рядом с Экером.
– У меня тебе есть анекдот, – поведал он, стирая с глаз грим. – Лежат среди мусора в Харлеме два негритоса. Только что пообедали, и тут один негритос давай принюхиваться.
«Эймос, пиздюк ты ебаный, ты что – обосрался?» – с негодованием спрашивает он.
«Да не, да я ни в жись», – сердито отвечает другой.
«Обосрался, ублюдок», – стоит на своем первый негритос, нагибается и давай тому штаны нюхать.
«Ой, извини, – говорит тот. – Я думал, ты про сегодня!»
Менг раскатисто захохотал, но у Экера лицо даже не дрогнуло. Он сухо заметил:
– Ну, этот я слышал.
Когда машина свернула за угол Хайд-Парка и направилась к Юстону, лорд Хоррор вытащил из-под сиденья чистый костюм и оделся. Облачившись в привольные розовато-лиловые куртку и брюки сафари с рубашкой и шейным платком в тон, он вновь подумал о том голосе, что услышал утром в рыночной толпе на Петтикоут-лейн. Всякий раз, оказываясь в Лондоне, Хоррор любил в поиске пластинок навещать ларьки коллекционеров и теперь, как обычно, отправился туда рано, надеясь ничего не упустить. Менг и Экер его сопровождали – Менг спереди, Экер замыкающим, – чтобы он мог избежать щипачей и трясунов, марвихеров и гоп-стопщиков, мазов и шигачей, толпившихся на рынке по воскресеньям; все это воровская и жульническая братия.
Петтикоут-лейн представляла собой раскинувшуюся чащу жести, железа и дерева. Гофрированные крыши ларьков, как грибы, нависали козырьками над людьми внизу. Они решили устроить из выхода событие – заглядывать в ларьки и покупать все, что цепляло глаз. Хоррор стремительно перемещался по узким проходам, разделявшим торговцев. Сперва он остановился перед киоском морепродуктов и приобрел три пакета крупных, жирных вареных угрей-капитоне. Передав Менгу и Экеру по пакету, своих угрей он подбросил в воздух и, покуда те падали, ловил их по одному своими громадными лошадиными зубами. Перекусывая каждого пополам, он позволял угрям легко проскальзывать себе в пищевод. Менг заплатил за шесть дохлых омаров, которых, как он сказал, вернувшись домой, нанижет себе на ожерелье.
Пока они прогуливались, лорд Хоррор мысленно подтверждал сам себе, что за большинством прилавком там стоят евреи. Презрев обычные свои занятья, ныне евреи диверсифицировались. Среди них были табачники, пекари, инструментальщики, ароматисты и травники. Еврейские мясники торговали изобилием гойского мяса – пирожками со свининой и грудинкой. В их хорошо укомплектованных ларьках Менг приобрел немного ароматных свиных ножек, которые небрежно кинул в один полиэтиленовый пакет с омарами. Затем Хоррор остановился у портных и заказал себе рубашку из рулона бархата. Не сгоняя с лица скупой улыбки, он ждал, пока рубашку ему не сошьют. Он мессиански раскидывал на всю длину руки, пока еврей суетился вокруг, снимая мерки. На еврея всегда можно положиться – он нарушит любые табу своей религии в погоне за денежной наживой. У другого еврея, торговавшего возле галантерейного магазина, где толпился народ, Хоррор купил кашемировое пальто. Менг у шляпника приобрел себе новую шляпку и понес ее с собою в розовой картонке, перевязанной белой лентой с бантом. В отделе дичи Экер прихватил связку фазанов. После чего Менг, присев на низкий каменный парапет, щекотал гусей в их плетеных клетках длинным пером; его черные волосы были сплошь гнездом намасленных кучеряшек.
Совершив эдакий променад на час или чуть дольше, лорд Хоррор отправил близнецов обратно к машине с покупками, велев им на обратном пути не мешкать, а сам зашел в заполненную грампластиночную лавку в самом центре рынка.
Роясь в скидочных ларях, он ощутил разочарованье. Пластинок его любимого старого-доброго Джесси Мэттьюза не было, но пока он их искал – уловил отголоски спора, происходившего в соседней кабинке.
Заглянув за деревянную перегородку, перекрывавшую ему обзор, он успел увидеть крепко сколоченного мужчину в клетчатом пиджаке – в ком немедленно признал Фредди Миллза, боксера и телеведущего, – который замахивался кулаком на ларечника. Тот опрокинулся на спину, и Миллз перевернул ларь с пластинками на еврея-оппортуниста. Даже не оглянувшись, с крайне довольным видом знаменитость вышла из лавки и растворилась в толпе. Из воспоследовавшего разговора Хоррор выяснил, что еврей пытался продать Миллзу пластинку Алмы Коган.
Вниманье его этим инцидентом обострилось, и он двинулся к стойкам женского вокала. Уже с гораздо меньшим интересом к тому, чем занимается, он вытаскивал долгоиграющие пластинки таких певичек, как Лита Роза, Ив Бозуэлл и Марион Райан. Затем в лавку снова забрели Менг и Экер, и он живо передал им альбомы, прежде чем выбирать пластинки биг-бэндов. Он изъял записи Леса Бакстера, Уолли Скотта, Стэна Кентона – и вытянул экземпляр «Большого сердца Англии» Теда Хита. Эта маленькая редкость придала смысл всему упражнению. Пластинка избегала его с 1952 года, когда ее и выпустили. Он прочел список песен: «Семейка Гроув», «Что мне говорить?», «Марк Сэйбер» и другие темы из телевизионных программ, – после чего добавил альбом к той кипе, которую в руках уже держал Менг. – Хитлер в Мидленде.
Голос он услышал внезапно – свистящим интимным шепотом, – когда стоял у кассы и расплачивался. Тот ясно проплыл по битком набитой лавке. Хоррор был уверен, что донесся он из одной кабинки с проигрывателем в глубине помещения, но когда повернулся туда, все кабинки были пусты. Больше никто, казалось, не услышал этот голос, а если и уловил, то никакого особого смысла в словах ни для кого не было.
Возбужденно пробиваясь сквозь толпу, он вглядывался в пустые лица в надежде вызвать отклик таинственного говоруна. Он думал, что, вероятно, ошибся, что голос вовсе не упоминал Хитлера. Это же вполне легко. Быть может, он неверно истолковал модуляцию. Он так долго не был на родине, что диалекты его путали. Живя за границей, он всегда интерпретировал и упрощал; переводы часто несли в себе приглушенную косвенность. Хоррор напомнил себе, что Хитлер в Англии сейчас – это будет слишком уж натянутое совпадение.
Но стряхнуть мысль не получалось. Весь день она к нему подкатывалась. В значительной мере – как новое подтверждение веры, она и вызвала к жизни вечерний кавардак.
В сумраке машины он поискал мазь, наконец отыскал бальзам. Каплю крема он намазал на открытую рану у себя на ноге. От колена и ниже в ноге как будто зажгли костер. В суматохе один еврей в ужасе выкусил у него из ноги кусок плоти так, что обнажилась кость. Хоррор опасался любых укусов, а особенно – человечьих. Животные могут разносить чумку или бешенство, а вот люди передают иные вредные микробы; широко известен факт, что евреи – переносчики и гораздо худшего. Последнее, чего бы он желал, – это чтобы рот еврея касался его тела.
Он вытянул раненную ногу поперек колен Менга.
Хитлер в Мидленде? Это в Бёрминэме или Ковентри, в городке или городе, в селе или на хуторе? На обратном пути с рынка он сперва заехал в «Фойлз» на Черри-Кросс-роуд и купил карту. В поезде на Манчестер сможет на досуге ее изучить. Вероятно, название шоссе или улицы что-нибудь ему подскажет. Если Хитлер там, он наверняка это почует.
Он воззрился на гербовую табличку на стекле своей машины. Машину ему подарил майор Бантик Скотт-Монкрифф, а табличка представляла собой семейный герб майора. На ней изображались солнечные часы друидов, которые держали в лапках две обезьянки с латунными крыльями. Вокруг таблички тонкими полосками прилепились несколько веточек мимозы, и Хоррор праздно сбил их на пол.
Экер вел машину небрежно. Он свернул на Оксфорд-стрит против ее одностороннего движения, отчего встречному автобусу пришлось съехать с проезжей части и врезаться в главную парадную витрину «Хэрродза». От столкновенья стекло разлетелось, а манекены из экспозиции посыпались на поздних вечерних покупателей.
В конце улицы машина повернула на Тотнэм-Корт-роуд. Менг на заднем сиденье вытряс из волос воду и выглянул в окна, в обсидиановый мрак.
– Еще шпарит, – раздраженно прокомментировал он. – Англия… ну и сральня!
– Надо было в Бирме остаться, – парировал Экер. – По крайней мере, там дождь предсказуем. А здесь ходит наобум. Чего удивляться, что люди тут угнетены.
Повернувшись к лорду Хоррору, он спросил:
– Если через дорогу ничего не видно… – и для пущей убедительности высунул в окно голову под дождь и туман, – … как можно ждать, что они будут уважать закон?
– Можешь успокоиться – сегодня вечером мы нанесли могучий удар во имя закона, – сказал Хоррор. – Хотя должен признаться, меня и самого нынешний нравственный климат сбивает с толку. – Он погладил подбородок. – Поглядим, что о наших скромных усильях скажет завтрашняя «Таймз».
– Они ничего не поймут, – уверенно заявил Менг. – А кроме того, в «Таймз» работают почти одни евреи.
– И то верно, теперь такое, судя по всему, обязательно. Это – и профсоюзная карточка. – Хоррор просиял. – Может, в следующий раз нанесем визит им.
– Вот это дело. Тут все живут в тумане, – высказался Менг. – Мне бы хотелось открыть в них чуток дневного света, и не говорите. – Он метнул кинжал в крышу машины, где тот шатко и повис.
– Стало быть, договорились, еще одна поездка через месяц. – Хоррор постукал Экера по плечу. – Долго еще?
– Нескольких минут хватит. – Экер втопил ногой педаль. Вскоре они прибыли на площадь перед вокзалом, где он резко остановил машину.
Распахнув свою дверцу, лорд Хоррор вышел. Через плечо он сказал:
– Как уговорились, я ожидаю видеть вас обоих ровно в девять на «Бирже». – Миг постоял на мокрой плитке покрытия. – К тому времени ситуацью с Хитлером должно прояснить. – Он постукал по капоту «форда». – Езжайте осторожно.
Привольно трепеща на ночном ветерке, волосы стояли дыбом на его лысине дико манерным гребнем. Он прижал сальный палец к переносице своего пенснэ, подтолкнув его повыше.
Юстон был заполнен толпой, возвращавшейся по домам после долгих выходных. Как и обычно, знакомый запах паровозов, маневрового дыма, масла и кокса вызвал в нем транс. Он попытался вспомнить, когда почуял его в первый раз. Это ему напоминало детство, ложечки для желе и дурацкие колпаки, поездки солнечными днями в Брайтон и Борнмут. Он припоминал, как выглядывал из поезда на изогнувшиеся вагоны, пересекавшие плоский зеленый пейзаж в паутине решетчатых ферм: он с родителями в окружении нетерпеливых отдыхающих, ясная пелена неба, прорезанная жгутиками дыма, тянувшимися по-над линией вагонов, заплесневелых от вылинявших трафаретов Британских железных дорог. Картинки локомотивов и паровых поездов далекого прошлого, плавных перекатов полей и английских лугов. Самым отчетливым его воспоминанием было одно окно в двери вагонного купе – оно открывалось, если потянуть за потертый кожаный ремешок: «вниз», чтобы открыть, «вверх» – закрыть. К двери он цеплялся латунным зажимом.
Он с удовольствием отметил, что за годы в Британских железных дорогах изменилось немногое.
Черному контролеру он сверкнул своей железнодорожной карточкой первого класса: тот, как террорист, стоял за сетчатым барьером. Оказавшись на перроне, Хоррор своей развинченной прогулочной походкой вскоре дошел до ночного «пулмана». Легко отыскал свое забронированное купе с ажурными дверными ручками и сел в поезд.
Из окна купе ясно просматривался локомотив, тускло сиявший золотом и окаймленный барвинково-голубой полосой. Непрекращающийся поток пара окутывал колеса дымчатой паутиной. То и дело по станции эхом разносился приглушенный свисток из грушевидной трубы паровоза. Сняв куртку и повесив ее над односпальной постелью в углу, Хоррор довольно устроился поудобнее. Поезд отправлялся ровно в девять-десять. Наручные часы подсказывали ему, что сейчас восемь пятьдесят пять.
Он легко задремал.
А когда проснулся, поезд уже двигался. Ужин подают в десять, вспомнил он. Он встал и прошел по лязгающим коридорам. Еще рано, и в вагоне-ресторане было почти безлюдно. Он сел в нескольких столиках от прочих едоков и заказал простую пищу: вареный пирог с угрем и жареную картошку – краткая проба угрей на рынке разожгла в нем аппетит, и поглотил он пироги с наслаждением. После чего запил трапезу кружкой горячего бельгийского кофе. На десерт себе он взял ломтики трюфелей в заливном.
Вернувшись к себе в купе, он разместил постель у вагонного окна так, чтобы выглядывать в ночь. Поезд шел медленно, и местности проплывали мимо монотонными рывками. Подвернув себе под подбородок одеяло, уложив гребень, как летучую мышь, на подушку, Хоррор задумался о своем наставнике – и о собственном его приезде в Англию. Почему его так удивляет, что фюрер сейчас здесь? Разве Хитлер не всегда похвалялся, что настанет такой день, когда он оккупирует остров?
Прибытие Хоррора в Хитроу поначалу смутило Британское правительство. Его поспешно протащили через таможню, покуда пресса не успела взять у него интервью. Однако отсутствие интервью отнюдь не утолило жажды прессы. Назавтра газета «Ньюз-оф-зэ-Уорлд» напечатала его фотографию вместе с известием о его возвращении в Англию под заголовком «ЕВРЕЕГУБ». Так же они бы обозначили и Хитлера.
Он немедленно затребовал дипломатической неприкосновенности, и в Министерство обороны в Уэстминстере его отвел лично майор Бантик Скотт-Монкрифф, который терпеливо слушал, пока Хоррор объяснял, как осторожно он выразился, свои «так называемые» военные преступления.
Пресса могла считать Хоррора анти-британцем, однако английское правительство рассматривало его несколько теплей. Майор, крепкий военный чуть за шестьдесят, ясно дал понять, что прибудь Хоррор в Англию пятью годами ранее, когда конторой временно заведовала Оппозиция, он бы оказался на виселице. Вместо этого, дружелюбно произнес майор, предлагая ему крупный джин-с-тоником в уюте собственной канцелярии, некоторые члены Кабинета сочувствуют его положению. Правительство намерено издать заявление, утверждающее, что его неверно и понимали, и толковали. Требуя его депортации, и пресса, и Оппозиция просто-напросто догоняли ушедший поезд. Нынешнее правительство будет утверждать, что в качестве радиовещателя под псевдонимом «Лорд Хо-Хо» он намеренно производил нелепую и преувеличенную антиеврейскую пропаганду. Обвинения, против него выдвинутые: дескать он порочил, извращал и унижал евреев, – разрядятся измышленным Министерством заявлением, где будет сказано, что лорд Хоррор действовал с полной осведомленности Военного кабинета при Черчилле.
На самом деле (будет заявляться там далее) Уильяма Джойса уже судили и повесили за те преступления, которые пресса ныне пытается приписать лорду Хоррору.
Майор Скотт-Монкрифф сообщил ему, что в дипломатических целях ему будет рекомендовано покамест принять какую-либо официальную должность в местных органах власти, предпочительно – где-нибудь в провинциях, дабы общественности дали возможность о нем позабыть. Если он не станет высовываться два-три года, путь его к более публичному положению, вероятно – при текущем правительстве, станет глаже.
Вежливо его выслушав, Хоррор скромно отклонил совет, сухо сообщив майору, что уже истощил свою квоту на лицемерие во время войны. Он бы предпочел остаться в сфере вещания.
Неделю спустя ему неожиданно предложили – и на предложение он согласился – регулярную дневную программу на «Радио Би-би-си Манчестер». Вообще-то он и без того намерен был посетить вторую столицу из-за шефа тамошней полиции Джона Эпплтона. Познакомившись с этим человеком, Хоррор счел его обаятельным, проницательным и скромным. Мотивы шефа в стремлении к высоким постам подстегивались нуждою Британского Общества в крепком духовном вожаке – предоставить которого была идеально способна полиция. Хоррор и Эпплтон поладили знатно. Когда Хоррор обратился к нему с просьбой выступить у него в программе, мистер Эпплтон с готовностью согласился каждый день зачитывать в эфире отрывок из Библии.
Поезд впихнулся в тоннель, и купе пропиталось слабым запахом паровозного дыма. Хоррор развернул на постели карту Англии, из дорожного несессера вынул маленькую упаковку из фольги, отделил тридцать миллиграммов кокаина; смазал себе веществом кончик языка. Вытянул язык вперед на несколько мгновений, затем резко заправил его прямо себе в горло, стараясь, чтобы порошком не зацепило нёбо. Кончик языка он также втолкнул себе в назальную полость и крутнул им там, равномерно распределяя наркотик по всем внутренним поверхностям. Такой метод он считал наиболее действенным – тем самым производилась почти мгновенная втравка, хотя лорд Хоррор понимал, что избыток вещества может послужить для его организма могучим слабительным. Однако теперь он был уверен, что уделил себе ровно столько, сколько нужно. Остатки кокса он убрал в багаж и стал ждать, когда на него накинутся ощущенья энергии и эйфории.
Через мгновение, лежа головою боком на подушке, он уже созерцал свое отражение общего рода в окне вагона. Выпученные глаза его в стекле выглядели так, словно были яйцами в белую крапину, вправленными в ночную темноту. Поезд шел сквозь маленький городок, и он успел прочесть аккуратно выписанную вывеску: «Уитни». Кучка домишек вокруг станционного здания быстро сменилась полями и причудливо овальными фермами, усеивавшими все сельские просторы Оксфордшира. Как обычно по воскресеньям, поезд по расписанию ехал долгим окружным маршрутом. Север Англии казался где-то в целом мире от этих плоских полей.
Когда поезд выкатился на долгий отрезок ровного пути, он вдруг увидел, как над дальним горизонтом возникли огни огромного воздушного корабля. Тот пролетел над полями – казалось, и поезд, и корабль идут параллельными курсами.
Вероятно, воздушное судно даже чуть приближалось к поезду. Он сдвинул вниз оконную раму, чтобы лучше видеть, и различил палубные огни и облака белого пара, извергавшиеся из вялых баллонов судна и скатывавшихся за его борта. Палубные огни ненадолго вспыхнули ярче, отчего летучая громадина осветилась по всей своей длине, и ему вспомнилась та ночь, что он провел в Лондоне во время Блица, когда все небеса полнились «Фау-2» и «Фау-1». Над головою зловеще выли «жужелицы» – а когда в их двигателях происходила отсечка топлива, он принимался считать до семнадцати, не зная, будет ли еще жив в конце счета. Но это воздушное судно подобных намерений явно не имело.
Через десять минут воздушный корабль подобрался значительно ближе, и в его огнях стала видна громадная лошадь, бродившая по его верхней палубе. На лошади сидел человек. Вокруг него толпились другие люди, очевидно, понуждая его с лошади не слезать. На глазах Хоррора человек, казалось, озарился. Все тело окуталось пламенем, и столб огня пыхнул прямо в снасти корабля. Лошадь неистово встала на дыбы и скинула горящего человека за борт. Он падал огненным катерининым колесом в ночь, искры и языки пламени сбегали с него и гасли в воздухе. Хоррор высунулся из окна и увидел, как горящий человек скрылся за рощицей вязов. Тогда воздушный корабль принял в сторону, фонтаны пламени на нем погасли, и судно вскоре слилось с черной ночью.
За несколько минут до возгоранья черный Озимандий стоял, уперев ноги в палубу «Kraft Durch Freude», и выскабливал смолы, скопившиеся в чашке его трубки. Захлопнув выкидной нож, уверенной черной рукой он высыпал щепоть героина поверх свежепримятого табака. Чиркнул спичкой и поджег трубку.
Козимо Матасса протянул ему стакан, налитый игристым индиговым вином, густым и летучим, как тяжелый эфир. Озимандий передал посуду негритосу-андроиду, стоявшему перед ним по стойке смирно. Негритоид взял стакан и выпил содержимое одним резким глотком. Глаза его тут же начали сверкать и гаснуть яростным светом, а из его стиснутых зубов пополз пар. Повернувшись, негритоид целеустремленными шагами отошел к тлеющему металлическому эквусу, спокойно стоявшему в ожиданье на главной палубе судна.
Ночной ветер алчно лизал ламинированный кринет, покрывавший конскую шею, а грудину его туго охватывал пейтраль из серебра. В звездной оксфордширской ночи ветер проносился сквозь его мертвые ноздри, и огромный эквус двигал угрюмой головою, потряхивая на ветерке стальной гарнитурой своего шанфрона. Горячая зола из палубных дымоходов вихрилась вокруг лошадки, покрывая мелкой копотью толстые пластины лат у нее на боках.
Бурливая масса негритоидов, толчками вползшая сюда по кормовому трапу, подняла с палубы стального негритоса. Его подтащили к эквусу. Из отверстий в основаниях их шей пронзительно несся резкий свист. Бесцеремонно они водрузили негритоса-андроида прямо на торчавшую луку седла. Другие негритоиды подключили металлического коня к судовой компьютерной системе «Ай-би-эм» и воткнули его в палубный электрогенератор через контрольную панель у него на шее. Когда Козимо нажал на переключатель, подсоединенный эквус загарцевал и поскакал по кругу, хоть и оставался закрепленным на одном месте железными заклепками, вбитыми в палубу.
Озимандий сделал шаг вперед и щелкнул пальцами.
– Сент-Экспедит, давайте быстрее.
Верховой негритос пронзительно засвистал, голова его кружилась, описывая оборот за оборотом. Вокруг столпились негритоиды, не обращая внимания на кипенье палубного пепла. Негритоид впереди зашаркал ногами в танце, остальные вскоре его подхватили. Поначалу он дважды шагал вперед и один раз назад, покачивал металлическими бедрами и плечами. Его глаза навыкате вращались в черепе из черной стали, а все лицо было в густом створоженном мыле. Над головою он держал большую серебряную рыбу – и неистово ею тряс. Он запевал зловещим завываньем, остальные негритоиды подтягивали:
Eh, Yé, Yé Mamselle,
Ya, yé, yé, li konin tou, gris-gris
Li, ti, kowri, avec vieux kikordi;
Oh, ouai, yé Mamzelle Marie
Le konin bien li Grand Zombi!
Kan sôléid te kasha,
Li té sorti Bayou,
Pou, apprened le Voudou,
Oh, tingouar, yé hén hén,
Oh, tingouar, yé éh éh,
Li appé vini, li Grand Zombi,
Li appé vini, pol fé mouri!
Именно во время всех этих прелиминарий на главную палубу вышел Принц Бон Тон Рулетт и обозрел сцену. Он чуял, как палуба под ним дрожит от топота стальных ступней, а воздушный корабль дергано катит вперед сквозь припадочную ночь. Над Принцем почти прямой линией трепетали ленты бледного флагдука. Он подошел к Озимандию, который прикуривал от пылающего уголька из дымохода.
– Что творится? – осведомился он.
– Андроидное родео. – Озимандий показал на кишащих вокруг негритоидов. – Время от времени разражается, обычно если нам скучно. – Креол широко ухмыльнулся. – Мы их для него запрограммировали. Фютюр Там установил здесь металлического эквуса, как новинку для развлечения человечьей команды, но нам он вскорости надоел, и теперь вот, после малого убежденья, им пользуются только негритоиды.
Его перебил голос:
– Мне это напоминает те ночи, когда на берегах озера Поншартрен танцуют большие Королевы Ху-Ду. – Меж двух человек протиснулся Озон, коренастый пигмей с шафранными волосами. Его густо-мускулистая грудь, полуприкрытая жилетом в дамасских разводах янтарной филиграни, вздулась.
– Перво-наперво, – сказал он, – они пишуть имя человека вокруг яйца цесарки девять раз, а потом снаружи имени делають девять крестов. Когда человек этот убухиваеться вусмерть, Титу Альберту дають супную миску. Он – святой Ху-Ду, который очень любит супные тарелки. – Пигмей встал перед Озиманидием, уперев подбородок тому в кинжал для добивания врагов.
– Очень похоже на скверную ночь на Конго-сквер, – согласился Бон Тон Рулетт, прислушиваясь к тому, какие звуки издают негритоиды, выколачивая из овечьих костей на палубе ритмичное ра-та-та, ра-та-та-та. – У меня от такого мороз по коже.
– Месье Ле Цуцик, – произнес Озимандий, обратившись к пигмею по кличке, которой тот терпеть не мог. – Вам не придется очень долго переживать из-за Ху-Ду. – Он отвернулся и показал подбородком на батареи компьютеров. – Благодаря машинам «Ай-би-эм» общественные классы исчезнут, и всей вселенной наставят рога.
Меся воздух мясистыми руками, Озон произнес:
– Истинно, мы гораздо героичнее продвигаемся к борьбе рас.
– Утешительно знать, – саркастически заметил Рулетт, – что отныне компьютеры станут предоставлять размеры носов для всех наших картин и скульптур; нам придется лишь нажимать кнопку – или проявлять парочку микропленок. – Он рыкнул, мелькнув в ночи кончиком языка. – Машина «Ай-би-эм» вычистит всю пахоту и бюрократию второсортных художников.
– Не забывайте о второсортных архитекторах, – сказал Озимандий, оглядывая компьютерную машинерию. – Только подумайте, что бы из этого сделал Ле Корбюзье.
– Ле Корбюзье был придурок, – рьяно согласился принц Рулетт. Его зулусские черты дернулись, и многие татуировки, покрывавшие его лицо, пошли рябью. – Хитлер страдал от тех же иллюзий, что и бедняга Ле Корбюзье. Не забывайте, я знавал их обоих, и оба они были архитекторы. Ле Корбюзье был тварью убогой, работал в железобетоне. Человечество высадилось на луну, а вы только представьте – этот паяц, бывало, утверждал, что мы с собой потащим туда мешки с цементом. Тяжесть его ума и тяжесть бетона вполне заслуживают друг друга.
– Для Хитлера, – сказал Озон, – райнские леса были метафорой устремлений готической соборной архитектуры. – Озон извлек сворю кукурузную трубку, и из его раздутых ноздрей повалили веера дыма. – Хитлеру было хлебом не корми дай лишь этих старых тевтонских легенд про Германию лесов и охотников, живших мечом и кинжалом. – Пигмей схватился покрепче за медные леера воздушной палубы и рывком подтянулся на нижние снасти. Глядя сверху вниз на двоих человек, он произнес: – Хитлер был так парадоксален. С одной стороны – подлинный человек Двадцатого Века, использовал новейшие достижения техники, компьютеры, лазеры и все виды современных вооружений. А если их еще не изобрели, он волею своей подталкивал к их изобретению. Однако в то же время он был суеверен и мог сказать: «Das Maschinenenmenschen gehen aufeinander los, um zu entdecken, sie zwar keinen Geist besitzen, aber sterbend den Geist aufgeben können» – «Люди-машины напада́ют друг на друга, дабы узнать, как бы ни были они бездуховны, что они по-прежнему способны отречься от призрака».
– Художественно и философски он был дислексик, – проворчал Озимандий. – Поддерживал Ницше, а ассоциативно – и Шопенхауэра. Однако Шопенхауэрова теория слепой, стремящейся и неугомонной воли отнюдь не была призывом к политике, основанной на понятиях крови и расы; а его этика отрицанья жизни едва ль была близка Адольфу Хитлеру и его соратникам.
– Быть может, он намеренно пренебрегал этим толкованьем, – ответил Озон. – И, наверное, подменял эту веру сюрреальным позитивизмом, который выводил из негативизма, – положительное действие из отрицательной мысли. Сновидческая деятельность – воспитание сновидения наяву – играла большую роль в натуре Хитлера. И это тоже у них было общим с сюрреалистами.
Бон Тон Рулетт вгляделся в Озона из-под торопливых жучиных своих бровей.
– Когда обреченных французских евреев тысячами сгоняли на спортивные арены, какие некогда служили дружелюбным развлеченьям, – вот это у нас сюрреалистическая ситуация. – Он глянул на хмурый свет полумесяца, низко висевшего на востоке над Оксфордом, над Восточной Англией, над Северо-германской равниной, над Россией, над всем медленно перемалывающимся земным шаром. Он продолжал говорить: – Хитлер часто утверждал, что сюрреализм, как и он сам, возник из бунта против условий человеческой жизни в том виде, в каком они существовали в природе и обществе Девятнадцатого Века.
– Одна из особенностей истинного художника – в том, что способен превратить скуку в художественное произведение, – вставил из темноты Озон.
– Возможно, Хитлер – и прекраснейший практик сюрреализма, но отцом его был Аполлинэр, – заявил Принц Рулетт с уверенным росчерком черной своей руки. – Это Аполлинэр изобрел словечко «сюрреализм». Никто из нас не вправе сомневаться, что с его смертью некая часть парижской жизни, небезразличная к литературе и искусству, изменилась навсегда.
Озон ничего на это не сказал, но в знак тактичного согласия показал открытую ладонь.
– Смерть Аполлинэра, – продолжал Рулетт, – в ноябре 1918 года лишь на шесть лет предваряет публикацию «Первого манифеста сюрреализма». – Он вывернул наружу свою мартышечью ступню. От лодыжки и ниже левая нога его напоминала обезьянью лапу, и он поплотнее вжался кожистыми пальцами в палубу. Обезьянью шерсть его трепал ночной ветерок, но лапа проворству его вовсе не мешала, и он держал постоянное равновесие против налетавшего ветра. – Именно Аполлинэр же сказал, что нам вовсе не обязательно начинать с общепризнанной «возвышенности». Начать мы можем и с повседневных случаев. – Он двинул обезьянью лапу вперед и ею же, как третьей рукой, уцепился за леер ограждения. – Чтобы перевернуть вселенную вверх тормашками. Он умолк.
– Хитлеру никогда не хватало терпения на отдельных членов группы сюрреалистов. Он ссорился с Бретоном. И я помню Макса Эрнста – озлобленного эмигранта, в войну вынужденного осесть в Нью-Орлинзе. Я там с ним встречался далеко не раз. Наша последняя встреча состоялась жарким июльским днем 1942 года. С ним и его женой Пегги мы условились ехать на пикник. А когда я прибыл к ним, он еще не выходил из студии, где накладывал последние мазки на «Юношу, заинтригованного полетом неэвклидовой мухи». Быть может, в шутку он вручил мне свою кисть. «Вот, – сказал он, – поучаствуй. Давай изобретем с тобой живопись действия!» И я поднял кисть и тряско добавил череду красных точек, что видны под правым глазом этой парящей головы. Я так и не спросил его, что эта голова представляет. В этом не было бы смысла. Быть может, волк или лошадь, но чем бы ни была она, та вихрящаяся геометрия черных кругов его завораживала.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?