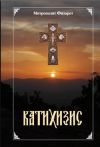Текст книги "Самоуничижение Христа. Метафоры и метонимии в русской культуре и литературе. Том 1. Риторика христологии"

Автор книги: Дирк Уффельманн
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Если самоуничижение, страдания и смерть Христа задуманы как чистый, чрезмерный дар, ломающий рамки человеческого обмена, то это соответствует экономике жертвы, см. [Brandt 2000: 250], в любом случае однократной, выпадающей из культового контекста [там же: 270].
Еще в Ветхом Завете звучит критика языческих жертвенных культов – сосредоточившись на фигуре жертвенного агнца (Ис 1:11). Наоборот, в Новом Завете представление об «агнце Божьем» воспринимается позитивно (Ин 1:29)[455]455
«… ϊδε ό αμνός τού θεοΰ ό αϊρων την αμαρτίαν τοΰ κόσμου». Cp. [Stock 1995–2001, 4: 292].
[Закрыть]; Христос и «кровь агнца» соединяются вместе (Апок 12:10 и сл.). В других местах, напротив, перенимается ветхозаветный протест против религиозных жертвенных действий, особенно в (Евр 10:5–8), чтобы тут же вновь вернуться к принесенному в жертву телу Иисуса Христа: «…έν ώ θελήματι ηγιασμένοι έσμέν διά τής προσφοράς τού σώματος ’Ιησού Χριστού έφάπαξ»[456]456
«По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр 10:10). Брандт поясняет, что для этого самоуничижение важнее, чем смерть на кресте [Brandt 2000: 270].
[Закрыть]. Также и дальнейшая история концепции жертвы[457]457
В меньшей степени речь идет о терминах («θυσία», «προσφορά»; см. [Moll 1975: 183–189]), нежели об оценке.
[Закрыть] остается неоднородной; в то время как Августин продолжает использовать фигуру жертвы [О граде Божьем, De civitate Dei X 6], до наших дней наряду с этим доходит критика понятия жертвы, ср. [Dalferth 1995: 287], которое, между прочим, создало лазейку для иного прочтения жертвы Христа у Фрейда как рефлекса на Эдипов комплекс, содержащий желание убийства отца [Freud 1991: 208 и сл.].
Ближе, чем Фрейд, подходит к «самопониманию» христианства Рене Жирар [Koschorke 2001: 108, выделено в ориг.]. Для него Евангелия в страстях Христовых инсценируют те же топики жертвы, «как и во всех мифологиях мира» [Girard 1982: 148]. За религиозным осмыслением стоит социальный автоматизм, потребность толпы в козле отпущения. Неоднородность Нового Завета при оценке жертвы является, таким образом, симптоматичной, поскольку, согласно видению Жирара, «…Евангелия разоблачают механизм козла отпущения, не называя его так» [там же: 160]. О том факте, что Иисус – это козел отпущения, «…говорит уже сам текст, причем как можно отчетливее, называя жертву агнец Господень» [там же: 170]. Хотя Жирар позже не отказывается от этой интерпретации [Girard 1999:240], он видит в эксплицитности механизма жертвы преодоление скрытого автоматизма мимесиса насилия (ср. 8.2.3). Однако и теперь Жирар по-прежнему считает, что «Иисус – это коллективная жертва» [Girard 1999: 191 и сл.]. Но только «жертвенный механизм… не может покорить себе текст, в котором он отчетливо выражен – Евангелия» [там же: 227]. Жирар утверждает тем самым парадоксальный «триумф креста»: «Вырывая из мрака механизм жертвы, которым он должен себя окружать, чтобы всем управлять, крест ставит мир на голову» [там же: 220]. На место отмененного Иисусом имитационного механизма (механизма имитации насилия как некоей имитации самовозвышения) приходит противоположный, позитивный, но не менее имитационный механизм – imitatio exinanitionis Christi[458]458
Стренски показывает, что Жирар представляет направление христоцентризма французской католической реакции, даже когда он отвергает понимание Христовой жертвы как насильственной [Strenski 1993: 204 и сл.].
[Закрыть].
Откровенно «экономические» формулировки встречаются в Новом Завете и в греческой святоотеческой литературе скорее редко. Впрочем, в Послании к Колоссянам разговор ведется в категориях долгового обязательства и погашения долга: «…έξαλείψας τό καθ’ ήμών χειρόγραφον τοΐς δόγμασιν, δ ήν ύπεναντίον ήμΐν…»[459]459
«…истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас…» (Кол 2:14).
[Закрыть]. А в Апокалипсисе с закланием агнца и, соответственно,
с жертвой Христа увязывается представление о выкупе грешных людей «для Господа»[460]460
«…δτι έσφάγης, και ήγόρασας τώ Θεω ημάς έν τώ αϊματι σου…» («…ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу…») (Анок 5:9).
[Закрыть] – то есть у продавца – диавола. Центральным понятием становится плата за «выкуп» (redemptio) диаволу, как это формулирует Ансельм Кентерберийский (Cur d.h. I 6; PL 158,366А)[461]461
Ср. [Plasger 1993: 142–144].
[Закрыть].
Мысль о жертвоприношении легитимизуется прежде всего в западном Средневековье. Ансельм Кентерберийский разрабатывает свою теорию, важнейшую в этом плане, вокруг ключевого понятия «удовлетворения» (satisfaction [Cur d.h. I 20; PL 158,392А-393В]). Человек своим грехом «ущемил честь Господа» [Cur d.h. 111; PL 158,376С][462]462
К изложению понятия чести см. [Plasger 1993: 85–98].
[Закрыть], и теперь его обязанность предоставить сатисфакцию. Измеряемая величиной греха сатисфакция[463]463
«Quod secundum mensuram peccati oporteat esse satisfactionem» («Что удовлетворение должно соответствовать мере греха») [Cur D.h. I 20; PL 158,392А].
[Закрыть]грешника, концептуализированного как должник, добровольно взята на себя Христом и искуплена. Чтобы этого достигнуть, Христу пришлось стать таким, как человек-должник. То есть Богу пришлось стать человеком, чтобы Богочеловек смог искупить человеческую вину: «…satisfactio, quam пес potest facere nisi Deus, пес debet nisi homo; necesse est ut earn faciat Deus homo»[464]464
«…удовлетворение, которое никто не может принести, кроме Бога, и которое никто не задолжал, кроме человека; [поэтому] необходимо, чтобы его принес Богочеловек» [Cur D.h. II 6; PL 158,404АВ].
[Закрыть].
При этом в меньшей степени действует гомеопатический принцип, нежели экономика чрезмерного: искупительная жертва Христа погашает вину, «…ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur, et plus in infinitum»[465]465
«…чтобы хватило для уплаты того, что причитается за грехи всего мира, и даже бесконечно больше» [Cur d.h. II 18; PL 158,425С].
[Закрыть]. Это «сверхэкономическое» уточнение не помешало тому, что с представлением о чистилище, которое формирует западное Средневековье[466]466
На фоне этого меркантильного рутинного мышления наблюдается и появление представления о чистилище на Западе в 1170-е годы [Auffarth 2002: 193–198].
[Закрыть], и в критикуемой Лютером католической практике отпущения грехов реализовалась экономико-правовая сделка обмена.
Учение Ансельма о сатисфакции создало традицию прежде всего в англосаксонской христологии; atonement рассматривается здесь как ядро христологии, см. [Rupp 1974: 2–4]. Насколько западно-англосаксонское учение об удовлетворении само по себе (а не только практика отпущения грехов) функционировало с экономико-правовой точки зрения, в католицизме остается вопросом спорным [Hoping 2004: 125 и сл.]; с протестантской, см. [Plasger 1993: 108], и в особенности с православной точки зрения, однако это учение слишком близко к меркантильному принципу соотносительности, к обмену и договору[467]467
См. [Pelikan 1971: 147–149]. Среди русских сотериологов особенно отчетливо такую склонность обозначил Хомяков [Хомяков 1995:132]. Тот факт, что в православной традиции институты практической набожности, такие как жертвование свечей, заказ молебнов и литургических услуг у монастырей, базируются для получающих деньги учреждений также на концепции экономического обмена, ср. [Steindorff 1994: 169–205], дело иное.
[Закрыть]. Поэтому авторы более поздних западных исследований предпочитают переводить satisfactio как «очищение» [там же: 124].
Рекапитуляция, обобщение.
[Закрыть]
Но почему люди вообще низменны и нуждаются в возвышении? И это возбуждаемое большинством религий предположение должно найти свое обоснование в метафизической системе христианства; как и в случае с выкупом, это система исцеляюще-историко-философская: Ириней Лионский использует для этого редкое слово Нового Завета – «άνακεφαλαίωσις», – для которого Лампе приводит значения «резюмирование», «обобщение» и «возобновление» [Lampe 1961: 106]. В Послании к Ефесянам оно используется, чтобы указать место Христа в божественном домостроении: «…εις οικονομίαν τού πληρώματος των καιρών, άνακεφαλαιώσασθαι τά πάντα έν τω Χριστώ…»[469]469
«…в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом…» (Еф 1:10).
[Закрыть]. Точкой отсчета для Иринея служит грех Адама – взаимосвязь, которая изложена в Послании к Римлянам (Рим 5:19–21). Комбинируя первородный грех и домостроение, Ириней разрабатывает теорему о том, что кенотическая жертва Христа компенсировала грехопадение Адама, а его уничижение и возвышение «обобщают» историю мира; просопопейя Адама, который у Иринея (и у других авторов), с историко-философской точки зрения, несет ответственность за начало и одновременно с морально-философской точки зрения за вину [Iren. Adv. haer. V 16, 1], может быть наглядно исцелен только с помощью другой просопопейи – Христа. Во всяком случае, именно это вычитывается в риторике Иринея о параллелизме и антитезе:
Et antiquam plasmationem in se recapitulatus est, quia quemad-modum per inobaudientiam unius hominis introitum peccatum habuit et per peccatum mors obtinuit, sic et per obaudientiam unius hominis iustitia introducta vitam fructificat his qui olim mortui erant hominibus[470]470
«И Он восстановил в Себе древнее создание [человека]. Ибо как непослушанием одного человека вошел грех и чрез грех появилась смерть, так чрез послушание одного человека введенная праведность оплодотворит жизнь людям, бывшим некогда мертвыми» [Adv. haer. Ill 21, 10; рус. пер. П. Преображенского: Ириней 2008: 308].
[Закрыть].
О кенозисе речь у Иринея заходит метонимически в цитате из (Флп 2:8):
Dissolvens enim earn quae ab initio in ligno facta fuerat hominis inobaudientiam, «obaudiens factus est usque ad mortem, mortem autem crucis», earn quae in ligno facta fuerat inobaudientiam per earn quae in ligno fuerat obaudientiam sanans. <…> manifeste ipsum ostendit Deum, quem in primo quidem Adam offendimus, non facientes eius praeceptum, in secundo autem Adam reconiliati sumus, obaudientes usque ad mortem facti[471]471
«Ибо Он, разрушая непослушание человека, бывшее вначале относительно древа, “был послушен даже до смерти, и смерти крестной”, бывшее на древе непослушание исправляя чрез послушание на древе (крестном). <…> Он чрез то ясно показал Того же Бога, Которого мы в первом Адаме оскорбили неисполнением Его заповеди и с Которым мы примирились во втором Адаме, “быв послушны даже до смерти”» [Iren. Adv. haer. V 16, 3; рус. пер. П. Преображенского: Ириней 2008: 488].
[Закрыть].
Мефодий, напротив, отчетливо связывает «άνακεφαλαίωσις» с кенозисом: «…ό Χριστόω κενώσας έαυτόν, ϊνα χωρηθή κατά τήν άνακεφαλαίωσιν… τού πάθους…»[472]472
«…Христос уничижил себя, чтобы вместить в себя всю сумму страдания…» [PG 18,73В].
[Закрыть]
Одна из заведомых целеустановок, которые нельзя недооценивать, заключается в том, что самоуничижение Христа расценивается как акт посредничества между Богом и человеком. Когда говорят о Христе как «посреднике» («μεσίτης», или mediator)[473]473
Классическая цитата для этого – (1 Тим 2:5). Энциклика «Посредник между Богом и людьми» (Mediator Dei ethominum) папы Пия XII (1947) выстраивает всю аргументацию, опираясь на строку из Послания к Тимофею.
[Закрыть], то это распространенная формула, которая применена была исторически скорее для того, чтобы примирить между собой отчетливо противостоящие одна другой целеустановки[474]474
Ср. [Iren. Adv. haer. 3, 18, 7] или [PG 26,1024В]. См. также 4.3.9.3.
[Закрыть]. У одного только Августина имеется более 200 таких мест, неоднократно со ссылкой на (Флп 2:7), к примеру, «…quando in forma servi, ut mediator esset…»[475]475
«…когда Он был в образе раба, чтобы быть посредником…» [De civitate Dei IX 15; PL 42,269].
[Закрыть]. Кальвин характеризует задачу Христа обобщенно как mediatoris officium[476]476
«Служение посредничества» [Inst. II 14, 4].
[Закрыть]. И тем не менее в этих рутинных оборотах речи, конечно, было заложено понимание того, что Христос предоставляет мост, связь между разобщенными без него полюсами, среду, которая функционирует как носитель Благой вести.
…каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт (притом социальный опыт), они должны принять какое-либо временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами (иероглиф, математическую формулу, словесно-языковое выражение, рисунок и др.).
[Бахтин 1975: 406, выделено в ориг.]
«Посредник Христос» имплицитно прочитывается как знак, как свидетельство божественного деяния – милости, любви и т. д. Наряду с этим момент указания, обозначения также возвышается и до эксплицитной цели, которая не должна отодвигаться в задний ряд: самоуничижение Христа как акт самообнаружения и самообозначения божественного в постижимых для человека, считываемых как знаки, наглядных формах. Понятно, что этот аспект играет ключевую роль для предлагаемого литературоведческого подхода к кенотической христологии. Речь идет о вопросе изображения кенозиса и кенозиса как изображения. В известной sedes doctrinae (Флп 2:5-11), как показывает ее развитие в патристике, момент превращения в опознаваемое лексически передается через «έν μορφή Θεού ύπαρχων… μορφήν δούλου λαβών»[477]477
«Он, будучи образом Божиим… приняв образ раба» (Флп 2:6 и сл., выделено Д. У.).
[Закрыть]. Насколько определяющей связь с этим фрагментом как источником стала для греческой христологии, доказывает тот факт, что «μορφή» в патристике чаще всего упоминается с прямым указанием на «μορφή δούλου» («образ раба») (Флп 2: 7); [Lampe 1961: 885].
Как в (Флп 2:6 и сл.), «μορφή δούλου» («образ раба») часто встречается в патристике в связи и в отказе от «μορφή Θεού» («образ Божий»). При этом, что касается лексемы «μορφή», то речь идет о двух природах Христа, то есть о христологическом парадоксе (см. 2), как, скажем, в греческой версии Tomus Leonis:
Τοιγαρούν δς μένων έν μορφή Θεού, πεποίηκε τον άνθρωπον, αύτός έν μορφή δούλου γέγονεν άνθρωπος·… και ώσπερ ούκ αναιρεί την τού δούλου μορφήν ή μορφή τού Θεού, ούτως τήν τού Θεού μορφήν ή τού δούλου μορφή ούκ έμείωσεν[478]478
«Точно так же [как] он, будучи во образе Божьем, сотворил человека, он же во образе раба стал человеком… и как образ Божий не упраздняет образа раба, так и образ раба не умалил образ Божий» [PL 54,766А]. Лат.: «Proinde qui manens in forma dei fecit hominem, in forma servi factus est homo… et sicut formam servi dei forma non adimit, ita formam dei servi forma non minuit» [COD 78].
[Закрыть].
Если греческие Святые Отцы сосредоточивают свое внимание на образе человеческом, то это происходит, как правило, в ересиологическом дискурсе, прежде всего в ходе борьбы с докетизмом: «…μορφήν λέγων δούλου, και ούχι αύτόν τον δούλον άνειληφέναι, και έν σχήματι λέγων τον Κύριον γεγενήσθαι, άλλ’ ούχι αύτόν τον άνθρωπον…»[479]479
«… [Валентин] говорит, что [Христос] принял “образ раба”, а не “стал рабом”, и что Господь принял образ [человека], но сам не стал человеком…» [PG 32, 969С]; см. также 2.3.1.1.
[Закрыть] «Μορφή» при этом, как и «σχήμα»[480]480
Ср. [PG 96,552В]. Встречающееся в (Флп 2:7) наряду с «μορφή» слово «σχήμα» является риторическим понятием [Brut. 17, 69], которое изредка встречается у греческих Святых Отцов также и в этом смысле [Lampe 1961: 1359].
[Закрыть], скорее опасное понятие, которого следует избегать – внушает ли он нам видимую иллюзию или риторическую неподлинность, и то и другое призвано сузить истинную бытийность вочеловечивания – как открытая речь о Боге в человеческом образе и даже о воплощении как придании образа. Впрочем, Бергер напоминает о том, что «μορφή» «является в других случаях выражением достоинства и знатности» [Berger 1994: 211].
Напротив, совершенно целенаправленно мысль об образе развивается у Мария Викторина Афра, когда он «έν μορφή Θεού» («во образе Божьем») из (Флп 2:6) практически читает как именительный падеж. Тем самым Марий Викторин дает нам своеобразное, но не отвергаемое в качестве еретического прочтение (Флп 2:6 и сл.), [PL 8,1207CD], своего рода метафизику Христа как образа Божия: «Christus ergo Dei forma est»[481]481
«Следовательно, Христос есть образ Божий» [PL 8,1207С].
[Закрыть], что Марий Викторин объясняет так:
Dictum est enim quod [Christus] forma Dei esset. Quid autem sit Dei forma? non figura, non vultus, sed imago et potentia… circumformatur enim et definitur quodammodo, id est in con-siderationem et cognoscentiam devocatur[482]482
«Утверждается, что [Христос] есть образ Божий. Но что же такое образ Божий? Не наружный вид, не черты лица, но отражение и возможность. <…> Он в известном смысле оформляется и определяется, что призвано служить для рассмотрения и познания» [PL 8,1207CD].
[Закрыть].
Согласно этим словам, происходит, таким образом, распознание непознаваемого Божественного, этого Deus absconditus — как поясняет Эрнст Бенц: «Для интеллекта постижимо только то, у чего есть форма» [Benz 1932: 83]. Вдохновленная неоплатониками теория Мария Викторина пользуется лицами Отца и Сына, чтобы описать космогонический процесс отображения[483]483
К вопросу, не удаляется ли при этом Марий Викторин от исторического воплощения и кенозиса в умозрительные высоты, см. [Benz 1932: 106–118]. О космогонических переносах кенотической модели ср. 4.4.4.5.
[Закрыть]: «Отец и Сын состоят, таким образом, в реальных метафизических образных отношениях между собой» [там же: 86].
Даже если вряд ли кто-то еще из Святых Отцов идет на замену падежа, предложенную Марием Викторином, греческие Святые Отцы также понимают воплощение как процесс, который обеспечивает людям познание божественного. Василий Великий, например, считает, что с помощью «μορφή δούλου» начинает действовать двойная направленность познания:
Ώστε ή τού Υιού ύπόστασις οίονει μορφή κάι πρόσωπον γίνεται τής τού Πατρός έπιγνώσεως· και ή τού Πατρός ύπόστασις έν τή τού Υιού μορφή έπιγινώσκεται…[484]484
«И как ипостась Сына как бы становится образом и лицом, ведущим к познанию Отца, так и ипостась Отца познается в образе Сына…» [PG 32,34 °C].
[Закрыть]
Это представление утверждается как в западной, так и в восточной церквах, ср. [Frugoni 2004: 83–85]. Самое позднее, в XVI веке эта мысль отмечается в России [Голейзовский 1981: 134]. В труде «Икона и иконопочитание» позицию Мария Викторина подхватывает и Сергей Булгаков: «Христос как истинный человек в человечности Своей есть икона Божества…» [Булгаков 1999:279].
За свободной интерпретацией падежных отношений в перикопе Филиппийцам у Мария Викторина кроется та точка зрения, что через вочеловечивание, которое ранее (см. 1.4.4) расценивается как первичная материализация, открылся путь к становлению образа божественного, к «μόρφωσις» («образование»). Автор родом из Африки, и этого греческого термина не приводит, но его хорошо знает Климент Александрийский: «Εύθύς ούν ό Σωτήρ έπιφέρει αύτήν μόρφωσιν τήν κατάγνωσιν και ϊασιν τών παθών, δείξας από Πατρός άγεννήτου τά έν Πληρώματι και τά μέχρι αύτής»[485]485
«Тот же час Спаситель приводит этот образ [раба] к осуждению и исцелению страданий, явив от безначального Отца свойства в полноте и до пределов его [образа]…» [PG 9,68 °C].
[Закрыть].
Существительное «μόρφωσις» ни в коем случае не представляет собой единственный дериват, от которого происходит павлианское «μορφή»: словно нанизанные на одну нить, возникают такие производные понятия у папы Юлия I:
Ό θεός ούν ό ένανθρωπήσας ό κύριος και προύχων τής γεννήσεως, εί και γεγέννηται από γυναικός, κύριος ών εί και μεμόρφωται κατά τούς δούλους, πνεύμα ών εί και σάρξ κατά την ένωσιν τής σαρκός άποδέδεικται, ούχ άνθρωπος ών κατά τον απόστολον εί και άνθρωπος υπό τού αύτού κηρύσσεται, και τό δλον είπεΐν, αόρατος θεός όρατώ σώματι μεταμορφούμενος άκτιστος θεός κτιστή περιβολή φανερούμενος, κενώσας μεν έαυτόν κατά την μόρφωσιν, ακένωτος δε και αναλλοίωτος και άνελάττωτος κατά την θείαν ουσίαν[486]486
«Вочеловеченный Бог Господь наш существовал одновременно до рождения, и был рожден женщиной, был господином и принял образ раба, был духом, невзирая на то, что через единение с плотью была явлена плоть, не был – согласно апостолу – человеком, хотя тот хвалил его как человека, и говорил все нижеследующее: “Бог невидимый воплотился в видимую плоть, несотворенный Бог явился в сотворенном окружении, опустошил себя самого в соответствии с воплощением, но был неопустошаем, и неизменен, и неумалим по божественности природы своей”…» [PL 8,873D-874A].
[Закрыть].
Примечательно, что Юлий применяет к Христу также и глагол «μεταμορφεϊν» («превращаться»).
Из всего этого становится ясно, что не только христологическая антириторика сама себя деконструирует – согласно парадоксу (см. 2.10.1), теперь и через «μορφή», «μόρφωσις» и «σχήμα»[487]487
О христологическом применении этого родственного с риторикой термина см. 3.1.2.
[Закрыть] – но и что исключение перемены («τροπή», «μεταβολή»; см. 2.3.3) в божестве выдерживается не на сто процентов: там, где не приводятся четкие аргументы против теопасхизма, там относящаяся к «μορφή» языковая деривация – так сказать, своим ходом, без посторонней помощи – вносит понятия, связанные с переменой, в христологию. Необходимость повествования о Христе вводит в христологию как – потенциально докетический – образ, так и – потенциально теопасхистскую – перемену образа; именно к этой нарративной неотъемлемости может привязываться литература – в виде литературных образов или персонажей, и в виде повествования об изменениях (см. 5-10).
Из того двойного описания, которое Василий Великий указывает относительно познания – от образа Сына к Отцу и от Отца к познанию в Сыне (см. 3.1.3), – видно, что «μόρφωσις», или, соответственно, воплощение, – функционирует в двойном смысле – как становление образа, вместе с которым с позиций богословского логоцентризма внушается, что некое содержание, которое до сих пор существовало, не обладая формой, теперь форму обретает, но что это наделение формой прежде всего инициировано бесформенным содержанием, которое, хотя в форме и отсутствует, но воссияет позади него[489]489
Так гласит провозглашенная Кевином Хартом деконструктивная интерпретация метафизики [Hart 1989: 11 и сл.], которая в понимании Деррида свойственна любой теологии [там же: 21].
[Закрыть]. Одновременно такое воплощение происходит и наоборот – как моделирование некоего лишь мнимо фиксированного (догматического) содержания посредством его оформления людьми (через культуру)[490]490
Развитие спектра медиальных оформлений догматического содержания было предпринято еще Алексом Штоком в его «Поэтической догматике» [Stock 1995–2001].
[Закрыть]. Христология подвергается воздействию через формы ее воплощения[491]491
Чем сильнее немецкое понятие Gestalt («образ») заражалось определенной, простирающейся до Эрнста Юнгера традицией [Franz 1995: 5–7], тем все более повсеместным становилось угасание абсолютно по-другому ориентированной, а именно христологической понятийной традиции в немецкой истории этого понятия [Metzger/Strube 1974]; [Franz 1995]; [Buchwald 2001]; исключение составляют историко-понятийные аспекты в систематико-теологической версии Манца [Manz 1990: 49-126]. Поскольку здесь речь идет о христологической понятийной традиции, использование понятия образа {Gestalt) может быть простительным. Впрочем, сюда можно добавить ту систематизирующую точку зрения, согласно которой в данном исследовании вдохновляющей может оказаться и немецкая традиция – это прежде всего связанный с Гёте интерес к преображению и метаморфозе [Goethe WA II 6: 25 и сл.]. Дело в том, что понятие Gestalt в восходящей к Платону немецкой традиции ассоциируется не только с дуализмом бытия и мнимости, идеи и явления, см. [Buchwald 2001: 824], и эмфатически наделяется целостностью, как в морфологических исследованиях литературы [там же: 837 и сл.]; наряду с этим существует также целостно-критическое направление: в то время как морфологическое рассмотрение литературы, например Пропп [Пропп 1998: 5], ссылается на Гёте, понятие Gestalt у Гёте – если судить по новейшим прочтениям – поворачивается разными сторонами в диапазоне от понятия формы, указывающей на вероятное предшествующее другое, к точке зрения, согласно которой «за феноменами ничего нет» [Goethe WA II 11: 131], и образ – это сама вещь. Теми же напряженными отношениями характеризуется предлагаемая читателю двойственная перспектива взгляда на павлианское понятие «μορφή» – от христологической суггестии становления образа до историко-культурного описания как оформления.
[Закрыть], так что это оформление ни в коем случае не является только elocutio, но и inventio Christi (ср. 1.6.1 и 2.9.1).
Именно это двойное прочтение момента познания вырабатывает деконструктивная критика относительно логоцентрического понятия репрезентации. В то время как теология ставит означающее на второе место после prius а трансцендентного сигнификата, деконструкция утверждает предшествование означающего [Derrida 1967]. Представление об инкарнационном становлении образа обслуживает – если рассматривать дело так – логоцентрическое представление о теофании как становлении присутствия божественного и предвидении сакрального как знаменательном акте[492]492
Намеки Деррида по поводу учения о Логосе содержатся в Gias [Derrida 1974: 77–79]. Ср. также [Taylor 1987: 7].
[Закрыть]; это провидческое становление присутствия мыслится в христологии как идущее от агенса[493]493
У Сергея Булгакова всякий производный образ последовательно происходит из Первообраза Бога Отца [Булгаков 1999:273 и сл.]; Христос в таком случае занимает лишь промежуточную ступень.
[Закрыть], а не от знака. Напротив, сигнификативная теория деконструкции видит человеческое оформление с помощью знаков как такой процесс, который перформативно конституирует и референта. Эти позиции непримиримо противостоят одна другой: так о чем идет речь – о самообозначении Божественного, или же – как утверждал еще Фейербах – о проекции человеческих практик обозначения на мнимо внечеловеческий центр (Логос), которому приписывается та деятельность, которая, по сути, является актом человеческого постулирования?
Если самопрезентация Божественного подпадает под подозрение, что она есть проекция, тогда и все человеческие репрезентации этой мнимо первичной презентации оказываются под угрозой. Всякая попытка репрезентации, Перво-Презентации, зафиксирует в таком случае врожденную ошибку «христологического, логоцентрического союза» [Hansen-Love 2002: 173].
В богословии репрезентация с самого начала была жгучей проблемой, правда, такой диагноз, равно как и задорное выплескивание наружу негативистских эмоций – это исторически приходится только на эпоху модерна и постмодерна. Но дело всегда обстоит теперь так, – по крайней мере, в истории христианства – что репрезентация «сама может показать разницу [языка и мира]» [Weimann 1997: 9]. И отнюдь не только литература эпохи модерна стала разделять, с одной стороны, означающее и означаемое и, с другой – Бога и человека[494]494
Как считает Хиллис Миллер [Hillis Miller 1963: 3], «в ходе этой эволюции слова постепенно выхолащивались и теряли свое существенное место в материальной или духовной реальности» [там же: 6].
[Закрыть]. В качестве лекарства для несказанности уже в богословской традиции действуют риторические тропы[495]495
Параболы, метафоры, парадоксы (см. 2.10.1 и [Cameron 1991: 156 прим. 3]).
[Закрыть].
Точно так же, как тропы/манера речи или риторика вообще, понятие repraesentatio балансирует на узкой с теологической точки зрения грани между привлечением Божественного и пропастью его искажения с помощью человеческих знаков. Это проявляется уже у Тертуллиана, «теоретика репрезентации», «репрезентативного» для поздней Античности. Во-первых, он возражает против Праксея: «Igitur et manifestam fecit duarum personarum coniunc-tionem ne Pater seorsum quasi visibisi in conspectu desideraretur et ut Filius repraesentator Patris haberetur»[496]496
«Он [Христос] указал, таким образом, на два связанных между собой лица, чтобы никто потом не захотел посмотреть на Отца отдельно, так, словно сам Он видим, и затем, чтобы на Сына не смотрели как на кого-то, кто делает Отца присутствующим» [Adv. Ргах. 24, 8].
[Закрыть]. Во-вторых, Тертуллиан заявляет, что именно через слова и дела Сына можно увидеть Отца (per ea videtuF[497]497
«Через них его видно» [Adv. Ргах. 14, 9].
[Закрыть]). К этому следует добавить два непременно цитируемых в работах о repraesentatio фрагмента из Тертуллиана, в которых репрезентация оказывается легитимным представлением или созданием ситуации присутствия – при евхаристии (см. 3.2.3) и при соборном понятии церкви (см. 3.2.8).
Парадоксальная, невозможная цель презентации испытывает в случае репрезентации Божественного всего лишь усложнение общей проблемы. Когда же соединяются (вечный) кризис репрезентации (внеисторическая «трансцедентальная бездомность» Лукача [Lukacs 1971: 32]) и непостижимость Божественного (своего рода неизвестный трансцендентный адрес), проблематика становится еще острее.
Помещенный Фуко в определенный исторический контекст (в XVII век [Foucault 1966: 73]) кризис предсказания (divination) и удвоенной репрезентации [там же: 77], к которому примыкает деконструктивистский скептицизм по поводу репрезентации [Werber 2003: 284–288], тем самым не является чем-то новым, а обозначает всего лишь очередное осознание некой проблемы, которая в одних исторических формациях отодвигалась в сторону успешнее (хотя никогда полностью не удаляется), чем в других[498]498
В качестве примера осознанной рефлексии называют обычно иконоборчество в Византии или ранний немецкий романтизм (ср. об этом, напр., [Finlay 1988]), тогда как среди традиционных суждений, например, эпоха рекатолизации или реализм считались в этом отношении менее осознающими проблемы, что, однако, тут же можно подвергнуть деконструкции.
[Закрыть]: «На самом деле в образе содержится от содержания только то, что он репрезентирует, и тем не менее это содержание кажется репрезентируемым только путем репрезентации» [Foucault 1966:79]. Специфический предмет инкарнационной презентации и его медиальной репрезентации, вокруг которого возникла дискуссия в византийском иконоборчестве (см. 3.4.5.1), в любом случае иллюстрирует тот факт, что диагностированное Фуко проблемное сознание Нового времени восходит к более старым, предшествующим формам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?