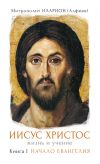Текст книги "Иисус Неизвестный"

Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 62 страниц)
Два Иоанна, два брата-близнеца, с очень похожими лицами, в полутемной комнате – эфесской общине конца I века. Если уже в середине II века их не различают и принимают одного за другого, то тем более – в XX веке. Мы знаем, что один из них – тот самый, – тело, а другой, не тот, – тень; но какой из двух настоящий, мы не знаем и, сколько бы ни катали Сизифов камень, вероятно, никогда не узнаем.
Только внутреннее опять свидетельство самого Евангелия кидает внезапный луч света в полутемную комнату. Когда мы читаем: «ученик, которого любил Иисус», то слишком естественно возникает подозрение все того же «музыкального слуха», что пишущий – не тот, за кого он себя выдает; что он только ссылается на «любимого ученика Господня», как на «свидетеля». – «И видевший – (не пишущий, а кто-то другой) – засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили» (Ио. 19, 35). Этого-то третьего лица, «ученика, которого любил Иисус», высоким покровом и осеняет себя «Евангелист Иоанн»; на его-то непреложное свидетельство, как «очевидца», он и ссылается, потому, конечно, что сам – не очевидец. Будь пишущий этим третьим лицом, – предположить, что он выдвигает себя на первое место, скрываясь под слишком прозрачною маскою, – то «я», то «не я», – было бы еще невозможнее, нестерпимее для «музыкального слуха», чем если бы он это делал с открытым лицом.[138]138
Правда, в последней главе, «ев. Иоанн» как будто подымает маску: «Сей ученик – (которого любил Иисус) – и свидетельствует о сем и написал сие» (216, 24). Но эта глава, как мы точно знаем (с этим соглашаются и церковные критики), прибавлена уже позднее, и не самим «ев. Иоанном». – Joh. Weiss, IV, 33.
[Закрыть]
Как ни призрачно для нас мерцают, перемежаются и здесь два схожих, слабо освещенных лица, – нам все-таки ясно, что это не одно лицо, а два.
И вот сама собою возникает простейшая, но потому и труднейшая, гипотеза о двух Евангелистах Иоаннах, Пресвитере и Апостоле.
Может быть, «ученик, которого любил Иисус», имел обыкновение рассказывать ближайшим ученикам своим жизнь Иисуса не совсем так, как делали это «Батанейские люди предания», те, кем записаны досиноптические logia; может быть, кое-что знал он, чего не знали, или что хуже знали те, – значительную часть Иисусова служения, протекшую не в Галилее, а в Иудее; знал и ближайших к Нему лиц и подробности жизни Его, которых опять-таки не знали или хуже знали те.
Верно, – может быть, вернее синоптиков, – угадывает Иоанн, чего хотел, Иисус. Что Он делал, мы узнаем от Марка, что говорил, – от Матфея; что чувствовал, – от Луки; а чего хотел, – от Иоанна, и, конечно, самое первичное, подлинное – в этом – в воле. Вот почему Иоанн возвращает нас, как это ни странно звучит, к наиболее исторически-подлинному Иисусу – к Тому же, Кто и у Марка-Петра; к первому свидетелю возвращает нас – последний; Иоанн, как никто из Евангелистов, соединяет «прославленного» Христа, небесного, с Иисусом земным, на основании опыта, сделанного, вероятно, в непосредственной и единственной, к этому земному Иисусу, близости.
Павел если не сам для себя, то в своем церковном, будущем действии, отторгает Иисуса земного от Христа небесного; Иоанн соединяет их.
Павел не знает, не хочет знать «Христа по плоти», так, по крайней мере, понят он опять-таки в своем церковном действии; Иоанн – хочет. Павел, в этом смысле, ближе к докетам, «каженникам», прошлым и настоящим, нежели Иоанн, всею силою прикрепляющийся к плоти Христовой («возлежал на груди Господа»). – «Слово стало плотью», – здесь для Иоанна, не так как для нас, главное ударение не на «Слове», а на «плоти»: «Плотью стало Слово». В этом передвижении слов – передвижение, превращение всей христианской «полярности»: где плюс, там минус, и наоборот. Это, впрочем, сказать и даже понять сравнительно легко, но сделать очень трудно. Тут передвижение, apokatastasis, целых космических порядков, эонов; нужно для этого чтобы «силы небесные поколебались» – «передвинулись».
«Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста» (Ио. 4, 3). С большею силою нельзя сказать:
«Я знаю – знайте и вы Христа по плоти».
В том-то и заключается для Иоанна неполнота синоптиков, что они недостаточно открывают – как это опять ни странно звучит – Иисуса во Христе, Человека в Боге. И вот почему вся полнота христианства, плэрома его, действительно, – только в IV Евангелии.[139]139
Renan, L'Eglise Chrétienne, 1923, p. 57–59. Судя по тому, что Отцы II века – Юстин, Игнатий, Псевдо-Климент и другие – приводят многие слова ев. Иоанна, не ссылаясь на само Евангелие и, по-видимому, ничего о нем не зная, существовало тогда, помимо синоптиков и досиноптического письменного источника, иное, устное, так сказать, рассеянное в воздухе, предание – «живой, неумолкающий голос». Этого-то предания часть, этого голоса отзвук, может быть, и сохранил один из ближайших учеников ап. Иоанна, – «Иоанн Пресвитер».
Гностик Базилид, уже в 125 г., пользуется словами ев. Иоанна; следовательно, само Евангелие могло быть написано еще в конце I века (84–105 гг.) «во дни Траяна», т. е. очень близко к синоптикам. – Weizsäcker. Unterschungen über die Evang. Geschichte, 149. – С. Clemen, Die Entstehung des Johannes-Evangeliums, 182.
Место написания, кажется, одна из малоазийских общин, всего вероятнее, Эфесская, где происходит вечная борьба Востока с Западом, Иоанна с Петром, Эфесской церкви «посвященных», «избранных», с Римскою, «простонародною», vulgata, церковью «для всех». Здесь-то четвертое, новое, более совершенное, «духовное». Евангелие и пожелали противопоставить трем остальным, «плотским». «Многие уже пытались» составлять повествования (conati sunt, только «пытались», но неудачно, по толкованию Оригена, Homel. in Luc., l), – мог бы сказать, так же как Лука, и четвертый Евангелист о синоптиках. Первоначально это новое Евангелие предназначалось, может быть, только для тесного круга «посвященных», «могущих вместить», но, в дальнейшей ступени развития, обнародовано, и тогда только приписано «ап. Иоанну», в чем, разумеется, нет никакого «подлога»: оно ведь хотя и не Иоанна «Апостола», но «от Иоанна», действительно. – Weiss, IV, 7.
Надо быть очень, едва ли даже не слишком, осторожным скептиком, чтобы все эти доводы считать все еще только «гипотезой», а уже не открытием, что, впрочем, не значит, что открытие это скоро будет всеми признано и люди наконец перестанут «катать Сизифов камень».
[Закрыть]
Но Иоанн все-таки ближе к синоптикам, чем это может казаться.
Стоит только сравнить слово Господне у Матфея, 11, 27: «Все предано Мне Отцем, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть», с Иоанновым, 14, 6: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – чтобы увидеть, что здесь, «на почве синоптиков, болид Иоаннова неба».[140]140
A. Arnal, La personne du Christ, 1804, p. 33.
[Закрыть] Кто у кого это взял, Иоанн у синоптиков или они – у него? Это так не похоже на них; Иисус говорит, здесь, у Матфея, таким Иоанновым голосом, что левые критики решают с легкостью: «Так не мог говорить Иисус: это позднейшая вставка». Почему же не мог? Не потому ли, что для новых Алогов, «Бессловесников», так же несомненно, как для древних, что Иоанн «лжет»?[141]141
«Между Марком и Иоанном нет разницы, по качеству, есть только – по количеству исторической правды», – сказано в середине XIX века, Бруно Бауэром (M. Kegel, Bruno Bauer, 1908, S. 40), и повторено в начале XX века. Вил. Вреде (W. Wrede). Это значит: если «лжет» Иоанн, то «лгут» и синоптики; но ведь и обратно: если те говорят правду, то и этот. Их принять, а его отвергнуть нельзя; можно только их вместе с ним принять или отвергнуть.
Что такое припадки «острого помешательства», знают все; но немногие знают, что такое припадки, если можно так выразиться, «острой тупости», а эти, пожалуй, опаснее тех, особенно в религии.
«Кол ему на голове теши, не поймет, что Иоанн не Керинф», – может быть, думал бедный папа Зефирин, измучившись с Кайем, «Бессловесником», добрым католиком, даже святым человеком и неглупым, но внезапно «остро глупевшим», именно в этом одном «пунктике», что Иоанн «лжет». Так же точно глупеют и нынешние «Бессловесники».
[Закрыть]
«Если дело идет о том, чтобы знать, что Иисус говорил, то IV Евангелие не имеет никакой цены, но оно выше синоптиков по изображению того, что Он делал», – полагает Ренан, как будто можно отделить в человеке, и тем более таком человеке, как Иисус, то, что Он говорит, от того, что Он делает.[142]142
Renan, L'Eglise Chrétienne, 58.
[Закрыть]
Двух Иоаннов в одном Евангелии мы глазами не видим, но как осязаем – видим кончиками пальцев сквозь ткань два завернутых в нее предмета, – так и этих двух.[143]143
«Два слоя» в Иоанне видит Вельгаузен, А и В: нижний, первичный, где еще просвечивает Галилейский план Марка-Петра, первого свидетеля, и верхний, вторичный, где этот план уже стерт. – Wellhausen, Das Evangelium Johannis, 190, S. 102–103, 107, 110. – Те же два слоя, «основу» A (Grundschrift), и «обработку» В (Bearbeitung), видит и Фр. Спитта. «Может быть, А – древнейшее свидетельство о жизни Иисуса… важнейший для нас исторический источник» – Fr. Spitta, Das Johannes-Evangelium, 401. Если так, то и здесь, у Иоанна, так же как там, у синоптиков, – темное в светлом доме, окно в глубокую, древнюю ночь Иисуса Неизвестного.
Сделаны были попытки отделить А от В; но в самой разности разделяющих линий (Spitta – Wellhausen) виден произвол и невозможность провести их с точностью. Олова от меди в бронзе изваяния не отделишь, не расплавив. Если бы и нашелся огонь, чтобы расплавить Иоанна, кто отольет его в старой форме заново? Но и в Иоанне, таком, как он есть, эти два слоя «кончикам пальцев» осязательно видимы.
[Закрыть]
Два человека: один – тот, которого мы называем «Апостолом Иоанном», говорит; а другой – «Пресвитер Иоанн» – слушает; тот вспоминает, этот запоминает и, может быть, записывает тотчас, или потом, или со слов его другие запишут; но, сколько бы ни было дальнейших передаточных лиц, – первых, главных, два.
Два свидетеля, – более близкий и более далекий. Тот, первый, уроженец Палестины, не мог не знать или забыть, что людям многоводного Сихема (Sychar) незачем ходить за водой к колодцу Иакова, далеко за город, или что на Масличной горе пальмы не растут;[144]144
Wellhausen, 1–25.
[Закрыть] но второй, в Эфесе, мог предпочесть для вшествия в Иерусалим Царя уже не Израиля, а мира, классические «пальмы победы» – смиренным, иудейским зеленым веткам и травам, stibadas (Мк. 11, 8); эти живые, весенние, с пахнущими клейкими листочками, насколько подлиннее тех мертвых, безуханных! Первый не мог забыть, что не «Моисей дал Иудеям обрезание», и что иудейские первосвященники ежегодно не сменяются. Только первый помнит – видит глазами – перед судейским креслом Пилата, мозаичный помост, «лифостротон» – «гаваффу» (и здесь, сквозь греческий перевод – арамейский подлинник, Ио. 19, 13).
Вот по таким-то черточкам и видно, что все пишется здесь, говорится, «не для того, чтобы доказать, а чтобы рассказать», ad narrandum, non ad probandum. И только у первого, в бесконечных, нам уже почти непонятных и как будто ненужных, «талмудических», спорах с иерусалимскими книжниками, sopherim, сам Иисус, так же как у Матфея, – настоящий Софер, иудейский Rabbi Jeschua.[145]145
Weizsäcker, Untersuchungen, 168.
[Закрыть]
Только первый мог сохранить и чудный рассказ об Иисусовых братьях – «целое маленькое сокровище для историка», как верно замечает Ренан.[146]146
Renan, Vie de Jesus, 500.
[Закрыть] Эти, у Иоанна, когда искушают Брата так осторожно-лукаво и холодно-язвительно: «Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (7, 1–8), может быть, хуже тех, у Марка, когда они просто и грубо, как «мужики» галилейские, хотят «наложить на Него руки», связать «сумасшедшего» (3, 21). Это, как ослепительная вспышка магния в темной комнате или зарница в темной ночи, кидает внезапный, обратный свет на «тридцать три года», от Рождества до Крещения, – самые темные для нас, неизвестные годы Иисуса Неизвестного.
Или, может быть, еще драгоценнее – первая встреча ученика с Учителем «в Вифаваре» – (в древнейших рукописях, «Вифания», Bethania), – где крестил Иоанн:
На другой день опять стоял Иоанн (Креститель) и двое из учеников его.
И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
Услышав от Него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом.
Иисус же, обернувшись и увидев идущих, говорит им: что вам надобно?
Они сказали Ему; Равви! (что значит «Учитель») где живешь?
Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа (Ио. 1, 35–39).
Кто мог бы все это знать, кроме того, кто сам это видел, и кому нужно было это запомнить, – кто сам это пережил? В этом одном; «около десятого часа» (не по часам же справлялся нарочно, а по солнцу, привычно-нечаянно, как галилейский рыбак), в этом одном запечатлелось для него все навсегда, неизгладимо, с «фотографической», как мы сказали бы, четкостью: первый, вечереющего солнца склон («десятый час» от восхода – четвертый пополудни); быстрая, желтая, в зеленых тростниковых и ивовых зарослях, воды Иордана; плоские, круглые, белые, как «хлебы Искушения», камни Иудейской пустыни,[147]147
L. Schneller, Kennstdu das Land? 351. – G. Dalman, Orte und Wege Jesu, 106.
[Закрыть] и, может быть, в солнечном луче, из-за грозовой тучи, как из «отверстого неба», слетающий голубь; а главное – Его, Его лицо, и даже не лицо, а только глаза, только взгляд, когда, услышав сзади Себя шаги, Он вдруг, на ходу, обернулся, остановился и взглянул, сначала на обоих, Иоанна и Андрея, а потом на одного Иоанна, и в первый раз глаза их встретились; может быть, с этим-то первым взглядом Иисус и полюбил его, так же как того «богатого юношу» (Мк. 10, 17–24), но и совсем, совсем иначе. Как же было всего этого не запомнить, не сохранить – для кого? для всех людей, до конца времен? – нет, для себя, для себя одного, и еще, может быть, для Того, Который тоже помнит всегда.
Зрительный образ Любимого, как запечатлелся тогда, живой, в живом зрачке любящего, так и вспыхнет потом, в мертвом, – живой.
В этом-то зрительном образе и сходится Марк-Петр с Иоанном, первый свидетель – с последним.
Может ли один человек говорить двумя голосами такими разными, как Иисус у Иоанна и у синоптиков? Арфа может ли звучать, как флейта? Вот главный и, в сущности, единственный, довод скептиков против «историчности» Иоанна. Прямо ответим на прямой вопрос: может. Если всякий человек может не только говорить голосами разными с разными людьми и в разных обстоятельствах, но и быть разным, как будто противоречащим, противоположным самому себе, на самого себя непохожим, новым, неожиданным, неузнаваемым, то почему же этого не может человек Иисус? Он, всего человеческого полнота, плэрома, не должен ли быть разнообразнейшим, согласно-противоположнейшим? Мог ли Он говорить с галилейскими «толпами», ochloi, тем же голосом, как наедине с учениками (иногда, «в темноте», «на ухо»); или ночью, с Никодимом, так же как днем, с фарисеями; мог ли Он сказать Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин» (Мт. 16, 17) тем же голосом, как Иуде: «целованием ли предаешь Сына человеческого?» (Лк. 22, 48).
Что же из того, что иудейская арфа не так звучит, как свирель галилейская? Там, у синоптиков, слово Его человечески-просто, всегда кратко (даже длинные речи у Матфея сложены из отдельных кратких слов); всегда ясно; иногда едко, сухо-солоно («соль добрая вещь»; «соль имейте в себе»). А здесь, в IV Евангелии, длинно, сложно; иногда как будто темно и туманно; текуче, как драгоценное миро, и амбразийно-сладостно. Там, как бы в самой Галилее, – солончаковой пустыне, у Мертвого моря, сухой ветерок; а здесь, как бы в самой Иудее, – райских лугов Галилейских росные ладаны. Но и здесь, и там, одинаково: «никогда человек не говорил так, как этот Человек» (Ио. 7, 46). Вот это-то «никогда», эта единственность, ни с каким человеческим словом несоизмеримость, и есть общий признак слов Господних у Иоанна и у синоптиков, – подлинности равной на них печать. А будет или не будет для нас признак этот убедителен, уже зависит от остроты или тупости нашего «музыкального слуха».
«Не бес ли в Тебе?» – у Иоанна (7, 20); «Сошел с ума», – у Марка (3, 21), – это, кажется, будет всегда первое, самое глубокое, искреннее, что могут сказать люди, может сказать мир, как он есть, о словах человека Иисуса. «Какие тяжкие, жестокие слова, ski êroi! Кто может это слушать?» (Ио. 6, 60). Люди так не говорят; не могут, не должны говорить; этого нельзя вынести: от мировой текучести длинных, в IV Евангелии, как бы «эллинских», речей, так же как от соленой сухости кратких, у синоптиков, арамейских logia – это впечатление совершенно одинаково.
Крайняя степень нечеловеческой единственности – невыносимости, невозможности для человеческого слуха (Бетховен оглох, чтобы услышать, может быть, нечто подобное) достигается, как верно подметил Велльгаузен, в Первосвященнической молитве последней земной речи Господа (Ио. 17).
Как бы однозвучный, в страшно-пустом и светлом небе, «колокольный звон», где составные части одного аккорда, сочетаясь в каком угодно порядке, то наплывают, подымаются, как волны прилива, то падают», и опять подымаются – все выше и выше, к самому небу.[148]148
Wellhausen, 110: «auf und abwogen».
[Закрыть]
Три составные части аккорда: первая – «Ты дал Ему». – «Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, он даст жизнь вечную…» – «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне, Я передал им»… – «Я молю о тех, которых Ты дал Мне»…
К этой первой части присоединяется и сплетается с нею вторая: «прославь Меня». – «Отче! прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя…» – «Я прославил Тебя»… – «И ныне прославь Меня…»
Третья часть: «послал Меня». – «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир…» «Да познает мир, что Ты послал Меня…» – «И сии познали, что Ты послал Меня…»
И, наконец, все три части сливаются в один аккорд – в соединяющее небо с землей, острие пирамиды – высшую, когда-либо на земле словом земным достигнутую, точку:
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет,
И Я в них (Ио. 17, 21, 26).
Колокол затих; нет больше звуков, – все умерли в страшной – страшной для нас – тишине, как в белом свете солнца умирают все цвета земли.
Но и в тишине волны все еще растут, подымаются, выше и выше, к самому небу – «к той совершенной радости» – «радость ваша будет совершенна» (Ио. 15, 11), – к той солнечной дымке палящих лучей, где дневные звезды горят светлей ночных, как Божества,
В эфире чистом и незримом.
Это самое святое, что есть на земле, и самое тихое; тут, может быть, тишина всего невыносимее, невозможнее для нас. Сравнивать это с буйным, а иногда и грешным, Дионисовым экстазом было бы не только грубо кощунственно, но и просто неверно. А если бы и можно было сопоставить в чем-то это с тем, то не безусловно, религиозно, а лишь очень условно, исторически.
«Вышел из себя», έξέστη, – говорили о посвященном в Дионисовы таинства – тем же словом, как у Марка братья говорят об Иисусе (3, 21). Exeste – extasis, кажется, греческий перевод того арамейского слова, messugge, «исступленный», «сумасшедший», каким иногда ругалась безбожная чернь над святыми пророками Израиля, nebiim, потому что «исступление», «выхождение из себя», и есть начало всех «экстазов», святых и грешных.[149]149
H. Gressmann, Palästinas Erdgeruch in der israelitischen Religion, 1909; S. 40–41.
[Закрыть] Это хорошо знали в Дионисовых таинствах.
Я семь истинная виноградная лоза,
а Отец Мои – виноградарь,
говорит Господь над чашей вина, по Иоанну (15, 1), – Вина-Крови, по синоптикам. Что и это значит, поняли бы совсем или отчасти, верно или неверно, в Дионисовых таинствах.
«И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мт. 26, 30). Песнь воспели Пасхальную, громовую Hallela, Аллилуйю, – исступленно-радостную песнь Исхода, ту, о которой говорит Талмуд: «С маслину – Пасха, а Галлела ломает кровли домов».[150]150
Dalman, Jesus-Jeschua, 120.
[Закрыть] Та же радостная песнь, но иногда Исхода, большого – духа из тела, «Я» из «Не-я», – звучала и в Дионисовых таинствах.
И, наконец, главное, – исступляющее однообразие движений в Дионисовых плясках – повторение все тех же звуков в песнях – однозвучность «колокольного звона»: «что это, учитель, ты повторяешь все одно и то же?»
В апокрифических «деяниях Иоанна», Левкия Харина (Leukios Charinos), Валентиновой школы гностика, от конца II века, значит, одно-два поколения после IV Евангелия, и кажется, из того же круга учеников Иоанновых в Эфесе, где родилось это Евангелие,[151]151
W. Bauer, Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentalischen Apokryphen., 1909, S. 42.
[Закрыть] – Иисус говорит Двенадцати, на Тайной Вечере:
Прежде чем буду Я предан,
песнь Отцу воспоем…
И в круг велел нам стать
Когда же взялись мы за руки,
Он, встав в середине круга,
сказал отвечайте: Аминь.
И воспел говоря
Отче! слава Тебе.
Мы же ходили по кругу, отвечая:
Слава Тебе, Слово – Аминь.
Слава Тебе, Дух – Аминь.
Быть спасенным хочу и спасти. – Аминь.
Быть ядущим хочу и ядомым. – Аминь
Буду играть на свирели, – пляшите. —
Аминь.
Плакать буду, – рыдайте. – Аминь.
Восьмерица Единая с нами поет. —
Аминь.
Двенадцатерица пляшет с нами. —
Аминь.
Пляшет в небе все, что есть. – Аминь.
Кто не пляшет, не знает свершенья. – Аминь.[152]152
Acta Johannis, с. 94–95. – Hennecke, I, 186.
[Закрыть]
В звонкой меди латыни (у бл. Августина, о Присциллианских Тайных вечерях) это еще «колокольнее», однозвучнее:
Salvare volo et salvari volo.
Solvere volo et solvi volo…
Cantare volo, saltate cuncti.[153]153
Augustin., epist. 237, ad Ceretium. – Hennecke, II, 529.
[Закрыть]
И опять в «Деяниях Иоанна»:
Пляшущий со Мною, смотри на себя —
во Мне, и видя, что Я творю, молчи… В
пляске познай, что страданием твоим
человеческим хочу Я страдать…
Кто Я, узнаешь, когда отойду.
Я не тот, кем кажусь[154]154
Act. Johannis, с. 95. – Hennecke, I, 187.
[Закрыть]
Это и значит: «Я – Неизвестный».
Может быть, нечто подобное, хотя и совсем иное (кто же поверит, чтобы ученики могли плясать на Тайной Вечере?), более неизвестное, страшное для нас, потому что тихое, как то, ученику возлежавшему на груди Иисуса, чуть слышное биение сердца Его, – тихое, но ломающее уже не кровли домов, а самое небо, – может быть, нечто подобное действительно происходило в ту ночь, в «устланной коврами, высокой горнице», анагайоне, в верхнем жилье иерусалимского дома, где, стоя у двери, жадно подслушивал и подглядывал хозяйкин сын, Иоанн-Марк.
Два свидетеля: этот четырнадцатилетний мальчик, вскочивший прямо с постели, завернутый в одну простыню по голому телу, Иоанн-Марк, и тот столетний старец, закутанный в драгоценные ризы, первосвященник, с таинственно на челе мерцающей, золотою бляхою, пэталон, Иоанн Пресвитер. Два свидетельства – чем противоположно согласнее, тем правдивее. Только одно из них писано не рукой очевидца, но и в нем бьется сердце того, кто видел. Если же нам и этого мало, то, может быть, только потому, что для нас Евангелие – уже мертвая буква, а не «живой неумолкающий голос», и мы уже не знаем, что значит:
Вот, Я с вами во все дни, до окончания века. Аминь (Мт. 28, 20).
5. По ту сторону ЕвангелияТолько благодаря Канону, мы еще имеем Евангелие. Надо было заковать его в броню от скольких вражьих стрел – ложных гнозисов, чудовищных ересей; в каменное русло водоема надо было отвести живые воды источника, чтобы не затоптало его человеческое стадо, не сделало из них, страшно сказать, мутную лужу «Апокрифов» (в новом, конечно, церковном смысле, – «ложных Евангелий»); надо было нежнейший в мире цветок оградить от всех бурь земных скалою Петра, чтобы самое вечное в мире, но и самое легкое – что легче Духа? – не рассеялось по ветру, как пух одуванчика.
Это и сделал Канон. Круг его замкнут: «пятое Евангелие» никем никогда не напишется, а четыре дошли до нас и, вероятно, дойдут до конца времен, как они есть.
Но если воля Канона – не двигаться, не изменяться, быть всегда тем, что он есть, а воля Евангелия – вечное изменение, движение к будущему, то благодаря Канону, мы уже не имеем Евангелия. Вот один из многих парадоксов, кажущихся противоречий самого Евангелия.
Логика Канона доведена до конца в церкви средних веков, когда запрещено было читать Слово Божие где-либо, кроме Церкви, и на каком-либо ином языке, кроме церковного, латинского, так что мир остался, в точном смысле, без Евангелия.
Рост человеческого духа не остановился в IV веке, когда движущая сила Духа – Евангелие – заключена была в неподвижный Канон. Дух возрастал, и, слишком для него узкая, форма Канона давала трещины. Вырос дух из Канона, как человек вырастает из детских одежд. Старые мехи Канона рвались от нового, в самом Евангелии бродящего, вина свободы.
Свято хранил Канон Евангелие от разрушительных движений мира; но если дело Евангелия – спасение мира, то оно совершается за неподвижной чертой Канона, там, где начинается движение Евангелия к миру, и мира – к Евангелию.
Истина сделает вас свободными (Ио. 8, 32),
этим словом Господним освящается, может быть, сейчас, как никогда, свобода человеческого духа в движении к Истине – свобода Критики, потому что в яростной сейчас, тоже как никогда, схватке лжи с истиной – врагов христианства с Евангелием – нужнее, чем броня Канона, меч Критики – Апологетики (это два лезвия одного меча для верующих в истину Евангелия).
Тело Евангелия расковать от брони Канона, лик Господень – от церковных риз, так нечеловечески трудно и страшно, если только помнить, Чье это тело и Чей это лик, что одной человеческой силой этого сделать нельзя; но это уже делается самим Евангелием – вечно в нем дышащим Духом свободы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.