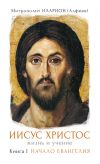Текст книги "Иисус Неизвестный"

Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 62 страниц)
Девять зеркал: видимых нами – четыре – наши Евангелия, и пять невидимых: общий для Матфея и Луки, досиноптический источник, Q, «два особых» (Sonderquelle), по одному у каждого из них; нижний слой. А, IV Евангелия, и, наконец, самое темное, близкое к нам, зеркало – Agrapha. Девять зеркал поставлены друг против друга так, что одно в другом отражается: одно зеркало, Марка – в четырех – Матфея и Луки – двух видимых и двух невидимых, и все эти пять зеркал – в одном невидимом – Q; и все эти шесть в двух зеркалах Иоанна – в видимом – В, и невидимом – А; и, наконец, все эти восемь – в девятом, самом глубоком и таинственном, – в Аграфах.
С каждым новым отражением возрастает сложность сочетаний в геометрической прогрессии, что делает простейшую книгу, Евангелие, сложнейшею. Друг в друге отражаясь, углубляют друг друга до бесконечности; противоположнейших светов лучи пересекаются, преломляются, и между ними всеми – Он. Только так и могло быть изображено Лицо Неизобразимое. Если ни для какого другого лица во всемирной истории мы не имеем ничего подобного, то лицо и жизнь Иисуса мы лучше знаем или могли бы знать, чем жизнь кого бы то ни было во всемирной истории.
И вот, все-таки: «Vita Jesu Christi scribi nequit, жизнь Иисуса Христа не может быть написана».[199]199
Fr. Loofs, Wer war Jesus Christus? 1922, S. 128.
[Закрыть] С этой старинною, 70-х годов, но все еще как будто не устаревшею, тезою Гарнака соглашается, в наши дни, Вельгаузен: мы узнаем об Иисусе, даже у Марка, только необыкновенное, а повседневное – откуда Он, кто Его родители, в какое время, где, чем и как Он жил, – нам остается неизвестным.[200]200
J. Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien, S. 47. Ad. Julicher, Neue Linien in der evangelischen Ueberlieferung, 1906, S. 42.
[Закрыть] Но, во-первых, все большее и лучшее знание тогдашней религиозно-бытовой иудейской среды позволяет нам заглянуть и в кое-что повседневное в жизни Иисуса, пусть малое, но важное. Во-вторых, сам Иисус так «необыкновенен», – с этим и Вельгаузен согласится, – что, может быть, неразумно сетовать на то, что и от свидетелей жизни Его мы узнаем больше необыкновенного, чем повседневного. И наконец, в-третьих: только необыкновенное мы знаем об Эдипе, Гамлете, Фаусте (1-й части); о двух последних – по нескольким месяцам, о первом – по нескольким часам жизни, но знание наше так глубоко, что, будь у нас нужный к тому поэтический – пророческий дар, мы могли бы, по этому видимому сегменту, восстановить весь невидимый круг, рассказать всю их жизнь. Только «необыкновенное» мы узнаем и об Иисусе, по крайней мере, по целому году, а может быть, и по двум, даже трем годам жизни Его; почему же мы не могли бы, будь у нас нужный дар, восстановить и по этому сегменту полный круг – всю Его жизнь?
Тезу Гарнака сильнее защищает Юлихер. «Только то, каким Иисус казался первой общине верующих, мы можем знать из Евангелий, но не то, каким Он действительно был; так далеко наш взгляд не проникает: горными высотами – первообщинною верою – замкнут для нас евангельский горизонт навсегда».[201]201
Julicher, 72.
[Закрыть] Нет, не навсегда: все «прорекаемые знамения» (Лк. 2, 35), все «недоумения», «соблазны», skandala («блажен, кто не соблазнится о Мне», Мт. 11, 6), может быть, не только действующих лиц в Евангелии, но и самих Евангелистов, суть трещины в этой, как будто глухой, стене предания: сквозь них-то мы за нее и заглядываем, или могли бы заглянуть, в то, чем Иисус не только казался, но и действительно был.
К тезе Гарнака, чтобы осталась она и сейчас неопровергнутой, надо бы прибавить одно только слово «нами»: нами жизнь Иисуса Христа не может быть написана. Главная здесь трудность познания вовсе не в нашем историческом, внешнем, а в религиозном, внутреннем опыте.
«Первые дни творения, когда земля была расплавлена творящим огнем, так же непредставимы для нас на нынешней охладелой земле, как первичные религиозные опыты, решавшие судьбы человечества», замечает о первохристианстве Ренан, которого едва ли кто заподозрит в излишней церковной апологетике.[202]202
Renan, Evangiles, 1923, p. 46.
[Закрыть]
Всякое знание опытно. Но для первохристианства вообще, а для раскаленнейшего центра его – жизни человека Иисуса – тем более, у нас нет опыта, ни количественно, ни качественно равного и соответственного тому, что мы хотели бы знать. Мы себя и других обманываем, рассказывая об этой Жизни, как путешественники – о стране, в которой никогда не бывали.
Кажется, Гёте больше любит христианство, чем Евангелие, и Евангелие – больше, чем Христа, но вот, и он знает, что, «сколько бы ни возвышался дух человеческий, это (жизнь и личность Христа) никогда не будет превзойдено».[203]203
Harnack, Das Wesen des Christentums, 1902, S. 3.
[Закрыть]
Два глубоких исследователя и свободнейших евангельских критика наших дней, Гарнак и Буссэ, друг от друга независимо, теми же почти словами, говорят о жизни Христа: «Божеское здесь явилось в такой чистоте, как только могло явиться на земле» (Гарнак). – «Бог никогда, ни в одной человеческой жизни, не был такою живою действительностью, как здесь» (Буссэ).[204]204
Hamack, 92. – W. Bousset, Jesus, 1922, S. 47.
[Закрыть]
Вспомним также Маркиона Гностика; многое, может быть, простится ему за эти слова: «О, чудо чудес, удивленье бесконечное! Людям ничего нельзя сказать, ничего подумать нельзя, что превзошло бы Евангелие; в мире нет ничего, с чем можно бы его сравнить». Если это верно о Евангелии – все-таки бледной тени Христа, то насколько вернее о Нем самом.
Главная трудность для нас, чтобы даже не рассказать, а только увидеть жизнь Христа, в том и заключается, что она ни с чем не сравнима. Знание – сравнение; чтобы узнать что-нибудь, как следует, мы должны сравнивать то, что узнаем сейчас, с тем, что знали прежде. Но жизнь Христа так ни на что не похожа, несоизмерима ни с чем, что мы знали, знаем и можем узнать, так необычайна, единственна, что нам ее не с чем сравнить. Весь наш всемирно-исторический опыт здесь изменяет нам и, оставаясь в пределах его, мы должны признать, хотя по-иному, чем Гарнак, что жизнь Христа, в самом деле, непознаваема, «неописуема», scribi nequit.
Если же, вопреки недостатку опыта, мы захотели бы все-таки сделать эту жизнь предметом знания, включить ее в историю, нам пришлось бы, исходя не из верного, хотя и недостаточного опыта, что жизнь Иисуса – воистину человеческая, а из неверного, что она человеческая только, и доводя до конца логику этого неверного опыта, согласиться кое с кем из крайне левых критиков, что жизнь Иисуса – жизнь «сумасшедшего» («вышел из Себя» – «сошел с ума», как думают братья Его, Мк. 3, 21) или, еще хуже, согласиться с Ренаном, что вся эта жизнь «роковая ошибка», что Величайший в мире так обманул Себя и мир, как никто никогда не обманывал; или, наконец, что хуже всего, согласиться с Цельзом, что Иисус «жалкою смертью кончил презренную жизнь».
Чтобы избавиться от всех этих нелепых и кощунственных выводов, мы вынуждены признать, что жизнь Иисуса – не только человеческая жизнь, а что-то большее – может быть, то самое, что выражено в первых о ней словах первого ее свидетеля Марка-Петра:
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия.
Но зная, что у нас самих нет опыта для «Жизни Христа», мы знаем, или могли бы знать, что у кого-то он был.
«Мученики», martyrioi, значит «исповедники», «свидетели», – конечно, Христа. Может быть, они-то и обладают этим нам недостающим опытом; они-то, может быть, и знают о жизни Христа, чего мы не знаем.
Знает о ней св. Юстин Мученик, говорящий римскому кесарю с большим достоинством, чем Брут: «Можете нас убивать, но повредить нам не можете».[205]205
Just., Apol, I, 2, 4.
[Закрыть] Знает св. Игнатий Антиохийский (около 107 г.), когда, идя на арену Колизея, молится: «Я, пшеница Господня, смолотая зубами хищных зверей, хлебом Твоим, Господи, да буду!»[206]206
Ignat. Ant., ad Roman., IV, l.
[Закрыть] Знают и Мученики Лионские, 177 года: если бы так твердо не поверили они, что все частицы брошенного в Рону пепла от их сожженных тел Бог соберет, в воскресение мертвых, и образует из них точно такие же тела, какие были у них при жизни, но уже «прославленные»; если бы жгущий их огонь, терзающее железо не были для них менее действительны, осязательны, чем тело воскресшего Господа, то, как знать, перенесли ли бы они муки свои с такою твердостью, что на следующий день сами палачи, обратившись ко Христу, пошли за Него на те же муки?[207]207
P. Schmiedel, Jesus, 129.
[Закрыть]
Может быть, для этих «очевидцев», «свидетелей», жизнь Христа озаряется молнийными светами до таких глубин, как ни одна из человеческих жизней; может быть, она для них действительней, памятней, известнее, чем их собственная жизнь.
Все это значит: чтобы лучше узнать жизнь Христа, надо лучше жить; как поживем, так и узнаем. «Знал бы себя – знал бы Тебя», noverim me, noverim te.[208]208
August, Solil., II, l.
[Закрыть] Каждым злым делом мы доказываем – «исповедуем», – что Христа не было; каждым добрым, – что Он был. Чтобы по-новому прочесть Евангелие, надо по-новому жить.
«Ты изменяешься, значит, ты не истина», – утверждает Боссюэт неизменность – неподвижность Канона и Догмата.[209]209
Mig. Unamuno, L'agonie du Christianisme, 1926, p. 47.
[Закрыть] Можно бы ему возразить: «Ты не изменяешься, значит, ты не жизнь». Вечно изменяется Евангелие, потому что вечно живет. Сколько веков, народов, и даже сколько людей, – столько Евангелий. Каждый читает – пишет его – верно или неверно, глупо или мудро, грешно или свято, – но по-своему, по-новому. И во всех – одно Евангелие, как во всех каплях росы солнце одно.
Кто откроет Евангелие, для того уже все книги закроются; кто начнет думать об этом, тот уже не будет думать ни о чем другом, и ничего не потеряет, потому что все мысли – от этого и к этому. Пресно все после этой соли; скучны все человеческие трагедии после этой «Божественной Комедии». И если наш мир, вопреки всем своим страшным плоскостям, все-таки страшно глубок, свят, то потому только, что в мире был Он.
Жуан Серралонга, испанский бандит, подойдя к виселице, сказал палачу: я буду читать Верую, а ты смотри, не накидывай мне петли на шею, пока я не прочту: «верую в воскресение мертвых».[210]210
Unamuno, 122.
[Закрыть] Может быть, этот разбойник, так же как тот, на кресте, что-то знал об Иисусе, чего не знают многие неверующие и даже верующие исследователи «жизни Христа». Может быть, многие из нас могли бы что-то узнать об этой жизни только так, с петлей на шее.
«В смертной муке Моей, Я думал о тебе; капли крови Моей Я пролил за тебя». Это услышав, можно ли сесть за стол, взять перо и начать писать «Жизнь Христа»?
И псы под столом едят крохи у детей.[211]211
Мк. 7, 28. – Эпиграф к прекрасной, свободной и благочестивой, хотя еще не вселенски-церковной, книге Гарнака «О существе христианства». Das Wesen des Christentums.
[Закрыть]
Может быть, многие из нас могли бы подойти к жизни Христа только так: дети уронят – псы подберут.
Был со зверями, и ангелы служили Ему. (Мк. 1, 13)
Может быть, и в зверином зрачке лицо Его отражается, как в ангельском, и в обоих Он узнает Себя.
Как смотреть на Него нечистыми глазами? как говорить о Нем нечистыми устами? как любить Его нечистым сердцем?
Приходит к Нему прокаженный и, падая перед Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, сжалившись над ним, простер руку Свою, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. (Мк. 1, 40–42)
Только так, как прокаженные, мы можем прикоснуться к Нему. Может быть, что-то знают о Нем грешные, чего не знают святые, что-то знают погибающие, чего не знают спасенные. Если тот прокаженный знал, то, может быть, и мы.
Есть у нас для этого знания одно, может быть, нам самим неизвестное и нежеланное, но перед веками христианства неотъемлемое преимущество: сходство в одной, религиозно все решающей, точке нашего времени с тем, когда жил Иисус: мир никогда еще не погибал и, сам того не зная, не ждал спасения так, как тогда – и теперь; мир еще никогда не чувствовал в себе такой зияющей пустоты, в которую вот-вот провалится все. Те же и теперь, как тогда, наступающие внезапно муки родов; тот же никем не услышанный глас вопиющего в пустыне: «приготовьте путь Господу!» Та же секира при корне дерев; та же находящая на мир невидимая сеть; тот же крадущийся вор в ночи – день Господень; то же, на грозно-черном и все чернеющем, грознеющем небе, тем же огнем написанное слово: Конец.
Пусть о Конце никто еще не думает, но чувство Конца уже в крови у всех, как медленный яд заразы.[212]212
Д. Мережковский. Атлантида-Европа, II ч. Боги Атлантиды, гл. XIV, К Иисусу Неизвестному, II, et passim.
[Закрыть] И если Евангелие есть книга о Конце, – «Я есмь первый и последний, начало и конец», – то и мы, люди Конца, к ужасу нашему или радости, может быть, ближе к Евангелию, чем думаем. Пусть никогда не прочтем его, но если бы прочли, то могли бы рассказать «Жизнь Иисуса», как никто никогда не рассказывал.
– А мир-то все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и как знать, не останется ли Он в ужасном одиночестве? – говорил мне намедни умный и тонкий человек, до мозга костей отравленный чувством Конца, но, кажется, сам того еще не знающий, хотя постоянно уже думающий о Христе, или только кружащийся около Него и обжигающийся, как ночной мотылек о пламя свечи; говорил, как будто немного стыдясь чего-то, – может быть, смутно чувствуя, что говорит просто пошлость. Строго, впрочем, судить его за это нельзя: многие сейчас думают так, – можно даже сказать почти все люди мира сего, отчего эта мысль не становится, конечно, ни умнее, ни благороднее; может быть, думает так и кое-кто из самих христиан, а если молчит, то едва ли тоже от слишком большого ума и благородства.
Спорить с этим очень трудно, потому что для этого надо стать на почву противника, а этого сделать нельзя, самому не оглупев.
Суд большинства признать над Истиной, да еще в религии, кажется, последней и единственной области, этому суду неподвластной; согласиться, что, по приговору большинства, истина может сделаться ложью, а ложь – истиной, – есть ли, в самом деле, что-нибудь глупее этого?
Сколько сейчас людей против и сколько за Христа, мы не знаем, потому что для веры нет статистики; здесь все решается не количеством, а качеством: «один для меня десять тысяч, если он лучший», по Гераклиту и по Христу. Но если бы мы даже знали, что сейчас против Христа почти все, а за Него почти никто, – этим ли бы решался для нас вопрос, быть нам за или против Христа?
Когда я напомнил об этом моему собеседнику, он застыдился, как будто немного побольше, но, увы, стыдом людей не проймешь, особенно в такие дни, как наши.
Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8).
Если Он сам об этом спрашивал, то потому, конечно, что знал сам, что мир может пойти и не туда, куда Он зовет, и что Он может остаться в «ужасном одиночестве». Но вот, все-таки:
Я победил мир. (Ио. 16, 33.)
В том-то и сила Его, что Он не только раз, на кресте, победил, но и потом сколько раз побеждал и всегда побеждает мир, «в ужасном одиночестве», один против всех. И, если в чем-нибудь, то именно в этом христианство подобно Христу: можно сказать, только и делало и делает, что побеждает одно против всех; погибая, спасается. Вот где не страшно сказать: чем хуже, тем лучше. Только ветром гонений уголь христианства раздувается в пламя, и это до того, что кажется иногда, что не быть гонимым значит, для него, совсем не быть. Мнимое благополучие равнодушная благосклонность – самое для него страшное. «Благополучие» длилось века, но, слава Богу, кончается – вот-вот кончится, и христианство вернется в свое естественное состояние – войну одного против всех.
Дьявол служит Богу наперекор себе, как однажды признался Фаусту Мефистофель, один из очень умных дьяволов:
Я – часть той Силы,
Что вечно делает добро, желая зла.
Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
В главном все же не признался, – что для него невольное служение Богу – ад.
Русские коммунисты, маленькие дьяволы, «антихристы», служат сейчас Христу, как давно никто не служил. Снять с Евангелия пыль веков – привычку; сделать его новым, как будто вчера написанным, таким «ужасным» – «удивительным», каким не было оно с первых дней христианства, – дело это, самое нужное сейчас для Евангелия, русские коммунисты делают так, что лучше нельзя, отучая людей от Евангелия, пряча его, запрещая, истребляя. Если бы только знали они, что делают, – но не узнают до конца своего. Только такие маленькие, глупые дьяволы, как эти (умны, хитры во всем, кроме этого), могут надеяться истребить Евангелие так, чтобы оно исчезло из памяти людской навсегда, Тот, настоящий, большой дьявол – Антихрист – будет поумнее: «Христу подобен во всем».
Нет, люди не забудут Евангелия; вспомнят – прочтут, – мы себе и представить не можем, какими глазами, с каким удивлением и ужасом; и какой будет взрыв любви ко Христу. Был ли такой с тех дней, когда Он жил на земле?
Может быть, взрыв начнет Россия – кончит мир.
Но если даже все будет не так, или не так скоро, как мы думаем, – может ли быть христианству хуже, чем сейчас – не в его глазах, конечно (в его – «чем хуже, тем лучше»), а в глазах его врагов? Может быть, и может, но что из того?
Ах, бедный друг мой, ночной мотылек, обжигающийся о пламя свечи, вы только подумайте: если нам суждено увидеть новую победу над христианством человеческой пошлости и глупости, а самого Христа в еще более «ужасном одиночестве», то кем надо быть, чтобы покинуть Его в такую минуту; не понять, что ребенку понятно: все Его покинули, предали, – Он один, – тут-то с Ним и быть; тут-то Его любить и верить в Него; кинуться к нему навстречу. Царю Сиона кроткому, ветви с дерев и одежды свои постилать перед Ним по дороге и, если люди молчат, то с камнями вопить:
Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!
Часть II. Жизнь Иисуса Неизвестного
1. Как он родилсяΧαιρε, κεχαριτομένη.
Ave, gratiosa.
Радуйся, Благодатная.
(Лк. 1, 28)
Греческое слово κεχαριτομένη от χάρις, «милость», «прелесть», по-латыни gratia. Тот же корень в слове «Харита», «богиня Прелести». – «Радуйся, Благодатная», значит: «радуйся, Прелесть прелестей божественных! Радуйся, Харита Харит!»[213]213
Только древний эллин, вчерашний язычник, Лука, мог найти это слово, и новый эллин, гуманист, Эразм – верно перевести: gratiosa – Lagrange, Luc, 28–29.
[Закрыть]
Радостью все начинается и кончается в Евангелии – в жизни Христа. Вот почему самое слово «Евангелие», ευαγγέλιον, в первом и глубоком смысле, значит не «Благая», а «Блаженная весть».
Радость великую благовествую, ευαγγελίζομαι, – возвещаю Евангелие, —
говорит пастухам вифлеемским Рождественский Ангел (Лк. 2, 10.)
Утренняя, белая, как солнце, звезда возвещает еще невидимое солнце; Христа возвещает Предтеча:
Радость будет тебе и веселие, и многие о рождении Его возрадуются, —
говорит Ангел Захарии (Лк. 1, 14.) И, прежде чем родился, радостно взыграл младенец Предтеча во чреве матери (Лк. 1, 44), как утренняя звезда играет на небе. И солнце, еще не взошедшее – другой нерожденный Младенец отвечает ему устами матери:
Дух Мой возрадовался о Боге, Спасе Моем. (Лк. 1, 47.)
Утренняя звезда бледнеет в солнце, малая радость – в великой. «Должно Ему расти, а мне умаляться», – говорит Предтеча о Господе (Ио. 9, 30.)
«Радостью весьма великою возрадовались» и волхвы с востока, когда увидели звезду над местом, где был Младенец (Мт. 2, 10.) Большей радости нет на земле, а если будет, когда Он снова придет, то эта вторая – от первой.
И в самый канун Голгофы, говорит Господь, как будто
о Вифлеемской радости:
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. (Ио. 16, 21.)
Исчезает и тень Голгофы в солнце радости:
Радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. (Ио. 15, 11.)
Что это за радость, может быть, понял бы слепорожденный, если бы вдруг увидел свет; поняли бы, быть может, и мы, если бы пролежали вечность в гробах, и вдруг увидели солнце. Но вот, лежим – не видим, потому что «темная вода» тысячелетней привычки в нашем глазу, – неудивленность, безрадостность.
Радость эта – нездешняя, страшная.
Захария, увидев Ангела, «смутился», и страх напал на него (Лк. 1, 12.) Так же «смутилась» и сама Благодатная, увидев Ангела (1, 29.) «Страх был на всех», когда родился Предтеча, – только еще утренняя звезда на небе (1, 65); когда же Солнце взошло – слава Господня осияла пастухов Вифлеемских, – «страхом великим устрашились они» (2, 9.) Большего страха нет на земле, а если будет, когда Он снова придет, то этот второй страх – от первого.
Свет во тьме светит. (Ио. 1, 5)
Тьмой окружен свет – радость объята ужасом. Что это за ужас, мы, может быть, поняли бы, если бы пролежали вечность в гробах, и вдруг услышали трубу Архангела; но вот, лежим – не слышим: наша глухота – тысячелетняя привычка – бесстрашность, безрадостность.
Страха Твоего, радости Твоей пошли нам, Господи, чтобы снова могли мы увидеть и услышать, что видели и слышали в ту Вифлеемскую ночь не только люди, но и звери, злаки, камни, осиянные славой Твоей:
Я возвещаю вам великую радость… ибо ныне родился вам… Спаситель, Который есть Христос Господь. (Лк. 1, 10–11.)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.