Текст книги "Люди золота"
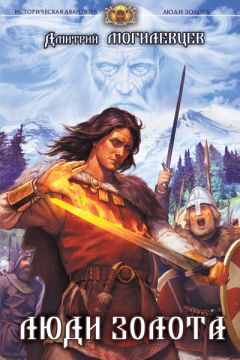
Автор книги: Дмитрий Могилевцев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
В зал амрара вошли пятеро: купец Нумайр, Инги с Хуаном, Мятеща да тихонький Сахнун-переводчик, служка местного кади, не знавшего, чем маликиты отличаются от йеменитов. Мятеща был в шлеме с личиной, закрывавшей изуродованное лицо, и от неё казался ещё ужаснее и мерзее. У левой стены сидели на бычьих шкурах волоф, у правой – зенага. Великий амрар расположился на помосте у дальней стены, под грубым подобием дерева, выкованным из меди и золота.
На приветствие он ответил, но вставать не стал, и сесть подле себя не предложил. Сказал хмуро:
– Злое летит впереди тебя, чужеземец.
– Я привёз тебе много золота, великий амрар. Много больше, чем любой до меня, – ответил Инги хмуро.
– И на что мне теперь золото? Мне некому продать его! Чародей придёт с востока и заберёт всё! А накликал беду ты!
Волоф заголосили, зазвенели чашами. Сын великого иси вскочил, замахал руками, залопотал, тыча пальцем в Инги. Племянник амрара, ходивший за золотом вместе с Инги, процедил что-то презрительно на языке волоф. Чёрные не умолкали. Тогда он ухватил здоровой рукой чашу и швырнул, рассыпав брызги по золотому полу. Сын иси схватился за нож.
Иси и амрар вскочили одновременно, подняв руки, – и чёрные умолкли, недовольно переглядываясь.
– Он колдун, – прохрипел иси на языке зенага и закричал на своём языке, показывая то на амрара, то на соломенную крышу, то на Инги.
– Твой сын тоже колдун, – крикнул племянник амрара. – Лучше принеси в жертву его!
– Успокойся, Муса! – приказал амрар. – Великий иси, да продлятся его дни, говорит правду: боги его сына – боги нашей земли. Они сыны Аллаха и не повредят нам. Боги же этого человека – враждебны и холодны. Они ищут погубить нас.
Тут не выдержал Нумайр, богословие презиравший, но настолько дикое богохульство не вытерпевший. Отпихнул задохлика Сахнуна и заорал, топорща бороду, мешая берберский с арабским:
– Вы, называющие себя правоверными! Да как ваши языки поворачиваются говорить такое! Аллах един, нет у него сына и отца. Тьфу на вас, многобожники, мулахиды!
– Ты мне говоришь о моей вере, ты, преломляющий хлеб с колдунами? – спросил амрар, и в зале стало очень тихо.
Но повисшую тишину прервал голос Инги – спокойный и негромкий:
– Простите его, господин. Он не привык к вашей вере и вашей мудрости. Но он готов пролить кровь ради вас. Мы уже её пролили. Трое моих людей отдали её всю за вас, великий амрар. Мы встанем рядом с вами, когда придут враги.
– Они уже здесь! – крикнул иси.
И тут Мятеща захохотал. До того стоял, глядя на золото пола, равнодушный, как вол. Для него не переводили. Он и родную речь понимал не всегда, но на удивление хорошо разумел, чего от него хотят, по наитию – на арабском ли к нему обращались, на тамашеке ли. Так боги дают бессловесным тварям, прижившимся подле человека, способность угадывать желания хозяев. Мятеща вытянул из-за пояса огромный топор, размахнулся и засадил в золото пола по обух! И захохотал – клокоча, хрипя, подсвистывая, брызжа слюной сквозь дыры в личине.
С иси сделалось удивительное. Он вдруг присел, закрыв голову руками, и, по-утиному переваливаясь, на корточках заковылял к своему месту! Взвизгнув, залился хохотом Хуан. За ним заухал Нумайр, затрясся, захлопал по брюху, чуть стоя на ногах. А Мятеща ржал – не как безумец, а как сытый, пьяный гуляка на свадьбе ржёт, глядя на ряженых, хватающих друг дружку за срамы, заразно и неудержимо. Чёрные вдруг принялись класть руки на голову – правую прямо на бритую макушку, левую – на рот. Из зенага первым захохотал раненый племянник амрара. А за ним залились остальные – даже амрар, прикрывавший рот рукой, прыснул вдруг, затрясшись, схватился за живот.
Старший сын иси схватил отца за плечи, поволок прочь. За ним кинулись толпой, толкаясь у двери, раздавая и получая удары, падая, вскакивая – но беззвучно. В зале остались лишь зенага и люди Инги – единственного, кто не рассмеялся.
А Инги выдрал топор из пола вместе с пробитым золотым листом и сунул Мятеще в руки. Тот вдруг смолк. И стих хохот, будто вышибли дно у бочки, собравшей заклятие, и оно, растекшись, ушло в пыль.
– Уходите, чужеземцы, уходите! – простонал амрар, схватившись за голову.
Но ушли не чужеземцы. Ушли волоф – воины и женщины, торговцы и кузнецы. Забрали полосатые палатки из шкур, коней и калебасы, копья, железо и орущих детей. Опустел рынок, исчезли с улиц торговцы водой. Даже птицы перестали кричать – будто гора отяжелела от дождей, вот-вот сорвётся с неё напитанный водой склон, и бегут уже по дернине трещины, и медленно, тяжко хрустят камни, раздираемые непомерным бременем.
Инги знал это чувство обвальной беды. Видел много раз – в любом месте, где оставался подолгу. И потому чуял: скоро покинет это место, чтобы никогда не вернуться, уйдёт после боя и крови, унося память о том, что от его же рук и канет в прошлое. Люди глинобитных хижин под соломенными крышами – как и люди бревенчатых изб, как и люди камня, врубившие жилища в склоны горячих гор, – затаятся в жилищах, слушая шорохи, и забегают мышами в коробе, когда хлипкие двери их жилищ вышибут ногами чужаки. Когда вломятся внутрь – победительные, пережившие резню и свалку и теперь жаждущие смыть страх кровью слабых. Город Кайес хорошо загорится. Соломенные крыши, стены из смешанной с глиной соломы, из прутьев, из пальмовых листьев. Пища пламени. Город спасся бы, если б ушли зенага. Но они не уйдут. Им некуда идти.
По рыжей глине крепости амрара змеятся трещины – сверху донизу, от балки к балке. Крошатся, осыпаются зубцы. К ступенькам уже прицепилась колючая трава, пахнущая полынью. Зенага не строят крепостей и не умеют их оборонять. Они выйдут за стены и умрут. Не все, конечно. Те, кого вынесут кони, пришлют послов со скудной данью и обещаниями покорности в обмен на жизнь. И наверное, получат её от великодушного победителя.
А он придёт с востока, из-за гряды рыжих приречных скал, из-за холмов. Река обрывается там водопадом, бежит, крутясь и швыряясь пеной, в теснинах. Дальше по реке дороги нет. Раньше там тоже была страна золота. Но то ли всё его вымыли из речного песка, то ли чёрные, повздорив, прокляли друг друга. Чёрные верят в проклятия.
Скоро здесь начнётся время дождей. С океана придут брюхатые тучи, повиснут над серой степью, над колючими кустами. Правый берег позеленеет лишь у самой воды. Дальше начинается сухое море – Сахара. А левый взахлёб зальётся зеленью, трава попрёт – сочно, мясисто, жадно.
Откуда приходит это знание? Ведь никогда не видел здешнего времени дождей. Будто лестница в память сама собою уходит всё глубже и глубже, и расступается время, освобождая новые слова и краски. Пыльное солнце над головой, прогретая глина, мерное жужжание мух – всё разное, но странно похожее на тусклый север, где плещет о берег стылая вода и гнус, взлетая из потревоженного мха, висит над тобой, как беда. Моя кровь уже была здесь. Знала крики и жар, тёплый прибрежный глей, гребенчатых зверей на отмелях, смуглую кожу с бисеринками пота. У этой земли вкус изначального.
– Тебе нравится моя страна, – выговорил амрар, стараясь отдышаться. По меркам своего народа, редко доживающего до пятидесяти, он был уже глубокий старик.
– Она хороша, великий господин, – подтвердил Инги.
– Не называй меня так… это арабы придумали: титулы, завитушки речи. Моё имя – Аламин аг-Госси. Сильному не нужны величания.
– Ты прав, великий господин Аламин аг-Госси, – подтвердил Инги. – Слабость любит длинные слова.
Амрар нахмурился, но предпочёл на дерзость не отвечать. Отёр пот со лба и пожаловался ворчливо:
– Хороший отсюда вид, да. Я частенько сюда забирался, когда моложе был. За то башню эту каждый год и ремонтирую. А она всё равно разваливается. Тут всё такое – одна грязь. Пни – и рассыплется.
– Тут есть золото.
– Есть, есть. А толку? На него ни людей нанять, ни стали наделать. Надёжных союзников тут только за сталь можно купить да за соль. А где взять-то? Там и тут резня…
Он снова отёр пот со лба.
– Я старею. И сыновей у меня нет. Прежний вождь волоф говорил: это потому, что мне нечего будет им оставить. А его самого скормили крокодилам. Ну, эти чёрные. Колдуны все сплошь, и бабы, и вояки, но ничего почти не могут. А колдовства боятся до дрожи. Я тебя зря не убил, купец. Мне Сиди Огба прислал слова. Написал: убей, а то хуже будет. А я не убил.
– Теперь уже поздно, – заметил Инги равнодушно.
– Не поздно. – Амрар ухмыльнулся. – Знаешь, зачем я тебя позвал на самую верхушку самой высокой башни в полдень? Потому что…
– Потому что здесь нет тени. Тебе сказали колдуны чёрных, что моя сила – в тенях и в ночи. Они не нарочно обманули тебя, великий господин. Для них белый цвет – цвет смерти. А мертвые обитают среди теней. Я видел твоих лучников во дворе. Ты уже приказал им убить меня.
– Зачем же ты пришёл сюда, колдун? – прошептал амрар.
– Затем, что тобой руководила мудрость твоего бога, хотя ты этого и не понимал. Ты призвал меня туда, где небо ближе. Настоящий твой бог – небо. Твои предки веками жили, не преграждая ничем дорогу между своим богом и собой. И были сильными. А ты пришёл на тучную землю травы и воды, ушёл под крышу – и стал слабым. Я скажу тебе больше, амрар: твоя душа лежит на моей ладони. Ты пришёл не убить меня. Ты пришёл молить меня о спасении. Ты хочешь, чтобы я спас твою слабость, – и готов угрожать мне ради неё.
– Ты чудовище! Твою кровь растопчут кони, и чары твои развеются. И тогда…
– И тогда волоф вернутся? – Инги рассмеялся.
Амрар покачнулся, скрючился, охватил уши ладонями.
– Они не вернутся. Они подождут, пока соссо истребят твоё племя, и вернутся снова владеть Текруром, но уже как данники соссо. Они давно искали повод изменить тебе. И вот он пришёл, повод, – вместе со смехом безумца. Не смешно ли? Только я могу спасти тебя, великий амрар, и ты это знаешь. Вопрос лишь в одном: отважишься ли? Воины соссо – всего лишь люди. То, что делает непобедимыми их, может сделать непобедимыми и нас. Решайся, Аламин аг-Госси!
– Я согласен, колдун, согласен. Только не смейся, прошу, – прошептал амрар.
Узнав о том, что великий амрар пришел к согласию с пришлым чародеем, из города бежали все, держащиеся за веру бога пустыни, и чёрные, и белые. Удрал кади, оставив вместо себя бедолагу Сахнуна. А того поймали у ворот и плетьми погнали назад, во дворец. Но ушла и добрая половина зенага – ночью, снявшись неслышно, оставив скот и утварь. За ними потянулись и местные чёрные. Уплывали на лодках вниз по реке, прятались среди травы, ожившей от первых дождей. Войско чёрных тоже потихоньку таяло. Как только уходил глава очередного рода, исчезали все его кровные.
Но великий амрар не обращал внимания. Днями торчал на башне, мок под дождём, оплывал потом под солнцем. То смеялся, то бормотал молитвы – и богу пустыни, и старым богам своего детства, сторожам уже забытых пастбищ и родников. Амрара не трогали. Оставшиеся зенага стали под руку амрарова племянника, быстро оправившегося от раны. Инги сделал для него мазь, перевязками вытянул гной и лихорадку из тела. Теперь племянник клялся именем пришлого колдуна и обещал вырвать сердце у вождя соссо. Верили ему немногие, а после Ночи молений осталось их вовсе жалкая горстка.
Ночью молений чёрные отмечали приход влажного времени, поры расцвета и плодоношения. Выставляли под дождь плоды земли, танцевали у шипящих, плюющихся от дождя костров. Пили старое вино – его всё следовало выпить этой ночью, а после обильно оросить поля тем, что выпускали опьянелые тела. Весёлая ночь.
Чужаки омрачили её. Привели горбатого смрадного зверя, на каких ездят по мёртвому песку. Стали вокруг, заголосили-завыли угрюмо, забренчали железом. Потом их главный, беловолосый гигант с лицом как топор, принялся говорить, хотя горбатый зверь человеческой речи не понимает и ответить не может. Но гигант говорил и говорил, а вместо зверя отвечали приспешники беловолосого, такие же дикие и страшные. Наконец гигант махнул мечом, и голова зверя шлёпнулась в грязь. Но тот не упал, а принялся скакать на раскоряченных, прямых как палки ногах, брызгая на всех кровью из рассеченной шеи. Всем было мерзко, а чужаки хохотали, плескали кровь на себя, а когда безголовая тварь наконец упала, принялись рвать труп на части и хватать сырое мясо, будто гиены. Брызгали кровью на костры, на приношение духам дождя. Люди уходили, плюясь. Главный чужак, стоя в крови, поднял руки и говорил с темнотой, а из темноты кричали птицы, будто отвечая, и до того было жутко, что те, кто из любопытства да из жадности ещё оставался – вина-то сколько не допили! – бросились наутёк и кидали за спину пепел, чтоб отпугнуть духов.
Когда настал день битвы, дождя не было. В густом небе, напитанном влагой, лучилось ровным жаром округлое, спокойное солнце. Трава под ним казалась живым зелёным камнем.
Они появились из-за низких кустов на гребне холма. Сперва рассыпались охотники – налево, направо, на дно ложбины – проверить, нет ли ловушек и не прячется ли кто в травах, поджидая. Затем неторопливо, погромыхивая при каждом шаге, вышли сильные: ряд за рядом рослых, одетых в железо и бронзу воинов, укрытых огромными щитами, с длинными тяжёлыми копьями, с перьями на высоких шлемах. Будто из дурного сна, полного чужих пылающих городов и полей, заваленных трупами, пришли они, печатая шаг, – невозможные, невероятные в земле нагих людей в перьях и крошечных коней.
– Это их обещал победить твой бог? – прошептал племянник амрара, бледнея.
– Мой бог даёт победу сильным, – ответил Инги, глядя на гребень холма.
Оттуда появлялись всё новые и новые ряды. Должно быть, властелин соссо привёл сюда всё войско. Сколько их? Три тысячи? Десять? А над ними в жарком мареве, в солнечном блеске, соткалось лицо – бронзовое, холодное. Инги подумал: этого и стоило ждать. Отец битв привык предавать тех, кто поверил ему. Привык забирать в расцвете сил – ему, в его холодных чертогах, нужна свежая кровь. Ну что ж, умереть так, чтобы чёрные запомнили смерть на века, – тоже неплохо. Не это ли и говорил он в душной ночи, принимая жертву?
Чёрные строились: ряд к ряду, у каждого полка – щиты своего цвета, с особым узором. Встали стеной от края до края холма – неколебимый лес лезвий, молчаливые, грозные.
– Мы бросимся на них! Мы победим! – закричал племянник амрара, дрожа. – Мы…
– Стой! – приказал Инги. – Ты со своими людьми будешь стоять на месте и смотреть. А мы пойдём вперёд, к ним. Когда увидишь, что даст нам Отец побед, – тогда и решишь, биться или сохранить воинов. Стой и смотри!
Сотня воинов – жалкая горстка в сравнении с закрывшим землю полчищем чёрных – двинулась вниз по склону холма, топча пышную траву. Инги был спокоен. Чувствовал: его спокойствие передалось всем, даже морякам из ал-Мерии, отважившимся встать рядом с людьми полночи.
Спустились на дно ложбины между холмами. Размякшая земля чавкала под ногами. Всё же не настолько мягкая, чтобы не выдержать коней.
Чёрные не шелохнутся. Стрел не мечут. Конечно, расступятся, пропустят вглубь и возьмут в кольцо, чтобы перебить или захватить всех. Но тогда у зенага будет время ударить в бок чёрным, смять строй. Говорят, зенага бешены в бою. Может, эти чёрные грозны лишь на вид и, чуть что, побросают щиты и наутёк? Купец Нумайр говаривал, что берберы чёрных презирают и ходят на них с плётками, а не с мечами. Правда, он теперь не выглядит беззаботным. И в руке стиснул не плётку, а кордовскую саблю серой стали.
Нелепость. Это рассудок, привыкший рассчитывать удачу, делает обычное. А душа – смеётся над ним. То, что будет здесь, решит не сила рук и не смётка.
Чёрные расступились. Горстка северян ступила в открывшийся проход. По-прежнему ни стрелы, ни дротика. Расступилась и вторая линия. А впереди на склоне вспыхнуло солнце – золото на щитах, на шлемах, на остриях копий.
Сердце Инги сжалось в колючий комок. Сюда, к этому блеску, он шёл всю жизнь. К этой силе, слепящей глаза и пьянящей разум. Здесь и сейчас перед ним искрилась живая кровь богов, и они, усмехаясь, смотрели на своих детей, повелевающих землёй.
Из ряда золотых выступил огромный – вровень с Инги – воин с конским хвостом на шлеме.
– Здравствуй, чародей полночи, – сказал он, и голос его, гулкий и зычный, заполнил мир. – Я ждал тебя семьдесят лет.
11. Канте
– Я ждал тебя семьдесят лет, – сказал Балла Канте, протягивая чашу.
Чаша была ровного, мягкого золота, и вода в ней казалась светом. Инги пригубил – и уста его обжёг внезапный холод.
– Под этим солнцем плавится глина, а тут… такая вода течёт по весне подо льдом на реках моей земли. Она словно сталь во рту.
– Люди моей земли считают меня великим чародеем из-за таких малостей. Искусство управления холодом и теплом несложно. Подумай: солнце жжёт наши тела – но влага тел не кипит. Она одинаково тепла и дождливой ночью, и в полдень среди песка. Любой способен выслушать своё тело – и понять, как удалить от влаги жар.
– В самом деле, любой? Мне тоже знакомо это, о великий чародей Балла! Человек в срединном мире измеряется тем, над чем он властен. Остудить воду среди полудня, должно быть, просто, – Инги усмехнулся, – но посмотри на своих людей.
Вокруг сидели и лежали воины, отдыхая после полудневного перехода. Дремали, спрятав головы под щитами, жевали чёрствый хлеб. День выдался душный. Трава дышала влагой. Повсюду – куда только достанет взгляд – мерные волны зелени и люди на ней, изнемогающие от зноя. На тёмно-коричневой коже – бисер пота, пот сочится из-под повязок на лбы, мокнет рука, сжимающая копьё. Пить. И ещё. И ещё – пусть хоть чуть-чуть прохлады!
– А теперь посмотри на себя, великий, – добавил Инги, усмехнувшись.
На гладкой коже Балла Канте – ни росинки пота.
– Посмотри и ты на себя, – улыбнулся вождь в ответ. – Твоя одежда суха, хотя одет ты для ночи среди песков. Кожа твоя суха и прохладна, а твои люди едва дышат под тяжестью железа. Смотри: они как дырявые мехи с водой, скоро всё вытечет с лиц и подмышек!
Оба расхохотались.
– Воистину, мы с тобой – братья, люди огня и солнца. Жар неба не может ранить нас. Я хотел встретить тебя всю жизнь. Так хотел, что однажды принял за тебя безумца с земель севера, с другого берега мёртвого песка. Он тоже пришёл ко мне, притянутый силой и золотом. Он оказался всего лишь слугой, пустой оболочкой для того, чему у меня и слов нет. Но теперь я знаю, глядя на тебя, – я не ошибся.
– Я чувствую тоже, – кивнул Инги. – Будто мы – дети одного отца, а он стоит за нами, смотрит. Совсем близко.
– Я знаю, о ком ты. Я покажу тебе, – сказал Балла, улыбаясь. – Мы придём в мой город, и ты увидишь.
Показывать не пришлось. Прямо за воротами в глинобитной стене, глядя на входящих, пропыленных и усталых, стоял Он, вытесанный из исполинского древесного ствола, чёрней крыши над очагом. Странно искажены были Его черты – выпученные губы, отвислый живот, горб. Но рука лежала на копье, и по прищуру, по искаженному лицу виделось: высвобождавший фигуру из бесформенного бревна вырезал видящего лишь одним глазом, но не калеку, а исполина, страшного любому смертному, властелина судеб и разума. На коричнево-чёрном, будто выглаженном сотнями рук дереве не было ни трещинки, ни изъяна, оно лучилось силой, довольством, сытостью. Так лучится, переливаясь, глянцевая шкурка домашнего любимца, мышелова и баловня, – и шкура его большого брата, сторожащего в тростниках беспечного путника. Перед статуей на двух столбах висел гнилой труп, мухи вились над ним зеленоватой тучей.
Одноглазого же увидел Инги в сумраке за очагом в башне Балла Канте. Зеленоватое пламя плясало среди золотых слитков, рождая увечные, искорёженные тени. Одноглазый старик стоял во весь рост, сжимая копьё, – и в зыбком свете лицо его казалось холодной бронзой.
– Здравствуй, Всеотец! – сказал ему Инги. – Я знаю – теперь я пришёл к месту твоей силы. И к твоей крови, проснувшейся здесь. – Добавил, повернувшись к Балла, бронзовому среди золотых сполохов: – Давно и очень далеко отсюда я видел его сыновей. И теперь вижу снова.
Балла рассмеялся:
– Наверное, я беспризорный сын. Я не знал настоящих братьев – до тебя. Хотя родичами моих отца и матери сильны моя земля и моё войско, а родичи моих жён правят городами. Тело моё родилось здесь.
– Но потом твоя настоящая кровь проснулась в тебе и открыла источник памяти – бездонный колодец, поящий душу. И ты, вернувшись, увидел: вокруг лишь чужие. И начал искать, – сказал Инги.
– Да, брат мой.
– Так было и со мной. В тех местах, где вода может течь лишь треть года, я нашёл людей нашей с тобой крови. Они помнят богов, но жизнь их мелка. Они ушли в тусклые горы на краю вечной зимы, чтобы там, укрывшись от всех, сохранить силу. Но, сохранив её так, они предали её. Что богам те, кто прячется в ничтожество, ютясь среди гнуса, вечного холода и гнили, не нужные никому, ничего не хотящие? Они закопали золото в мох, утопили в болотах. Жизнь их – обман, избывший сам себя. Но я благодарен им. Я пришёл к ним с мечом – а они пробудили во мне память и указали путь, приведший меня к тебе.
– Я слыхал, что среди великой пустыни тоже есть горы, ещё сохранившие огонь, и среди них живут нищие, больные люди, прячущие ото всех тайны, уже давно никому не интересные. – Балла усмехнулся. – Может, они, как твои потомки богов, хранят силу. Они черны, как я. Говорят, весь окрестный люд ненавидит и презирает их. Но меня судьба не заставила идти к ним. Мою кровь пробудили двое: рыцарь-франк, похожий на тебя, и хитрый хозяин убийц с ливанских гор. Хочешь воды?
Инги кивнул.
Балла Канте поднялся с расстеленной на полу леопардовой шкуры – словно распрямилась гора, утёс бронзы и кремня. Вынул из ниши в глиняной стене золотой кувшин и чашу, налил, протянул гостю.
Вода была ледяной – занемели язык и дёсны, продрало горло. Инги вздрогнул.
– Я давно не могу напиться обычной водой. Пока не вспомнил, как отбирать тепло у влаги, меня мучила лютая жажда. Она проснулась тогда, когда я обломком меча пробил шлем франку, а он не смог меня убить, потому что его клинок застрял меж моих рёбер. Я не умер тогда, но семь лет меня мучила жажда – пока я не прошёл пустыню, возвращаясь домой. Пока чуть не утонул посреди неё. Я ведь родился здесь и до первых волос на лице не знал ничего, кроме травы на равнине, медленных рек и мелкой, сварливой ворожбы, когда бабы норовят сглазить соседских кур, а жёны вождя – самую молодую из них. И не узнал бы никогда, вырос бы, и состарился, и родил бы сыновей, и стал бы вождём моей деревни. Но однажды я напросился вместе с охотниками сходить к Кумби-Салеху, великому городу людей соне. Я успел увидеть его стены на вечерней заре, а наутро нас окружили воры. Разбойники из пустыни, пришедшие поживиться человечиной. Старых они убили, убили и тех, кто стрелял из луков, а остальных связали и погнали туда, где нет травы. Посреди пустыни на воров напали. Угнали верблюдов, везших воду, а до колодца оставалось четыре дня пути. Женщины умерли все, потому что туареги открывали им вены на руках и пили кровь. Умерло трое мужчин, а ещё один повредился умом, и его отдали Тамаресу, живущему в солёном ветре. А колодец оказался завален мертвечиной. Наши хозяева сцепились как коты и катались в пыли, царапаясь.
Балла рассмеялся.
– Они умерли. Не умер только один, кого я привёл за руку в горы. Там его убили мечом, а меня продали купцам из Феццана. Купцы взяли за меня хорошие деньги в стране Миср. В городе ал-Кахиpa меня научили владеть оружием и поставили над сотней воинов. Я был горд и забыл о землях солнца и трав. Я проливал свою и чужую кровь за людей пустыни и принял их веру. Я до сих пор с ней.
– Ты? С верой в бога пустыни? – Инги едва не выпустил чашу из рук.
– Это он на стене. Разве не знаешь: у Одноглазого много имён и тел? Арабы и масмуда молятся не богу. На колени они встают перед законом, принесенным людьми будто бы от бога. Они не могут говорить с богом и потому верят в то, что кто-то когда-то от бога услышал. Вместо памяти, живущей в крови, у них – закорючки на бумаге. Но зато закорючки – одни для всех, и потому живущие одним законом всегда сильнее тех, кто говорит с богом сам.
– В этом же их слабость, – сказал Инги. – Я видел много жрецов нового бога. Все они были слабы и делали слабыми других. Впихивали в головы человеческий обман и слабость объявляли главной доблестью. Но и стадо овец не совладает с одним волком.
– Эти овцы – со стальными зубами. Волк никогда не станет овцой, пусть его и убедили в том, что он – ягнёнок. Я тоже видел жрецов нового бога. Тех, кто верит железом. Никого свирепее и безумнее их я не встречал. Они горсткой бросались на огромное войско, распевая хвалу своему богу, и обращали войско в бегство. Я удирал от них, бросив щит. Ворвавшись в пролом городской стены, они принялись биться с соплеменниками, чтобы не пустить их в город и не делиться добычей. С одним из них я бился на скалах у мёртвого озера. Он был страшнее раненого быка и убил семерых моих воинов. А потом едва не убил меня. В нём тоже дышала кровь бога. Я увидел это в его глазах, синих, как твои. И волосы его светились золотом. Смотри. – Балла Канте поднял из сумрака за спиной длинный меч с рукоятью-крестом. – Эту сталь я остановил телом и обломком своей сабли проткнул шлем франка. Из его глаз полилась кровь, и он умер. А я выжил. И, поднявшись на ноги, ушёл до того, как пешие франки принялись раздевать убитых и добивать раненых. Из меня текло, как из дырявого меха, и я лёг умирать на камне, пахнущем солью. Солнце убивало меня, в моё тело вошла жажда. Но я выжил. Люди повелителя убийц, обитающего в тех горах, нашли меня и принесли к нему. Я не отличал света от тьмы. Душа моя скиталась в потёмках и кричала. Повелитель убийц напоил меня и призвал мою душу к свету. Вместе со мной проснулась и моя кровь, и я понял, где моё место в этом мире.
– Кто же этот повелитель убийц? Он тоже – крови богов?
– Не знаю. Если да – то не так, как мы. Наша мудрость вязка и сумрачна. А в его рассудке свет, и глаза его – иглы. Он не вспоминает, он видит. Ты говорил: старик ледяных гор дал тебе напиток памяти? А повелитель убийц просто посмотрел, и внутри меня рассыпались раскалённые угли. Когда тело моё окрепло, я вернулся к своим людям – через страну Миср, Ливию и горы среди пустыни. Я стал сильным и понял силу золота. А тогда – смог наконец напиться.
– Мне довелось жить в землях ал-Андалуса. Я слыхал о повелителе убийц. Его зовут Шейх ал-Джабал, и в его власти лишь горстка крепостей в горах земли серов. Все соседи страшатся и презирают его, и власть его умаляется с каждым днём. Я не знаю, откуда он взял силу, о которой говоришь ты. Но едва ли он сумел правильно ею распорядиться.
– Ты многого не знаешь, брат. Его сила – лишь малый отблеск. В моих землях случилось побывать двоим, подобным ему. Я чувствовал их издалека, как чуют собаки леопарда на краю леса. Те двое пришли вместе с народом пустыни, с разбойниками, закрывающими лица. Ко мне пришёл слабейший из них – но от его света я чуть не ослеп. Он один заставил расступиться моё войско, и я позволил ему взять золото. А ведь он был всего лишь слуга.
– Да, я знаю не так много, как ты, до сих пор верящий в бога слабых. Но я встречал много тех, кого люди превозносят за мудрость, – и не увидел ничего, кроме горсти чужих слов в их рассудках. Людей влекут не слова, не рассудок – людей влечёт сила. Они слепо летят к ней, как мотыльки к огню.
– И так ты прилетел к моему очагу! – Балла Канте рассмеялся, и Инги вслед за ним.
– Но всё же не стоит пренебрегать силой слов, – сказал Балла, отсмеявшись и запив смех ледяной водой. – Люди хранят в них память.
– Я знаком с письменами шести наречий, – ответил Инги, – и я знаю, что становится с памятью, запечатлённой словами на бумаге. Из неё утекает жизнь, и она – как скелет, сухие кости в песке. А скажи, много ли ты узнаешь обо мне, найдя кости среди пустыни?
– Я узнаю, что ты был велик и силён. Об остальном мне споют гриоты. Мой народ не знает письма и потому отдаёт дело памяти им. Они хорошо справляются – но не замечают, что за десятки лет слова преданий меняются в живой памяти, и предки не узнали бы в их песнях то, что сами когда-то пели. Память живых – зыбкое болото. А слова мертвы и неизменны. Повелитель убийц говорил мне, что истинный свет – это умение видеть настоящее за словами, оживлять скрытое в них. И тем увидеть силу, данную богом.
– Жаль, что я не могу поговорить с ним. Может, я понял бы о словах больше. И узнал бы, сколько же он силы увидит в этом, – Инги ткнул пальцем в золотые слитки, окаймлявшие очаг, – и сколько слов захочет за это отдать. Брат мой, средоточие силы и власти в человеческом мире – здесь. Все хозяева слов сбегутся на запах золота, как псы к кормушке, – только позови. Здесь, в твоём городе, я понял наконец, как связан человечий мир. Золото течёт по его жилам. Но человек не понимает, где и как течёт в его теле кровь. Так и в срединном мире: люди полночи поют о золоте песни и кладут его в могилы, крадут его, выменивают на шкуры и сталь, берут силой. Люди бога пустыни чеканят на кусочках золота имена и рисунки, меряют в них достояние, покупая за них тела, скот, воду и землю. Золото движется, течёт, переходит из рук в руки – но каждый новый хозяин не знает и десятой доли того, что знает предыдущий. Купцы везут золото от тебя через пустыню и продают говорящим по-арабски. Те продают румиям и франкам. И думают, что золото растёт в земле, будто ямс! Только мы видим сеть кровотоков, пронизавших мир, знаем их суть и время. Здесь, куда стекается всё золото Судана, – самое сердце мира. И ты – его хозяин. Ты воюешь с законом людей пустыни, чтобы он не совратил твоих людей. Но зачем? Дай им свой закон, закон настоящих богов, закон золота, – сильный, понятный всем закон, который растёт из этой земли, закон, выросший из настоящей памяти, лежащей в твоей крови. И тогда он лучше твоих воинов удержит взятое тобой. Сердце мира окажется в твоей ладони!
– О большом говоришь ты, мой брат. У меня ни такой власти над словами, ни стольких воинов.
– Так позволь мне помочь! Я теперь знаю: именно затем я шёл сюда все эти годы. Мы дадим людям закон золота и поведём их за собой. По нашему повелению будет мир или война за тысячи фарсахов отсюда – повсюду, куда достигает золото. Имена настоящих богов снова будут у всех на устах, и те, в ком проснётся их кровь, придут к нам!
– Хорошо, брат. Пробуй. – Балла рассмеялся. – Я давно уже знал: старость моя будет интересной.
Но исполнить задуманное оказалось куда тяжелей, чем представлялось. В этой земле время текло медленно и вязко, и никакое дело не совершалось здесь и сейчас. Ничего не делалось в точности одинаково и по плану, от дворца вождей до копей, все получалось наобум, случайно и непредсказуемо. За плохую постройку можно было попасть в клетку или на виселицу к Одноглазому богу, но следующий строитель, вздохнув, по-прежнему строил на глазок. Да и какое там мастерство, когда всего-то и нужно замесить глину с сухой травой да сплести из прутьев нехитрые стенки. Правда, здешние умельцы всё же изощрялись, громоздя мостки и вбивая колья, трамбовали грязь до высоты в полудюжину саженей, сооружали исполинские кучи, похожие на жилища местных муравьёв, слепых и белоголовых. Лучшее занятие мужчины здесь – сесть после полудня в тень шёлкового дерева на шкуры, богатым – на леопардовые и львиные, бедным – на коровьи, и лениво болтать до вечера, отмахиваясь от мух и попивая пальмовое винцо, пока женщины ковыряют мотыгами огород. А вечером танцевать и снова пить пальмовое вино да жевать орехи из леса Акан, здесь называвшиеся «кола».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































