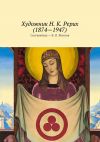Текст книги "Рихтер и его время. Записки художника"
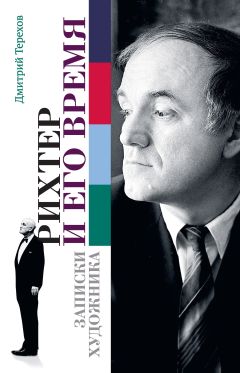
Автор книги: Дмитрий Терехов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава восьмая
Прошел год. Рихтеру уже двадцать два. Он увлекается музыкой в частности и искусством вообще и пока не думает становиться пианистом. Он еще продолжает сочинять.
К этому времени относится цикл из шести романсов на стихи Блока. Первый романс, «Гамлет», был задуман для голоса с оркестром. Он потом нравился Генриху Густавовичу Нейгаузу.
Вот последние пьесы, сочиненные в Одессе. Это фортепьянные миниатюры. Одна из них, без названия, была написана для сына окулиста Филатова (ко дню его рождения). Другая – «Прелюдия» – игралась на вступительном экзамене в консерваторию. К ней сочинялась еще и фуга, но закончить ее было уже не суждено.
А пока Рихтер все еще далек от мысли по-настоящему сесть за фортепьяно. Он хотел дирижировать, мечтал получить оперу или балет и почти добился этого. Ему обещали спектакль. Но… Но только наивные люди полагают, что появление нового таланта – это всеобщая радость. На самом деле все сложнее.
В театре это вызвало ревность. Начались тайные интриги, звонки начальству, жалобы, и предназначенную оперу отдали другому. Кому? Этого уже не разобрать нам сегодня.
На этом кончается первая страница биографии Святослава Рихтера. И мы переворачиваем ее…
Решение ехать в Москву, чтобы стать пианистом, было принято неожиданно и без колебаний.
О Генрихе Нейгаузе как о выдающемся музыканте и педагоге много говорилось в Одессе. Однажды Рихтер увидел его случайно. Нейгауз был похож на отца. И стало ясно: это судьба! Учиться следовало только в классе Нейгауза.
На поездку денег не хватало. Помогли знакомые, и в их числе – доктор Филатов, сына которого учил тогда Теофил Данилович. И вот день отъезда настал.
Отъезд
И вот – он в вагоне. Он стоит у открытого окна, а внизу родители и несколько знакомых. Все как-то слишком оживлены и говорят наперебой случайное и ненужное.
Кто не знает этих последних минут… Слышишь, не вслушиваясь, и видишь, не всматриваясь, а думаешь сразу о многом и, в сущности, ни о чем.
Он сейчас вдруг заметил: отец выглядел усталым и совсем нездоровым, а мать, как всегда, была моложавой, оживленной и красивой, но ему почему-то показалось, что они разобщены и одиноки каждый по-своему…
Однако с этой минуты все уходило в прошлое. Его комната, клавиры, рояль, их старый певучий рояль с медалями на крышке, образы детства, игры и неопределенные мечты.
Свет пультов оперного оркестра, песчаная дорога в сосновом бору – все это оказалось вдруг на перевернутой странице его биографии. А на новой еще не появилось ничего, она пока еще была просто бумагой…
Завтра будет Киев. Послезавтра – Москва. Он, как казалось, легко отодвинул прошлое. Теперь он хотел одного: новой жизни в столице, где его многое интересовало, но более всего – его будущий учитель, этот худощавый музыкант, элегантный и немного насмешливый и уже почему-то близкий ему, хотя они и не были пока знакомы.
А под окном все говорили что-то. Он же согласно кивал, рассеянно улыбался.
Но вот закончилась посадка. Проводник поднялся на ступеньку и, держась за поручень, смотрел вперед на семафор у самого паровоза.
Пошла последняя минута. И вдруг все, что он видел в окне, тихо двинулось влево. Рама окна стала надвигаться на провожающих. Он подался вперед, чтобы смотреть еще. А перрон, словно гигантский плот, медленно плыл в жарком мареве мимо. Скамейки, урны, горячий асфальт, следы женских каблуков и втоптанные вишневые косточки, мусор, шелуха от семечек. Он постоял, а когда мимо пошли пакгаузы, вздохнул и занял свое место.
Вагон, душно. Через полчаса соседи зашуршали засаленными пакетами. Он поднялся и вышел. В тамбуре качало. За дверью поднимались и опускались провода. Колеса стучали на стыках.
Потянулось дорожное время, которое всегда вычитают из жизни. Вдали разворачивалась степь, а прямо перед ним все мелькало. Он успевал выхватить то километровый столб, то шлагбаум с подводой, то грязный грузовик, качавшийся на ухабах проселка в облаке пыли. Все это стремглав улетело назад. Идти в вагон не хотелось. Он открыл дверь. Дул теплый ветер, пахло полынью и каменным углем.
А поезд уходил все дальше и дальше в степи, все дальше и дальше на север…
Глава девятая
Итак, Рихтер впервые приехал в Москву летом 1937 года. Вот какой он увидел ее тогда.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Москва – город контрастов, где все приживается. Чужеродное становится своим. Прекрасное соседствует с уродливым, дома одного стиля с домами другого, подчас противоположного, и все это органично сочетается. В этом как раз вся прелесть Москвы. Так было…»
Столица
Более суток езды на север, а ничуть не прохладнее. Правда, жара здесь была другая. Она была трудная. Здесь было душно и давило под воротником. Он вышел на привокзальную площадь и, вдыхая запах бензина, пошел к знакомым своего отца. Надо было устраиваться. Его сразу поразила ширина улиц, количество машин и людей. Ему казалось, что все здесь что-то празднуют, что вот-вот появится демонстрация. Но это только казалось. Был обычный день. Просто столица жила теперь так.
В подъезде старого дома прохладно. Попахивало кошками, кухней… Он поднялся на второй этаж, позвонил и представился. Встретили его как будто радушно. День прошел в разговорах оживленных, но пустых. (Этого требовали правила приличия.) А вечером он был в театре на пьесе Тренева «Любовь Яровая»…
Первые дни он осматривался. Вот – самый центр. Он только что перестроен. Новая гостиница «Москва», Манежная площадь, Александровский сад. Слева – Кремль. Справа – жилой дом: коринфские колонны между широких, почти фабричных окон. Он тесно встал здесь, растолкав своих почтенных соседей – гостиницу «Националь» и совсем старый, прекрасный казаковский университет, помнящий еще времена Хераскова и Сумарокова. А за спиной серая громада – здание Госплана. Это уже что-то азиатское, похожее на дворцы Лхасы. Несмотря на множество окон, у здания нет взгляда, и оно смотрит на мир только своей кокардой – каменным гербом Советского Союза, поднятым к самым облакам.
Почти игрушечным кажется рядом Дом Союзов, бывший еще недавно Дворянским Собранием. Этот особняк всегда олицетворял блеск и славу города. В его Колонном зале бывал на балах Пушкин, играл Лист, дирижировал Берлиоз, а позже давали свои концерты Рахманинов и Скрябин, но в последние двадцать лет здесь все смешалось.
Наряду с прославленными артистами здесь стали выступать народные хоры и участники самодеятельности. Здесь прощались с умершими вождями и устраивались новогодние елки. Здесь проходили шахматные матчи и комсомольские собрания, профсоюзные съезды и показательные суды над теми, кого считали тайными врагами. Здесь теперь встречались овациями не только артисты, но и смертные приговоры, выносимые кем-то от лица всего народа.
Вот так пестро и бурно зажил в последнее время этот старинный дом.
Поодаль, за университетом, громоздились бетонные коробки крупнейшей в России библиотеки, которой, конечно, сразу же дали имя Ленина. Она теперь соперничала с Домом Пашкова (бывшим Румянцевским музеем), поставленным здесь в восемнадцатом веке масоном Баженовым.
А там, уж совсем вдали, виднелся только что законченный Крымский мост.
По улицам катили открытые машины, двухэтажные троллейбусы, звонили трамваи. Но не этим была примечательна столица в тридцать седьмом году. Подлинную славу ее составляла первая очередь метро, связавшая с центром две окраины, два лучших столичных парка – Сокольники и Парк культуры имени Горького (по-старому – Нескучный сад).
За последние двадцать лет появился невиданный доселе тип людей, особенно заметный в больших городах. Этот тип соединил в себе показной оптимизм и подозрительность, полную невосприимчивость к культуре и ненависть к ее носителям как к классовым врагам. Этот тип воспитывался и поддерживался государством. Из него создавалась элита нового общества. Здесь процветало доносительство и ревностное, добровольное сотрудничество с секретными службами всех уровней. Это были глаза и уши новой власти.
В столице господствовал самоуверенный дурманящий дух. Из уличных репродукторов гремели марши. Кругом цвели ситцевые платья, зеленели гимнастерки, мелькали парусиновые, беленные зубным порошком туфли, сверкали нагрудные значки, похожие на ордена. Город был залит потоками газированной воды, продававшейся с тележек, – липкие колбы с сиропом, осы и шипящий никель кранов. Город был завален дешевым мороженым – общедоступной радостью распаренной и взвинченной толпы.
Портреты вождей висели на фасадах, закрывая окна, повсюду алели лозунги и призывы, развевались флаги, в скверах пестрели запыленные настурции и табак.
По вечерам в парках лопались шары, распивалось пиво и работали тиры, где каждый мог за сущий бесценок попробовать себя в самом азартном и в самом военном из всех развлечений – в стрельбе!
Все это кружило головы.
Столица была охвачена эйфорией от одержанных побед и от предчувствия новых, еще больших. От надежд на что-то окончательно утверждающее, а на что именно – объяснить было трудно. Да и кому объяснять?
Никто ничего не спрашивал.
Страна что-то строила, а кто задавал вопросы, тем ничего не объясняли. Тех поднимали ночью и увозили в большой представительный дом на площади Дзержинского, где все окна были прикрыты шелковыми шторками, и с улицы виднелись лишь потолки с одинаковыми казенными лампами на пять рожков.
Оттуда, из-под этих пятиконечных ламп, если и возвращались, то не скоро, а чаще не возвращались никогда. Родственникам сообщали о приговоре – 10 лет без права переписки. А куда увезли отбывать срок – это, мол, неизвестно… Вернется – сам расскажет…
На самом же деле все было известно, и все было так просто, что проще некуда. И увозили совсем недалеко. Путь начинался по коридору, по тому самому, которым ежедневно водили на допросы. Потом спускались по лестницам внутренней тюрьмы, и в этом не было ничего необычного. И вот, проходя полутемным переходом вдоль обвислых электропроводов на свет далекой лампочки, осужденный получал неожиданный, страшный удар в затылок… Вряд ли он успевал понять, что произошло.
Ночью, когда улицы были пусты и только редкие моечные машины умывали пыльную столицу, из-за железных ворот выезжали два крытых грузовичка для перевозки мясных продуктов. Они ехали друг за другом, сначала вниз, к площади Свердлова, потом мимо Дома Союзов и, миновав университет, разъезжались. Один сворачивал направо и держал путь мимо консерватории к Никитским воротам, в сторону Красной Пресни. Другой двигался прямо к Библиотеке Ленина, потом по Волхонке и Метростроевской, выезжал на Крымский мост и вскоре попадал на брусчатку полутемной Донской улицы. Тряся фонарями, он исчезал под аркой старых ворот. Вот и приехали. Вот и все… Грузовички разгружались у свежевырытых ям. Один – за стенами необитаемого монастыря, другой – в зарослях старого кладбища.
Да что там грузовички и подвалы!.. Так, кустарщина. То ли дело спецполигоны, где испытывалось новое оружие. Вот где была индустрия! Но об этом знали только пугливые лесные птички.
А наутро столица вновь радовалась маршам и упивалась газированной водой. И никому не было дела до ночных видений. Подумаешь!
Новая жизнь, новые люди, новые надежды…
Где-то на Арбате или на Ордынке, говорят, доживают по коммуналкам свой век какие-то отщепенцы. Ну и что? Пусть доживают. Какое нам дело?
Глава десятая
Из воспоминаний Святослава Рихтера о Генрихе Нейгаузе:
«Сколько влюбленных в него людей… И как многие среди них претендовали на исключительность своего к нему чувства… Его любили, понимали и не понимали, как это и бывает с избранными натурами.
Счастливая случайность сделала меня его учеником. Так судьба подарила мне второго отца. Однако когда я пытаюсь говорить о Генрихе Нейгаузе, мне тотчас становится жалко и страшно разрушить словами прелесть его неуловимо-прекрасного, такого дорогого для меня образа…»
Генрих Нейгауз о Святославе Рихтере:
«Студенты попросили послушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию, в мой класс.
– Он уже окончил музыкальную школу? – спросил я.
– Нет, он нигде не учился.
Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.
И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.
Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул моей ученице: “По-моему, он гениальный музыкант”. После двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще.
С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником…»
Нина Дорлиак о Генрихе Нейгаузе:
«Он никогда не находился в мире бытовых проблем… Такой невзыскательный был. Никогда не слышала от него разговоров, что ему хотелось бы что-то такое, какой-то костюм, например. Ему это было совершенно все равно. Хотя элегантен был всегда, в любом костюме, любом пиджаке, и в кармашек левый был всунут платок так, как ни у кого я не видела! Но это – польская кровь. Он был европеец. Владел несколькими языками, в совершенстве знал польский, немецкий, французский, итальянский, латынь…
Он интересовался всем на свете: явлениями общественной жизни, поэзией, живописью, философией, наукой.
Его коллеги в консерватории, мне кажется, даже если и завидовали немножко его необычности, поеживались от этого, но все же признавали его высокую сущность.
Такого человека, как Генрих Густавович, такого излучения обаяния, доброты, необычайной заинтересованности во всем я никогда не встречала…»
* * *
Нейгауз занимался в 29-м классе на третьем этаже. Класс всегда был переполнен. Нейгауз не столько учил, сколько раздавал, и каждый получал то, что мог унести, что в состоянии был понять. Кто получал охапками, кто горстями, кто лишь щепотками, но никто не уходил просто так.
С первых дней пребывания Рихтера в консерватории о нем заговорили. Вокруг него сразу образовался студенческий кружок, который собирался регулярно в течение всех лет учебы.
На этих собраниях исполнялись забытые, малоизвестные или совсем новые сочинения. Это была музыка, никак не представленная в консерваторских программах, и интерес к ней был тогда огромен. Игралось все, в любых сочетаниях, доступных двум роялям; игрались оперы, симфонии, квартеты и, конечно же, все виды фортепьянной музыки.
Партнерами Рихтера были его однокурсники: Анатолий Ведерников, Виктор Мержанов, Дмитрий Гусаков, Григорий Фрид, Кира Алимасова.
Собрания кружка стали заметным новым явлением художественной жизни консерватории в те годы.
Первые выступления Рихтера в Москве в открытых концертах состоялись в рамках классных вечеров в Малом зале консерватории.
В концертном сезоне 1937–1938 годов он сыграл здесь сонату Бетховена ор. 110, две прелюдии и фуги Баха, затем сонату Бетховена ор. 22 и до-мажорную токкату Шумана.
А весной он был исключен за несдачу экзаменов по теоретическим предметам…
Он не хотел возвращаться в консерваторию. Спасло положение письмо Нейгауза, серьезное и сердечное. Экзамены были пересданы, и вот он снова оказался в своем классе.
Бытовая жизнь в Москве складывалась трудно. Мест в общежитии не было, снимать комнату или угол он не мог. Жить приходилось в разных местах, у разных людей.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Учась в Москве на первом курсе, жил у Лапчинских, на втором – у Ведерникова, на третьем – у Нейгауза. Периодически останавливался у Ведерникова до 1941 года…»
Итак, свой первый год в Москве он провел в семье Лапчинских, давних, но не таких уж близких знакомых отца. Лапчинские занимали небольшую темноватую квартиру на Садовой-Самотечной. Здесь, в трех неудобных, тесно заставленных комнатах, у него не было своего угла. Приходилось подчиняться общему распорядку.
Он гулял с собакой, старался помочь в хозяйстве, но самым трудным, пожалуй, было вести нескончаемые разговоры со всеми и обо всем. Он чувствовал, что теряет время, что занимается крайне мало. Ведь он мог играть лишь тогда, когда все уходили, а такие часы выпадали редко.
Рихтер, как многие люди, получившие подлинно хорошее воспитание, был прост и легок в общении, и Лапчинским казалось, что он естественно и свободно вошел в их жизнь, что ему у них удобно и что они сдружились и сошлись характерами.
На самом деле это было не так. Рихтер был стеснен, мучился этим и скрывал. Ему казалось, что он проявляет мягкотелость и безволие, не умея отстоять свою внутреннюю свободу и защитить свое время.
В письме к матери он вот как это выразил: «Чтобы исправить свой характер, мне надо хорошенько почерстветь».
Но ехать от Лапчинских было некуда, объясниться с ними он не мог, и оставалось одно – примириться. Так прошел год.
Однажды его одноклассник Анатолий Ведерников, в будущем известный пианист, предложил Рихтеру пожить у него.
Одноклассники
Он был невысок, худ и прям. Когда он садился за рояль, его маленькие руки извлекали звук подчеркнуто жесткий, казалось, звучит одна лишь сталь. В его игре была спартанская воля и точность. Это и нравилось, и не нравилось.
С ним хотелось спорить – и одновременно хотелось его слушать.
Родители Ведерникова были недавно арестованы. Оставшись один, он пригласил одноклассника, с которым сдружился еще в прошлом году, когда они засиживались в классе, пока ночной сторож не прерывал их. Интерес к новой музыке заставлял забывать о времени. И они расходились по домам, опоздав на последний троллейбус.
Теперь они зажили вместе в одной из комнат коммунальной квартиры, близ Белорусского вокзала. На двоих у них был один диван, который сразу же стал принадлежать гостю. А хозяин стелил себе на полу, уверяя, что так ему больше нравится. И только в самые холодные ночи, когда по полу дуло, они раскладывали диван и умещались на нем вдвоем.
Они ложились поздно и вставали поздно. Но их бесконечные разговоры и споры нельзя было считать потерей времени, ведь в том, что обсуждалось, не было ничего обывательского. Они ссорились и мирились, их отношения никогда не были простыми, но это была дружба, которой суждено было сохраниться на многие годы.
Ведерников спал на полу и с вечера у своей подушки ставил радиоприемник. Он просыпался раньше. И Рихтер слышал сквозь сон, как он включает радио и тут же убавляет звук.
Но слух музыканта – слух тонкий. Гость уже не спал, а лишь казался спящим. Он слышал, как шли в привычной последовательности передачи: последние известия, утренняя гимнастика. Иногда ему казалось, что он задремывает, но слышать он так и не переставал. Когда начинался «Театр у микрофона», становилось ясно – уже десять. Однако ни вставать, ни разговаривать не хотелось, и он продолжал тихо лежать и казался спящим.
В половине одиннадцатого всегда давали музыку. Иногда это бывало интересно. Тогда раздавалось громкое «Вот это да!» И тут же прибавлялся звук. Так начинался день.
Они поднимались и шли умываться в холодную ванную. Потом, если была еда, ставили чайник, если же не было – уходили в консерваторию и завтракали где-нибудь по пути, где было дешевле. Обедали в столовой, а ужинали иногда в гостях, иногда дома, забежав в магазин перед самым закрытием, а то и не ужинали вовсе.
Так жили многие. Так жили студенты, не имевшие семей. Изредка к ним приходили посылки из Одессы, и в комнате день-другой пахло югом. А дальше их стол становился прежним, то есть попросту скудным.
Но неустроенность быта не мешала им многое успевать. Готовились новые программы. Проводились репетиции. Они бывали в кино, а когда представлялась возможность, то и в театрах. Они читали, и пусть отбор книг мог показаться случайным, что из того? Какая разница, в каком порядке осваивать мировую литературу? Важно то, что прочитанное обдумывалось и обсуждалось. И опять возникали столкновения, и опять они ссорились и мирились. Они не были похожи друг на друга. Каждый выбирал и отстаивал свое.
В 1938–1939 годах Святослав Рихтер в концертах класса Нейгауза сыграл следующее: Лист, соната си-минор и три трансцендентных этюда – «Блуждающие огни», «Пейзаж», «Вечерние гармонии», а также Фантазия Шуберта «Скиталец». Соната Листа и Фантазия Шуберта были существенным вкладом в уже значительный репертуар молодого пианиста. Особенно дорога была ему Фантазия. О ней спустя годы он говорил так: «Субъективно для меня – это, быть может, лучшее фортепьянное сочинение в мире!»
В архиве Святослава Рихтера сохранилось много писем этого периода. Он почти ежедневно отсылал их матери. Очень много думал, скучал по ней. Писал ей о том, что он прочел, сыграл, чем восхитился, о чем он думает. И все время звал ее к себе.
Третий свой год в Москве Рихтер прожил у Генриха Густавовича Нейгауза.
В это время, наряду с Шуманом и Шопеном, в его репертуаре появляются трудные и редко исполняемые в то время сочинения: соната Шимановского ор. 21 и пьесы Равеля «Альборадо дель грациозо» и «Благородные и сентиментальные вальсы».
Это был хороший год, год новой музыки, год новой близости к учителю, и все же жить у Нейгаузов было неудобно. Генрих Густавович уставал и бывал нездоров, кроме того, все пространство квартиры съедалось двумя роялями. Спать приходилось на полу прямо под ними…
В следующем сезоне 1940–1941 годов в репертуаре Рихтера появляются шесть прелюдий Дебюсси, две сонаты Моцарта C-dur № 15 и a-moll № 8, а также соната Бетховена d-moll № 17 op. 31.
Такие программы уже не связываются с понятиями студенческих концертов, однако все это исполняется пока именно на классных вечерах в Малом зале консерватории.
26 ноября 1940 года состоялся концерт из произведений советских композиторов.
Исполнители:
I отделение. Профессор Генрих Густавович Нейгауз
II отделение. Пианист Святослав Рихтер
Это было первое выступление Святослава Рихтера, уже не связанное с классом.
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«От волнения перед первым сольным концертом в Москве меня буквально трясло».
С этого и началась работа Рихтера солистом Московской филармонии.
В самом конце 1940 года – 30 декабря – он впервые играл в Большом зале консерватории концерт Чайковского № 1 ор. 23. Дирижировал Константин Иванов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?