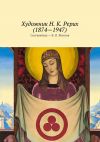Текст книги "Рихтер и его время. Записки художника"
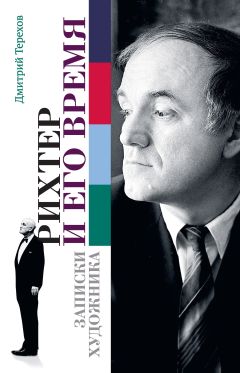
Автор книги: Дмитрий Терехов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Незадолго до этого Славочка познакомился с Анной Ивановной Трояновской, московской художницей, старой и близкой приятельницей Метнера.
Она жила рядом с нами в Скатертном переулке. Уезжая в эмиграцию, Метнер оставил ей свой рояль, и Славочка на нем занимался. Квартира Анны Ивановны тоже была коммунальная. Так в те годы в центре Москвы жило большинство. Но возможность играть в двух местах спасала от столкновений с соседями.
Я возвращалась из консерватории после четырех и готовила. Мы всегда ели дома. Одно время у нас была прислуга, но она вскоре вышла замуж и оставила нас. Мне вновь пришлось заниматься хозяйством. Не скажу, чтобы я этим слишком тяготилась, хотя, конечно же, уставала…»
Глава четырнадцатая
Серое пальто
Сначала он думал – показалось… Но за последние дни понял: его одиночество кто-то тайно разделяет.
Каждый раз, выходя из дома, он чувствовал – за ним следят. Оборачиваясь, он уже всегда видел его. За ним шел человек в сером потертом пальто… Это было крайне неприятно. А может быть, все же случайность? Может, показалось? На всякий случай проверил, свернув из толчеи тротуара в ближайший магазин. Обернулся, и тут же в дверях увидел – серое пальто… Выйдя, направился к метро. Серое пальто было за спиной. Тогда он быстро зашел в подъезд и через секунду уже был у выхода во двор. Но не успел шагнуть через порог, как услышал скрип пружины парадной двери. Пальто следовало за ним с вызывающей самоуверенностью, нимало не заботясь о скрытности.
Теперь он решил не торопиться. Медленно, как бы ожидая кого-то, пошел он двором к подворотне напротив. Тут его уже никто не обгонял. Он вышел к остановкам. Здесь были люди. Подошел автобус. Он всех пропустил и вошел сам. В последний момент он почувствовал ступенькой ниже своего преследователя.
В тесноте он с трудом повернулся. Серое пальто, прижатое к дверям, дышало ему в живот.
– Вы сходите на следующей?
– Да.
– А я ведь не выхожу…
В него снизу вперились жесткие, близко посаженные глаза. Но делать нечего. На следующей остановке «пальто» вышло.
Но через несколько дней опять заметил – следят. Снова следят…
Это продолжалось долго, а потом вдруг кончилось, кончилось само собой. Почему началось, почему кончилось, так и осталось неясным. Жизнь менялась, менялась изнутри, и эти перемены для непосвященных были непредсказуемы и непонятны.
Из обращения группы ученых и деятелей культуры и искусства к заместителю Председателя Совета Министров СССР К. Е. Ворошилову:
«…Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой поддержать наше ходатайство о предоставлении жилплощади пианисту Святославу Рихтеру.
…В военное время его приютил профессор Нейгауз, у которого он был прописан до последнего времени.
…Заниматься ему приходилось и приходится у разных знакомых, которые разрешают ему пользоваться инструментом в зависимости от собственных возможностей. Сплошь и рядом играет он по ночам в Институте имени Гнесиных, так как днем классы заняты.
…Обращаем Ваше внимание на то, что Святослав Рихтер, будучи штатным солистом Московской филармонии, получает жалованье 2400 рублей в месяц… Поэтому думать ему о возможности стать застройщиком или пайщиком в каком-либо строительном кооперативе не приходится».
Письмо подписали народная артистка СССР А. Нежданова, народный артист СССР А. Гольденвейзер, действительный член АМН СССР В. Виноградов, академик С. Вавилов и другие (всего восемь подписей). Ответа не было…
Из письма Святослава Рихтера заместителю Председателя Совета Министров СССР К. Е. Ворошилову:
«…Решил побеспокоить Вас, так как в последнее время совершенно пал духом… Моссовет предложил мне комнату в общей квартире на Песчаной улице… Это явилось результатом моего долголетнего терпеливого ожидания и обнадеживания со стороны Комитета по делам искусств…
От комнаты, предложенной мне Моссоветом, я отказался, так как это нисколько не изменит моего положения. Мне нужна отдельная двухкомнатная квартира, чтобы я проводил мою работу, никому не мешая, 12–14 часов в сутки, захватывая ночные часы. Необходимо, чтобы в одной комнате разместились два концертных рояля… Я смею Вас заверить, что никто из музыкантов, занимающихся большой концертной деятельностью, не находится в таком положении, как я…»
Вскоре после этого письма Рихтеру присудили Сталинскую премию.
Глава пятнадцатая
Из воспоминаний Нины Дорлиак о Святославе Рихтере:
«Итак, мы работали. За последние три года было много совместных концертов в разных городах. В программах романсы Чайковского, Глинки, Рахманинова, Прокофьева, песни Мусоргского. Вокальные циклы Шуберта и Шумана. Песни Гуго Вольфа на слова Мерике и Эйхендорфа, польские песни Шопена, песни Шимановского, всего не перечислишь. Работали много в те годы…
Однажды – телефонный звонок, сильно нас взволновавший. Звонил Шостакович.
– Могу ли я прийти? Мне надо кое-что показать вам…»
Гений
Судить о гении по внешности невозможно. Бытовые наблюдения на глаз только путают. Вот и в этом лице, лице величайшего гуманиста, не было ничего мягкого или доброго в том расхожем понимании, к которому мы все привыкли.
Это лицо очень привлекало, но, пожалуй, не располагало. Оно было предельно обостренным и жестким. Тонкий нос, сжатый рот, напряженный, никогда не отдыхающий лоб, перегруженный нескончаемой работой мысли. Его прямые, коротко стриженые волосы расчесывались на пробор, и в этой прическе что-то детское, что-то стандартно школьное. Он выглядел стариком и мальчиком одновременно. Очки, толстые стекла которых то плоско блестели, то наполнялись темнотой, совсем скрывали близорукие маленькие серые глаза. И все же это лицо имело такой взгляд, что мало кто мог его выдержать. Ибо направлен он был в самую совесть.
Его обращение с людьми было своеобразным. С одной стороны, оно не содержало ни тени высокомерия. Временами даже казалось, что он спешит согласиться с мнением собеседника, с готовностью разделяет его суждение. С другой стороны, с первых минут разговора человеку внимательному становилось совершенно ясно: он не видит тебя, не слышит и соглашается с тобой абсолютно машинально и ему совершенно безразлично то, о чем идет речь.
От большинства людей его отделяла непроницаемая стена его самоизоляции, его замкнутости, его нескончаемой внутренней тревоги или скрытых страданий. Но зато в своем великом искусстве он был раскрыт, распахнут весь, до самых тайных, исповедальных глубин. Он, как никто из великих художников, был понятен, понятен сразу и навсегда. Леопольд Стоковский как-то написал о нем: «Никто, кроме Бетховена, не говорил с человечеством так, как он».
А между тем голос у него был тихий, манера говорить – отрывистая, произношение – немного свистящее. Казалось, он говорил и одновременно пытался вдохнуть ртом и потому слегка задыхался.
У него была привычка по два-три раза повторять фразу и связывать эти повторы словечками «да» или «понимаете».
Он вызывал всеобщее любопытство. Интерес к его личности был огромен. За ним охотились фотографы, кинорежиссеры и журналисты. Премьеры его сочинений становились событиями в национальной культуре. Слава его давно стала всемирной, но чем больше собиралось вокруг него восторженных людей, тем более непроницаемым он становился, замкнутый в своей корректной и безразличной вежливости.
Однако через эту маску все время сквозило беспокойство. На людях он поминутно порывисто вздыхал, не знал, куда девать руки. Он то складывал их на коленях, то, непонятно зачем, трогал свою щеку. Он много и жадно курил. И когда вынимал папиросу, когда закуривал, было видно, что пальцы его дрожат…
Когда он сидел на репетициях своих сочинений, временами казалось, что он хочет исчезнуть. Он то сгибался в своем кресле и смотрел на эстраду снизу-вверх, то поднимался на подлокотниках, словно боролся с удушьем или хотел улететь… Временами он метался, как пойманная птица. Птица старая и больная.
Было очевидно: этому человеку одиноко и тревожно жилось, трудно дышалось и говорилось, плохо спалось. А как работалось? Как сочинялось? Об этом не нам судить. Он создал множество гениальных произведений и, следовательно, работал быстро. Но быстро ведь не значит – легко…
Из воспоминаний Нины Дорлиак о Святославе Рихтере:
«…Но вот он пришел. Мы были страшно взволнованы. Прямо от двери он прошел к роялю и на ходу сказал:
– Я принес вам вокальный цикл на слова еврейской поэзии.
Он раскрыл рукопись и начал играть, чуть-чуть обозначая голосом вокальные партии. Не прерываясь, он сыграл весь цикл.
Для нас это было настоящее потрясение. Мы молчали, не находя слов. Встав, он сказал, что хочет, чтобы я спела партию сопрано и подобрала себе партнеров – меццо и тенора.
После этого он направился к двери. И уже совсем на пороге, словно забыв что-то, вдруг спросил, повторяя слова:
– Ну, как вы живете? Как живете? Не голодаете? Я ответила:
– Да нет. Голодать – не голодаем. Живем, как все… Терпимо.
– Хорошо, что не голодаете. Да. Хорошо. Время страшно трудное. Страшно трудно жить, понимаете. Да! Страшно трудное время… Ну, я пошел. Я пошел. Хорошо, что не голодаете. Хорошо…
Как только за ним закрылась дверь, Слава повернулся ко мне и сказал:
– Ниночка! Вы представляете, что произошло? Вы понимаете, кто был у нас? Ведь это все равно, как если бы к нам пришел Чайковский! Подумать только!..
Слава взял оставленную рукопись и стал ее рассматривать. Я видела, как ему захотелось это играть. Но Шостакович был намерен аккомпанировать сам.
Вскоре я подобрала состав исполнителей. Это были Тамара Янко и Алексей Масленников. Оба они хорошо пели. Янко была маминой ученицей.
Начались репетиции с Дмитрием Дмитриевичем. Все было быстро выучено. Но Янко не давалась одна фраза, всего одна малозначительная фраза. Казалось, еще усилие – и все выйдет, но нет.
Дмитрий Дмитриевич очень корректно, очень мягко все время обращал на это ее внимание, но фраза не получалась с нужной свободой. Дмитрий Дмитриевич предельно вежливо, но настоятельно требовал выполнения всех указаний, подробно выставленных им в нотах.
Было заведено с самого начала, чтобы мы приходили к нему абсолютно точно к назначенному часу. Опоздания были недопустимы.
Мы уже свободно пели весь цикл, а злополучная фраза у Тамары Янко все-таки до конца не получалась. Дмитрий Дмитриевич уже молчал, но чувствовалось, как его это коробит.
Вскоре состоялось исполнение цикла для друзей в квартире Дмитрия Дмитриевича.
Потом мы поехали петь в Ленинград. На концертах я видела многих известных музыкантов, в том числе и Мравинского. Успех был огромным.
А приехав в Москву, мы узнали, что партию, которую пела Тамара Янко, Дмитрий Дмитриевич передал Заре Долухановой.
Репетиции у Шостаковича продолжались, но уже с Зарой.
Однажды получилось так, что я опоздала к назначенному часу. Звоню. Дверь открыл Алик Масленников. Сзади Зара с перепуганными большими глазами.
– Нина, как же вы так опоздали? Что же теперь делать?
– Ничего. Я извинюсь…
Я с моими растерянными партнерами пошла в глубь тихой квартиры… К счастью, мои извинения были приняты благосклонно, и все обошлось.
Дмитрий Дмитриевич очень любовно относился к этой работе и не жалел времени на репетиции. У Зары все звучало прекрасно, и все же мне было неприятно за Янко… Всегда перед концертом цикл проходился особенно тщательно и углубленно. Но никакие репетиции не гарантируют полного благополучия на эстраде.
Однажды я забыла слово… Нет, я не останавливалась. Был лишь какой-то миг замешательства. Забытое слово быстро подсказал сын Дмитрия Дмитриевича, Максим, сидевший рядом с эстрадой. Я моментально поймала нужное место и вступила в ансамбль. Все обошлось, и, как мне казалось, никто ничего не заметил. Но когда мы вышли в артистическую, Дмитрий Дмитриевич сразу же испуганно сказал мне:
– Никогда, никогда не останавливайтесь. Понимаете? Никогда! Да! Никогда, что бы ни случилось, никогда не останавливайтесь. Слышите? Никогда!
Он был сильно взволнован случившимся и долго не мог успокоиться…
В то время Шостакович стремился как можно чаще исполнять этот цикл. И мы постоянно пели его в разных городах Советского Союза. И всегда аккомпанировал Дмитрий Дмитриевич.
А Славочке по-прежнему очень хотелось тоже участвовать в этом.
И однажды я сказала Шостаковичу:
– Дмитрий Дмитриевич, Вы бы не возражали, если Святослав Теофилович в одном из концертов сыграет с нами?
И услышала:
– Нет. Это я сам! Это я сам. Понимаете? Сам буду играть… Сам…
После такого ответа возобновлять разговор я никогда не решалась. Так Славочке и не было суждено играть это произведение…»
Гибель богов. Финал
Окостеневшее нарумяненное лицо утопало в сборках алого атласа. От Прибалтики до Тихого океана все оцепенело в трауре.
В столицу его вызвали телеграммой. Ему следовало играть на похоронах. Самолет, забитый венками, доставил его в столицу.
Вот и зал. Колонны. Люстры в черном крепе. Выяснилось – он будет играть не на рояле, а на оркестровом пианино, что стоит в самом центре беспрерывно играющего оркестра. Ему разрешили пробраться туда, чтобы только взглянуть на инструмент. Лучше бы и не смотреть на него. Пианино было не просто плохое. Оно было сломано. Играть на нем было невозможно. Педали висели, почти касаясь пола. Но ему сказали, что играть он будет, и прямо сейчас. Тогда он вновь пошел, пригнувшись, через играющий оркестр, чтобы попытаться исправить сломанные педали. Он тихо снял нижнюю крышку и осмотрел пыльный, запущенный механизм.
Теперь он был не так заметен из зала, зато привлек к себе пристальное внимание охраны, размещенной на балконах. Чтобы поднять педали и возвратить им упругость, следовало подложить что-то под рычаги со сломанными пружинами. Тогда получится эффект весов, и это может спасти положение.
К счастью, на пианино лежала стопка нот. Он кое-как втиснул их на нужное место. Попробовал надавить рукой. Кажется, получилось, но насколько – пока сказать было трудно. Выбираясь из оркестра, он видел – его уже ждут у всех дверей, куда бы он ни направился. Его тут же окружили. Появился человек в штатском. Осведомился:
– Что вы положили туда?
Пришлось отвечать, и отвечать подробно. И было совсем нелегко объяснить настороженным сотрудникам НКВД, как устроено пианино, что там сломалось и как теперь исправлено.
А оркестр играл и играл свой бесконечный траурный марш, траурный марш и финал… В проеме за колоннами темнел зал, переполненный смертью. Но смерть была не только в зале. Она уже хозяйничала в городе. Миллионы людей вышли на улицы и устремились в центр прощаться с вождем. Войска не могли сдерживать прибывающую со всех сторон толпу.
Все улицы и площади, прилегающие к центру, были заполнены до отказа. Теснота сменилась давкой. Давка – сжатием. Началась паника. Выбраться отсюда уже никто не мог. На телефонных будках, на фонарях, на подоконниках, на водосточных трубах появились люди. Пытаясь спастись, они лезли на все, что хоть как-то возвышалось. Лезли и срывались, срывались и снова лезли, чтобы освободить хотя бы грудь и хоть как-то дышать. Команды остановиться не доходили до сознания. Положение вышло из-под контроля. Вопли, истерический визг – люди насмерть давили друг друга. Давили и старались встать на упавших, чтобы схватить, схватить и еще схватить воздуха.
Но там, впереди, в самом центре – упасть уже не могли и, задавленные насмерть, продолжали стоять в страшных, еще живых тисках. Это были последние жертвы последнего дня кровавой эпохи. Кто мог оплакивать эти безымянные смерти? Они были ничто рядом со смертью державной. Миллионы репродукторов утопили страну в нескончаемом траурном марше.
И мало кто заметил еще одну смерть этого ужасного дня. Мало кто заметил, что в этот же день умер Сергей Сергеевич Прокофьев…
И уж совсем никто не заметил, что в этот все еще зимний день пошли по земле легкие, прозрачные тени. Они двинулись, едва касаясь крыш, чуть задевая фабричные трубы и обезглавленный монастырь, поползли по равнине застывшей реки к складам и свалкам, к полигонам и дачным поселкам, к лесам и мерзлым болотам, вдоль железной дороги, поползли далеко к горизонту, под самый край уже потеплевшего неба…
На пороге было новое время.
14 октября 1997 г. – 17 мая 1998 г.
II. Маленький портрет в барочной раме (Записки художника)
Иль, может, из моих друзей
Двух-трех великих нет людей?
А. С. Пушкин
Знаете, как бывает в музеях?
На пустой стене – маленький портрет в барочной раме. Сам он – темен и почти не виден. Зато кругом – резные листья со следами стертой позолоты, сатиры, нимфы, сюжеты королевских забав.
Рама стара и прекрасна, легка и суха. Ее не портят ни следы древоеда, ни отколы, ни трещины.
Прошли века.
Теперь это уже что-то вроде короны, некий признак высшего достоинства, драгоценный ковчег, где сохраняется Дух.
Раскрытые створки удерживают шлифованное стекло, в котором совсем темно, только чуть светит серо-голубой взгляд, едва угадывается прекрасный купол лба, небрежный мазок воротника под старым лаком, да сургучное ухо, да складка от крыла носа к углу рта.
Остальное – ты сам. Собственное отражение. Смотри сколько хочешь.
И все-таки…
Глава первая. Знакомство
Поедем, я готов, куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я.
А. С. Пушкин
И все-таки сначала надо познакомиться и сказать, что шел 1947 год.
Вот – моя мама, Лия Викторовна Терехова-Обни́нская. Она еще довольно молода. Ей чуть-чуть за сорок. Она – дочь Виктора Петровича Обнинского, журналиста и публициста, трагически погибшего за год до революции и известного по своим книгам «Новый строй» и «Последний самодержец Николай II».
Облик маминой матери, Клеопатры Александровны Саловой, на памяти у многих – благодаря прекрасному рисунку Серова «Дама с зайчиком», сделанному в 1904 году, в год рождения моей мамы…
Подмосковный город Обнинск каким-то чудом до сих пор носит это имя, хотя ударение перескочило на первую букву.
По семейным преданиям, в доме Обнинских, стоящем и сейчас в руинах на окраине этого города, в 1812 году отсиживались от французов. Просто заперлись. А с крыши ночами было видно зарево над Москвой, полыхавшей за девяносто верст на северо-востоке.
Это о маме, для начала.
Теперь – Анюша, или Анна, или Анна Ивановна Трояновская – моя тетка, двоюродная сестра мамы. Ее отец – московский терапевт Иван Иванович Трояновский, а мать – Анна Петровна Обнинская – родная сестра маминого отца.
В 1947 году Анюше уже шестьдесят три, и она в полной мере – живой осколок прошлого. В начале века училась живописи в Париже, у самого Матисса, кроме того, одно время серьезно занималась пением в какой-то консерватории в Италии. Впоследствии прожила всю жизнь в Москве, была с незапамятных времен членом Союза художников и, не без успеха, преподавала пение, занималась дома, на Арбате, в Скатертном переулке.
Доктор Трояновский имел в жизни два великих пристрастия – искусство и орхидеи. В этой любви он был совершенно счастлив. Одна из лучших в мире коллекций орхидей принадлежала Ивану Ивановичу. И когда случился пожар и сгорело почти все, то со всего мира ему начали присылать клубни погибших цветов, и таким образом потерянное, казалось, безвозвратно было быстро восстановлено.
Лечились же у Ивана Ивановича почти все известные в то время художники и музыканты. Среди них были Левитан и Серов, Шишкин, Шаляпин, Рахманинов, Танеев, и даже Римский-Корсаков как-то приезжал к нему в Москву.
Анюша вспоминала:
– Тихий, вежливый человек с длинными бледными пальцами…
Дом Трояновских в Буграх был в четырех верстах от дома Обнинских. В Москве же обе семьи жили у Никитских ворот, в нескольких шагах друг от друга. Все знакомства были общими.
Это – Анюша.
А теперь – главное. Святослав Теофилович Рихтер.
Здесь ему тридцать два года. Москва только начала восхищаться его концертами. Еще было много людей, предпочитавших Софроницкого или Гилельса. Однако Большой зал консерватории, когда там играл Рихтер, уже бывал так переполнен, что ни о каких билетах в кассе и речи не могло быть.
Мама звала его Слава. Анюша – Славушка, Славенька; когда же речь заходила о серьезном – Святослав. И очень редко, за глаза, конечно, когда дело касалось каких-то государственных или культурно-мировых значений, Анна говорила: «Рихьтер» — с мягким «х».
– Рихьтер!
И глаза ее делались жесткими и наступательными. Тут уж – никаких поблажек! Она его защищала! Она любила его нежно и восхищенно, хотя и деспотически. А говоря о нем с нами, часто прибавляла слово «бедный».
Анюша читала по-французски и по-немецки, как по-русски, – наверное, только чаще, чем по-русски. И слово «бедный» на этих языках, как выражение нежности, понимания, сострадания, как-то естественно перешло в ее сознании на личность Святослава Теофиловича и прочно здесь утвердилось.
Анна Ивановна говорила:
– Святослав играет сегодня… Бедный мальчик! Он совсем болен…
Потом, помолчав:
– Господи, только бы ему начать, только б начать…
Речь, помню, шла о вариациях A.B.E.G.G. Шумана. Рихтер в те годы играл очень большие программы, и многое – впервые в своей жизни. Поэтому каждый концерт был для него и для нее испытанием. Вариациями A.B.E.G.G. начинался один из таких концертов в Большом зале консерватории.
В этот день Анюша все как бы тихо напевала про себя простой немецкий мотив – первые такты – и повторяла:
– Господи, только бы начать, ведь совсем, совсем болен бедный мальчик…
Чем же был болен Рихтер?
Страшной взыскательностью внутреннего слуха. Он был болен таким совершенством музыкального воображения, что никакие руки, даже его, никакая техника не казались ему достаточными для выполнения своих задач. Из-за этого до сих пор многим непонятна его беспощадность к себе, его постоянное недовольство собой.
Особенно трудно, особенно страшно ему было начинать концерты.
И вот, в безмолвии переполненного, ожидающего зала, где слуховое напряжение так велико, что кажется осязаемым, он сидит за роялем, откинув голову, как бы вспоминая; то кладет, то снимает с клавиатуры руки, примериваясь; и вдруг неожиданно начинает… Он сыграл тему чисто и легко и как будто издалека. Это даже не прозвучало, а словно донеслось в зал из увитого плющом старого немецкого окна, и началась шумановская поэзия. Вариации – одна лучше другой. Концерт с каждой минутой все больше захватывал зал.
Как во всяком великом искусстве, здесь счастливо соединялись противоположности. Размах и точность. Вулканическая мощь и бережность. Сила и нежность. Никто еще не играл так прозрачно, как Рихтер, так подчиняя себя автору и так всем невидимо владея.
А ведь всего два часа назад он сидел за столом у Анны Ивановны и молчал. Иногда он тихо вздыхал, рассматривая стену, и чуть двигал углом рта. Так выслушивают тяжкое известие или думают о непоправимом. И на его лице появлялась горестная складка, как на старинном портрете, которую так мешало видеть отражение!
Сказать, что я любил Рихтера, – это ничего не сказать! Я опасался называть его по имени и отчеству. Я говорил ему только Вы с самой большой буквы. Он же хотел, чтобы я звал его Слава, что было немыслимо для меня. И это Вы надолго осталось и только с годами перешло в спокойное и взрослое Святослав Теофилович. А он говорил иногда:
– Анна Ивановна, вы видите, как мне с Митей трудно? Он меня слишком уважает…
Многие годы я провел рядом с Рихтером. Судьба подарила мне счастье видеть его, есть, гулять, разговаривать с ним, часто быть рядом, когда он работал, слышать его рассуждения о музыке, литературе, живописи, о театре, о кино, я бывал почти на всех его московских концертах, и я совершил непростительное: ничего не записывал, не вел никаких дневников, не считал эти счастливые дни, которые складывались в годы, десятилетия, уходя и уходя… И сейчас я располагаю только его драгоценным присутствием в моей памяти. Только этим…
Итак, для начала, три человека. Мама, Анна Ивановна, Святослав Теофилович… По ходу рассказа в освещенный круг этого повествования будут входить и навсегда уходить из него люди, знавшие и не знавшие друг друга…
Но с чего же все-таки начать?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?