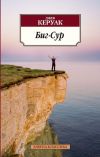Текст книги "Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже"

Автор книги: Джек Керуак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Жлобье камбузного моря
Вы когда-нибудь видели, как огромный сухогруз скользит по бухте сонным днем, а вы тянете взгляд вдоль железной змеистой длины в поиске людей, моряков, призраков, что должны управлять этим грезящим судном, которое так мягко раздвигает воды гавани своей стальной рулькой носа с рылом, глядящим на четыре стороны света мира, а не видите ничего, никого, ни души?
А вот же идет он при свете дня, угрюмый скорбный корпус слабо вздрагивает, непостижимо позвякивая и позванивая в машинном отделении, пыхтя, нежно бурля сзади погребенным гигантским водвинтом вперед, трудясь в открытое море, к вечности, звездам сектанта полоумного помощника при падении розовой манзанильевой ночи вдали от побережья печального прибойного мира – к дегтярницам других рыбацких бухт, таинствам, опийным ночам в иллюминаторных царствах, узким главным топталовкам Курда. Вдруг, бог мой, понимаешь, что смотрел на некие бездвижные белые крапины на палубе, между палубами в надстройке, и вот они где… пестрые сотрапезники по кают-компании в белых тужурках, они все это время опирались неподвижно, как несъемные части корабля у люка в коридор на камбуз. Время после ужина, весь остальной экипаж хорошо накормлен и крепко спит на припадочных шконках дремы. Сами же до того покойные наблюдатели мира, пока выскальзывают во Время, что ни один наблюдатель судна не окажется не обманут и не изучен много прежде, чем увидит, что они люди, что они единственное живое в виду. Магометанские чико, отвратительные мелкие славяне моря, выглядывают из безмозглых своих кухонных тужурок – негры в поварских колпаках, венчающих блестящее мучимое чело черное, – у мусорных баков вечности, где латинские феллахи покоятся и дремлют в притихшем полудне. И потерянные спятившие чайки ёкают, опадая вокруг серым и беспокойным саваном на движущийся полуют. О, кильватер, медленно вскипающий в бурлении дикого винта, что из машинного отделения на валу вращается и заводится сгораниями и давлениями и раздражительными стараниями германических стармехов и греческих уборщиков с косынками пота, и лишь мостик может направить всю эту беспокойную энергию к какому-то Порту Разума через громадные одинокие неописуемые моря безумия. Кто в форпике? Кто на ахтердеке? Кто на крыле мостика, помощник? Ни любящей души. Старый bateau пробирается по нашей сонной бухте на покое и держит курс к теснинам, устьям Нептунова Оша, тончающим, меньшающим, пока наблюдаем – мимо бакена – мимо мыса суши, – безрадостная, прокопченная, серая тонкая вуаль дремы фляпает с трубы, разносит волны жара до небес – флаги на вантах просыпаются от первого морского ветра. Мы едва можем различить название судна, скорбно выписанное на носу и на борту вдоль фальшборта верхней палубы.
Вскоре от первых долгих волн судно это станет разбухающим морским змеем, пена прижмется, развертываясь, к торжественным устам. Где дневальные, которых мы видели опиравшимися на уютные послепосудоуборочные поручни, на солнышке? Уже вовнутрь ушли, задраили заглушки долгому тюремному сроку рейса в открытом море, железо будет стянуто боньг и плоско глухо, как дерево на пьяных надеждах порта, в лихорадочных бредовых радостях ночи на Эмбаркадеро первые десять выпивок белые бески попрыгивают в буром рябом баре, весь синий Фриско дик от моряков, людей, фуникулеров, ресторанов, горок, ночь сейчас, лишь белогорый городок уклонами за твоим мостом «Золотые Ворота», мы выходим в море.
Время – час. Пароход «Уильям Карозерс» отплывает в Панамский канал и Мексиканский залив.
Один снежистый флаг кильватера трепещет с кормы эмблемой зашедших внутрь дневальных. Вы их видели, как проплывают к морю мимо вашего пассажирского парома, вашего цепномостого на-работу-катательного «Форда», поваренковичные, сальнофартучные, испорченные, злые, убогие, как кофейные опивки в бочонке; пустяковые, как апельсиновая кожура на масляной палубе; белые, как чаячий помет – бледные, как перья – птичьи – одержимые похабные помойные ребята и сицилийские искатели приключений по усатому морю? И спрашивали себя про их жизнь? Джорджи Варевски, когда я впервые с ним познакомился в то утро в профкоме, выглядел настолько призрачным судомоем, плывущим к своим Сингапурам безвестности, что я сразу понял, что видал его уже сто раз – где-то, – и знал, что увижу его и еще сто раз.
У него был тот чудесно развращенный вид не только преданного лихорадочного европейского официанта-алкаша, но также нечто крысиное и пронырливое – дико, он ни в кого не вглядывался, в коридоре стоял наособицу, как аристократ некоего собственного внутреннего безмолвия и причины ничего не говорить, как, вы убедитесь, и все истинные пьяницы в своей пьяницкой болезни, коя есть отсрочка от возбуждения, у них будет тонкая, вялая улыбка, смутная в уголках ртов и сообщающаяся с чем-то глубоко внутри их, будь то отвращение либо содрогающаяся похмельницкая радость, и не желают сообщаться с другими нипочем (это дело вопящей пиющей ночи), вместо этого будут стоять одни, страдать, улыбаться, в глубине души смеяться в одиночестве, короли боли. Штаны у него были мешковаты, измученная куртка, должно быть, всю ночь мялась под головой. Низко на конце одной длинной руки и пальце висел смиренно дымящий потерянный бычок, прикуренный несколькими часами раньше и попеременно зажигаемый, и забываемый, и сминаемый, и носимый кварталами по содрогательно серой необходимой деятельности. Глядя на него, скажешь, что он истратил все свои деньги, и теперь надо сесть на другое судно. Стоял он, слегка согнувшись вперед в поясе, готовый к происхождению любой чарующе юмористической и иной случайности. Низенький, светловолосый, славянский – у него были змеиные скулы, грушевылепленные, которые в пойле наканочи засалились и залихорадили, а теперь были бледной червяной кожей, – над ними его изворотливые светозарные голубые глаза, косясь, глядели. Волосы жидкие, редеватые, также измученные, словно какая-то великая длань пьяной ночи схватила их в жменю и дернула – весь скошенноватый, худой, пепельного цвета, балтийский. У него был пушок бороденки – ботинки тертосношены. Такого можно представить в безупречном белом пиджаке, волосы зализаны по бокам в парижских и трансатлантических салунах, но даже это ни за что не сотрет с него славянского тайного коварства в его взглядах украдкой, да и то лишь себе на башмаки. Губы пухлые, красные, густые, сжаты и бормочны, словно чтоб промямлить: «Сцукисын…»
Стали выкликать на работу, я получил должность каютного стюарда; Джорджи Варевски, вороватому, дрожащему, виноватому, нездоровому на вид блондину досталось дневалить, и он улыбнулся своей изнуренной аристократической бледной отдаленной улыбкой. Судно звали пароход «Уильям Карозерс». Всем нам полагалось явиться куда-то под названием «Армейская база» в 6 утра. Я тут же подошел к своему новому товарищу по плаванию и спросил его: «А где эта Армейская база?»
Он перевел на меня взгляд с лукавой улыбкой: «Я тебе покажу. Встретимся в баре на Маркет-стрит, 210 – у Джейми – в 10 сегодня вечером – пойдем, переночуем на борту, доедем на поезде А через мост».
«Лады, договорились».
«Сцукисын, мне теперь гораздо лучше».
«Что случилось?» Я думал, ему легче оттого, что ему только что работа перепала, про которую он думал, что не достанется.
«Болел. Всю ночь вчера бухал всё, что вижу».
«Что?»
«Мешал».
«Пиво? Виски?»
«Пиво, виски, вино – чертову зеленую д-р-р-рянь». Мы стояли снаружи на огромных ступеньках профкома в вышине над синими водами залива Сан-Франциско, и вот они были, белые суда на приливе, и вся моя любовь восстала воспевать мою новообретенную моряцкую жизнь. Море! Настоящие суда! Мое прелестное судно пришло, не во сне, а наяву, со спутанным такелажем и натуральными помощниками капитана, и направление на судно запрятано в моем бумажнике, и лишь накануне ночью я пинал тараканов у себя в крохотной темной комнатке в трущобах Третьей улицы. Мне хотелось обнять своего друга. «Как тебя звать? Это здорово!»
«Джордж – Джордж-ии. – Я полак, меня так и звать, Чокнутый Полок. Меня все так знают. Я киррряю и кирряю, и проябую все время, и с работы меня вышибают, на судно опаздываю. Они мне тут еще один шанец дали – я так болел, что видеть не мог, а теперь мне чутка получшело».
«Пивка прими, выправишься».
«Нет! Я тогда сызнова начну, я ж че-окнутый буду, два, три пива, бум! И нет меня, слетаю, ты меня больше не увидишь». Жалкая улыбка, шмыг плечами. «Так оно все. Чокнутый Полок».
«Мне дали ЖП – тебе КК».
«Они мене дают еще один шанец, а потом тока “Джорджи, бум, пошел вон, сдохни, ты уволен, ты не моряк, смешной сцукисын, проябуешь слишком много” – я-то знаю, – ощеривается он. – Они мне по глазам видят, блестят, сразу говорят: “Джорджи опять бухой” – нет – еще одно пиво не могу, я не проябу ничё до отхода».
«Мы куда?»
«Мобайл под погрузку – Дальний Восток – может, Йипонния, Ёкохама – Сасэбо – Кобэ – Не знаю – Может, Коррея – Может, Сайгон – Индокитай – никто не знает. Я тебе покажу, что работать надо, если ты новенький. Я Джордж Варевски Чокнутый Полок. Мне вапще поябать».
«Ладно, дружище. Встречаемся в 10 сегодня вечером».
«Маркет, 210 – и не набухайся и не приди!»
«Да и ты! Если пропустишь, я один пойду».
«Не перживай. У меня денег нету ни сцукисыного цента. Денег нет проесть».
«А пару дубов на еду тебе не надо?» Я вынул бумажник.
Он лукаво посмотрел на меня: «У тебя есть?»
«Два дуба точно».
«Ладно».
Он ушел, руки в карманы штанов смиренно, разгромленно, но стремительной решительной походкой, ноги шебуршились по прямой к его цели, и, когда я посмотрел, шел он действительно до крайности быстро – голову вниз, смущенный миром и всеми портами света, куда он врежется своим проворным шагом.
Я повернулся, вдохнуть великого свежего воздуха гаваней, воодушевленный моим везеньем – я представлял себя с суровым ликом, устремленным к морю сквозь Предельные Врата Златой Америки, чтоб никогда не вернуться; видел саваны серого моря, каплющие с моего ростра.
Я ни разу не размышлял о темной фарсово-фуриозной реальной жизни этого бродячего рабочего мира, ух ты.
В ревущей собственной кровеналитости я объявился в 10 часов того вечера без своих пожитков, лишь с моим мореманским корешем Элом Саблеттом, который праздновал со мной мой «последний вечер на берегу». Варевски сидел глубоко в основательном баре, безпитый, с двумя пьяными пьющими моряками. Он не притронулся ни к капле с тех пор, как я его видел, и с такой вот унылой дисциплиной обозревал чашки, предлагаемые и всяко, а также все объяснения. Вихорь мира захватил этот бар, когда я ввалился в него с укоса, Ван-Гоговы половицы текли к бурым уборным из щелястых досок, плевательницам, скоблестолам в подсобке, словно салуны вечности в унылом Лоуэлле и с ним же. Так оно было, в барах Десятой авеню Нью-Йорка я да и Джорджи – первые три пива в октябрьские сумерки, ликование вопля детей на железных улицах, ветер, суда в ленте реки – как мерцающее зарево растекается в животе, даруя силу и превращая мир из места скрежетзубовно серьезной погруженности в частности борьбы и жалобы, в гигантскую нутряную радость, способную пухнуть, как растянутая тень, тенетами дали обогромленная и с той же сопутствующей потерей плотности и силы, чтоб утром после 30-го пива и 10 виски, а также раннеутренних дуракавалятельных вермутов на крышах, в польтах, погребах, местах вычтенной энергии, не прибавленной, чем больше пьешь, тем больше ложной силы, а ложная сила вычитаема. Хлюп, поутру мужик мертв, бурое заунывное счастье баров и салунов в содрогающейся пустоте целого света, и нервные окончания, медленно живущие, смертельно отрезаются в центре кишок, медленный паралич пальцев, рук – фантом и ужас человека, некогда розовенького младенчика, ныне дрожащий призрак в трескучей сюрреалистской ночи городов, забытых лиц, швырнутых денег, выметанного харча, пойла, пойла, пойла, тысяч пережеванных разговоров в тусклостях. О радость белогребнего моряка либо бывшего моряка, алкаша, завывающего в проулке Третьей улицы в Сан-Франциско под кошачьей луной, и даже пока торжественное судно распихивает по сторонам воды «Золотых Ворот», впередсмотри на баке одинокого белорубахого годного к службе моряка, курсом на Японию на форпике со своей трезвящей кружкой кофе, рябоносый бродяга бутылок готов расколотиться об узкие стены, призвать свою смерть в безнервенных степенях, отыскать свою хилую пленку любви в крученом табурете одиноких унылых салунов – все иллюзия.
«Сцукисын ты, наж-р-р-ался», – расхохотался Джорджи, видя, как я ввалился на бровях, дикие деньги так и каплют с моих штанов – колочу по стойке бара: «Пива! пива!» И все равно бухать не желал. «Я не проябу, пока на борт не сяду, на сей раз я насовсем потеряю, профсоюз насовсем на меня насцыт, прощевай, Джордж, бум». И его лицо налито по́том, липкие глаза избегают хладных пен на вершинах пивных стаканов, пальцы по-прежнему вцеплены в тихокурый окурок, весь ископченный никотином и узловатый от трудов мира.
«Эй, дядя, где твоя мати?» – заорал я, видя его в таком одиночестве, маломалого и позаброшенного во всем этом буром усложненном миллионномотыльковом нажиме и надсадном напряге бухла, пахоты, пота.
«Она в Восточной Польше с моей сестрой. Не желала ехать в Западную Германию, потому что набожная и помалкивает, и гордая – она в церкву ходит, – я ничего ей не посылаю. Толку что?»
Его амиго хотел выцыганить у меня доллар. – «Это кто?»
«Ладно, дай ему доллар, у тебя теперь судно есть, моряк он». Мне не хотелось, но доллар я ему дал, и когда Джорджи, и я, и друг Эл уходили, он меня назвал х-сосом за то, что с такой неохотой. Поэтому я вернулся, ему вмазать или накрайняк с минутку побарахтаться в море его борзости и подвести его к извинениям, но все как-то смазалось, и я ощутил грохот кулаков и треск дерева и черепов, и полицейские фургоны в буром чокнутом воздухе. Оно куда-то пошкандыбало, Джорджи ушел, стояла ночь. Эл ушел. Я шкандыбал по одиноким ночным улицам Фриско, смутно осознавая, что должен попасть на судно в шесть или упустить его.
Проснулся в 5 утра в своей старой железнодорожной комнатке с драным ковром и занавеской, задернутой на несколько футов закопченной крыши, от нескончаемой трагедии китайского семейства, чей мальчик-чадо, как я уже говорил, пребывал в непрекращающейся муке слез; его папуля всякий вечер задавал ему трепку, чтоб молчал, мать вопила. Теперь на заре серое безмолвие, в коем взорвался факт: «Я упустил судно». У меня все еще оставался час, чтоб успеть. Подхватил свой уже сложенный морской мешок и выскочил наружу – спотыкливая плечсумка, в серой дымке судьбоносного Фриско бегом ловить мой залихватский поезд А по-мосту-через-бухту на Армейскую базу. Такси от поезда А, и я уже у шлепающей каймы судна, труба у него с «Т», что значит «Транстопливо», видно над серым военно-морским свалкосараем. Я поспешил дальше вглубь. То был пароход «Либерти», черный с оранжевыми стрелами и сине-оранжевой трубой – «УИЛЬЯМ Х. КАРОЗЕРС» – ни души не видать. Я взбежал по вихлястым сходням со своей мешконошей, швырнул ее на палубу, огляделся. Паровые лязги с камбуза прямо по курсу. Моментально я понял, быть беде, когда на меня затявкал германский крысеныш с красными глазками, как сильно я, дескать, опоздал, у меня при себе мои железнодорожные часы доказать, что задержался я лишь на 12 минут, но с него градом лился красный пот ненависти – позднее мы прозвали его Гитлер. Вмешался кок с четкими усиками:
«Он всего на 12 минут опоздал. Пошли раскочегарим завтрак, а поговорим потом».
«Тшортовы парни тумают, могут являтса с опостанием, а я молтши. Путеш пуфетшик», – произнес он, вдруг улыбнувшись, дабы втереть эту свою симпатичную мыслишку.
Буфет пшик чуть не сказал я, но кок взял меня за плечо: «Тебя прислали каютным стюардом, так и будешь каютным стюардом. Только на это утро делай, как он говорит. Хочешь, чтоб он сегодня посуду мыл?»
«Ну, нам рук не хватает».
И я уже чуял, как поток жаркого оклендского дня давит сверху на мое похмельное чело. Мне улыбался Джорджи Варевски: «Я тужурку принесу, мы сегодня вместе работаем, я те покажу». Он свел меня вниз по стальным коридорам ужаса в бельевую, непереносимая жара и скорбь, что тянулись пред моими костьми, лишь не так давно я, по крайней мере, в бродяжьей своей свободе потягивался по желанию когда угодно в изгнаннической гостинице сезонников. Теперь же я был в армии – я заглотил быстрый бенни, чтоб как-то не спасовать – сохранил себе работу. От стенаний кошмара и сонной тошноты у раковины со всенощной вахтой и кипой докерских тарелок я за 20 минут впихнулся в активное пылкое энергичное благоволение, задавая вопросы всем, включая хорька-стюарда, хватая людей за руку, подаваясь, выслушивая горести, будучи добр, работая как собака, беря на себя лишнее, впитывая всякое слово наставления, что произносил Джорджи, из бензедринного отчаяния любить, работать, учиться. Потея ведрами на сталь.
Вдруг увидел себя в зеркале носового кубрика, зализанновласый, круги под глазами, в белой тужурке вдруг-официант-раб шаланд, где неделю назад я ходил прямой долготалийно по Пломто Местному, железнодорожные деньки в сонных гравийных рывках, давая буферу сигнал трогаться, не теряя достоинства, когда проворно гнулся переключить прелестную стрелку. А тут я чортов судомой, так и написано у меня на сальном лбу, да и за меньше денег. Все ради Китая, все ради опийных притонов Ёкохамы.
Завтрак проплыл, как во сне, я носился сквозь всё, бенниватый, только через 24 часа я даже сделал паузу – распаковать мешок или глянуть на воды и назвать их Оклендскими.
Меня отвел ко мне на жилые стюардовы квартиры отставной ЖП, который был старым бледношкурым дядькой из Ричмонд-Хилл, Лонг-Айленд (то есть солнечные ванны принимал, не выходя на палубу, в сиянии сухого белья, только что постиранного и сложенного). Две койки в одной каюте, но размещенные жутко рядом с взбухающими пламенами из машинного отделения, вместо изголовья у одной была дымовая труба, так было жарко. Я в отчаянии огляделся. Старик был доверителен, ткнул меня: «В общем, если ты раньше в ЖП не работал, у тебя могут быть неприятности». Это значило, что я должен серьезно глядеть на его белый лик и кивать, поглубже в него вглядываться, погребаться в огромном его космосе, всему учиться – всё ЖП. «Если хочешь, я тебе покажу, где тут всё, только мне не положено, потому что я списываюсь – тем не менее». Он и списался, у него ушло два дня на сборы, целый час только на то, чтоб натянуть кошмарно недужные прискорбные выздоравливающие носки, цвет у них был белый, на свои беленькие худенькие лодыжки; завязать шнурки, провести пальцем по тыльной стенке своего шкафчика, палубам, подволокам, нет ли где соринки, которую он мог забыть уложить – болезненное пузико торчало из бесформенности его жерди. Это ли ЖП Джек Керуак в 1983-м?
«Ну ладно тебе, покажи мне, что тут что! Мне приниматься пора».
«Полегче давай, не сипяти – только капитан пока встал, а на завтрак еще не спускался. Покажу – вот смари – это если хочешь, а я списываюсь и не обязан». И он забыл, что́ собирался сказать, и вернулся к своим белым носкам. Было в нем что-то от лазарета. Я кинулся искать Джорджи. Судно было один сплошной огромный новый железный кошмар – не сладкое соленое море.
И вон меня шатает по трагической тьме рабского коридора с метлами, швабрами, рукоятками, палками, тряпками, торчащими из меня, как из грустного дикобраза; физия моя опущена долу, встревожена, пристальна – парю в мире аэров над той милой предыдущей постелью подпольного удобства на Сволочном Ряду. У меня огромная коробка (пустая) для свалок из пепельниц и мусорок комсостава, у меня две швабры, одна для гальюнных полов, другая для палуб – мокрая тряпка и сухая тряпка, – авральные вахты и замыслы мои собственные. Я хожу, яростно ища свой участок работы – невнятные люди стараются обогнуть меня в коридорах, стремясь исполнить судовую работу. После нескольких бессвязных власосвисающих траурных мазков по полу у старпома он выходит с завтрака, дружески со мной треплется, он станет капитаном судна, ему неплохо. Я отмечаю интересные нотки в выброшенных блокнотиках у него в мусорной корзине, касаемо звезд. «Подымись в штурманскую рубку, – говорит он, – и найдешь там в корзине массу интересных блокнотов». Потом я так и делаю, а там заперто. Появляется капитан – я пялюсь на него огорошенно, потно, ожидаючи. Он тут же видит идиота с ведром, его коварный ум тут же принимается за дело.
Он был низкорослый, на вид почтенный седовласый человек в очках в роговой оправе, одет хорошо, франтовато, глаза морезеленые, повадкой тих и непритязателен. Под всем этим таился спятивше шкодливый извращенный дух, что уже в тот первый миг начал себя проявлять, когда он сказал: «Да, Джек, тебе только надо научиться правильно выполнять свою работу, и все будет в порядочке – вот, к примеру, делаешь сейчас уборку – погляди-ка, иди сюда». Настоял, чтоб я зашел поглубже к нему в жилье, где он мог говорить тихо. «Когда ты, погляди-ка, ты не… (Я начал различать безумное в его заиканьях, передумываньях, икоте смысла) – …не одной шваброй моешь гальюн и палубу», – мерзко произнес он, тоном мерзким, чуть не рявкнув, и я, где минуту назад восхищался достоинством его призвания, великими навигационными картами у него на рабочем столе, теперь сморщил нос оттого, что понял – идиотский этот человек весь залип на швабрах. «Бывают такие штуки, микробы называются, знаешь», – сказал он, как будто мне это неведомо, хотя что он понимает в том, насколько мне наплевать на его микробы. Вот мы утром в калифорнийской гавани обсуждаем такие вопросы в его безупречной каюте, она все равно что царство перед моим трущобным чуланом, и какая ему будет разница, да ни в жисть.
«Да, так и буду делать, не беспокойтесь – э – дядя – капитан – сэр –» (без понятия, как натурально разговаривать в новых морских милитаризмах). Глаза его заискрились, он подался вперед, что-то нездоровое было и что-то еще, какая-то карта в рукаве. Я обслуживал все каюты комсостава, выполняя бестолковую работу, вообще-то не очень понимая как, и ждал, когда Джорджи или кто-нибудь мне покажет. Дремать днем некогда, с бодуна днем пришлось делать судомойство за 3-го кока у раковины на камбузе с огромными котлами и сковородами, пока мужик не пришел из профкома. Здоровый армянин с близко посаженными глазами, жирный, вес около 260; он что ни день перекусывал на работе – сладких картошек, куски сыра, фрукты, все он попробовал, а между съедал плотные трапезы.
Его каюта (и моя) была первой в коридоре по левому борту, лицом к баку. По соседству жил палубный механик, Тед Джойнер, один; частенько и не раз по вечерам в море он приглашал меня к себе коксануть и вечно с доверительной глубокоюжной цветистолицей дружелюбной и – «Щас я те правду скажу, мне на самом деле не нравится такой-то-и-такой-то, и вот мне оно каково, но я те правду скажу, ты поссушь, ни хера те не вру, а я те правду скажу, дело тут просто во-ну мне вообще-то это не нравится, и я те правду скажу, мямлить не стану; я ж не мямлю, Джек?» Тем не менее первый благородный господин всего судна, он был откуда-то из глубин Флориды и тоже весил 250, вопрос только в том, кто ел больше, он или Гаврил, мой большой сожитель, 3-й кок; я бы сказал, что Тед.
А теперь я вам правду скажу.
Дальше по соседству жили два грека-уборщика, один Джордж, другой никогда не разговаривал и едва ли представился вообще – Джордж из Греции, а «Либерти» это фактически было греческим, только плавало под американским флагом, кой множество раз впоследствии трепетал над моими предвечерними гамаками на кормовой палубе. Глядя на Джорджа, я думал о бурой листве Средиземноморья, рыжевато-бурых портах, узо и фигах острова Крит или Кипр, такого он был цвета и с усиками, и с оливково-зелеными глазами, и с солнечным настроением. Поразительно, до чего он сносил шуточки всей остальной команды касаемо этой предрасположенности греков любить, когда сзади. «Ей, ей! – смеялся он рассыпчато. – В жопу, ей ей». – Его уклончивый сокаютник был молодой человек, прямо у нас перед глазами в процессе старения – по-прежнему моложавый лицом, и с любовницкими усиками, и все так же моложавый фигурой в руках и ногах, он отращивал пузо, которое выглядело непропорционально и казалось все больше всякий раз, когда я наблюдал за ним после ужина. Какой-то потерянный любовный роман попросту заставил его бросить попытки выглядеть молодо и по-любовницки, предполагал я.
Столовая экипажа располагалась рядом с их носовым кубриком, тогда каютой Джорджа; буфетчик и дневальный кают-компании явились только на второй день – потом в носовом конце лицом к носу, главный кок и 2-й кок и пекарь. Главным коком был Чонси Престон, негр также из Флориды, но сильно дальше из Кизов, и он фактически смахивал на вест-индца, помимо обычного американского южного негра с жарких полей, особенно когда потел у плиты или молотил по говяжьим вырезам тесаком; отличный повар и милый человек сказал мне, когда я мимо проходил с тарелками: «Что у тебя там, милый?» И весь жесткий и жилистый, как боксер, черная фигура его совершенна, непонятно, как он не растолстел на тех потрясающих ямсах и ямсовых подливах, и рагу из свиных голяшек, и южной жареной курицы, что сам и готовил. Но при первой чудесной еде, что он приготовил, раздался низкий спокойный угрожающий голос светловолосого кудрявого шведа-боцмана: «Если нам на этом судне солить еду не надо, значит, мы не хотим, чтоб ее солили», и През ответил ему с камбуза точно таким же низким и спокойным угрожающим голосом: «Не нравится – не ешь». Видно было, тучи сбираются на рейс…
2-й кок и пекарь был хипстер, профсоюзный чувак, то есть деятель – поклонник джаза – франт – мягкий, усатый, элегантный, бледно-золотого окраса кок синих морей, который мне сказал: «Чувак, не обращай внимания на жалобы и выступления ни на этом судне, ни на каком другом, где можешь в будущем затусить, просто делай свою работу как умеешь хорошо, и (мырг) у тебя все получится – папаша, я врубаюсь, ты понял, да?»
«Еще б».
«Значит, просто не парься, и мы будем одна большая счастливая семья, сам увидишь. Я в том смысле, чувак, это ж люди, – только и всего, все люди. Главный кок През, люди – настоящие люди – капитан, старший стюард, ладно, нет. – Мы это сечем – мы вместе стоим».
«Врубаюсь».
В нем было больше 6 футов, носил шикарные белые с синим парусиновые туфли, фантастически роскошную японскую шелковую спортивную рубашку, клево купленную в Сасэбо. У койки его огромное дальнобойное портативное радио, коротковолновый «Зенит» ловить бопы и шмопы мира отсюда до жарчайшего Мадраса, но никому не давал послушать, если самого при этом не было.
Мой здоровенный сожитель Гаврил, 3-й кок, тоже хипов был, тоже профсоюзник, но одинокий большой жирный скрытный нелюбящий и нелюбимый жлоб моря: «Чувак, у меня все пластинки, что Фрэнк Синатра вообще записывал, включая “Не могу начать”, сделанную в Нью-Джерси в 1938 г.».
«Не рассказывай мне, что у него все как-то развиднелось?» – подумал я. И был там Джорджи, чудесный Джорджи и обещание тысячи пьяных ночей в таинственном пахучем океано-препоясанном мире Ориента. Я был готов.
После того как всю вторую половину дня я мыл камбузные котлы и сковороды, работенка, что я уже пробовал в 1942 г. в серых холодных морях Гренландии, а теперь счел не столь унижающей, скорее что ни на есть нырок в преисподнюю и совестью заработанные труды в пара́х, наказание в горячей воде и ошпаре за все синенебые пыхи, на которые я в последнее время налегал (и пересып в четыре сразу перед тарелками ужина), я отвалил в свою первую ночь на берегу в обществе Джорджи и Гаврила. Надели чистые рубашки, причесались, спустились по трапу в прохладе вечера: вот морские каковы.
Но как типично для моряков, они ж никогда ничего не делают – просто сходят на берег с деньгами в карманах и тупо шаркают везде враскачку и даже с неким незаинтересованным сожалением, гости из другого мира, плавучей тюрьмы, одетые по гражданке, все равно и смотреть там не на что. Мы прошли по обширным свалкам военно-морских припасов – огромных серовыкрашенных пакгаузов, дождевалки поливали утраченные лужайки, которых никому не хотелось, да и не пользовались ими вообще, а они пролегали между рельсами военно-морской верфи. Невообразимые расстояния в сумерках, и никого на виду в красноте. Грустные гурты матросов выплывают себе из гигантского макрокосмоса найти микрокосмического жучка и отправиться к удовольствиям центрального Окленда, кои числом ноль, на самом деле, только улицы, бары, музыкальные автоматы с нарисованными на них гавайскими хула-девушками – цирюльни, бессвязные винные лавки, вокруг тусуются персонажи жизни. Я знал единственное место, где оттянуться, женщин себе срастить, глубоко в мексиканских или негритянских улицах, которые пролегали на окраинах, но пошел за Джорджи и Тушей, как мы потом прозвали 3-го кока, в бар в центре Окленда, где мы просто сели в буром сумраке. Джорджи не бухал, Туша ерзал. Я пил вино, я не знал, куда податься, что делать.
Нашел на автомате несколько хороших пластинок Джерри Маллигена и крутил их.
Но назавтра мы отплыли сквозь «Золотые Ворота» в серых туманных времяужинных сумерках, опомниться не успели, как обогнули мысы Сан-Франциско и потеряли их под серыми волнами.
Рейс вдоль Западного побережья Америки и Мексики, снова, только в этот раз в море в полном виду смутной бурой береговой линии, где иногда по ясным дням я мог отчетливо видеть арройо и каньоны Южно-Тихоокеанской железной дороги, где она пролегала вдоль полосы прибоя – как смотреть на старую мечту.
Бывали ночи, когда я спал на палубе в гамаке, а Джордж Варевски говорил: «Сцукинсын ты, я однажды проснусь утром, а тебя там нет; ччортов Тихий, ты думаешь, ччортов Тихий – тихий океан? Придет как-нибудь ночью большая приливная волна, когда тебе девчонки снятся, и пуф, тебя нету – тебя смоет».
Святые рассветы и святые закаты в Тихом, когда все на борту спокойно себе работают или читают на шконках, бухла больше нет. Спокойные дни, которые я открывал на заре грейпфрутом, разрезанным на половинки у лееров, а подо мной вот они – улыбчивый дельфин скачет завитушками во влажном сером воздухе, иногда в мощных проливных дождях, от которых море и дождь одно и то же. Я сочинил об этом хайку:
Вотще, вотще!
Тяжкий дождь гонит
В море!
Спокойные дни, когда я шел и обсирался, ибо глупо менял свою каютную работу на судомойную, которая на судне лучшая работа из-за мыльно-пенного уединения, но потом я глупо перевелся в официанты комсостава (дневального кают-компании), и то был худший род занятий на борту. «Ты чего не улыбаешься приятно и не говоришь “доброе утро”?» – сказал капитан, когда я ставил перед ним яичницу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?