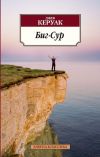Текст книги "Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже"

Автор книги: Джек Керуак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Я не из улыбчивых».
«Разве так положено комсоставу завтрак подавать? Ставь бережно, двумя руками».
«Ладно».
Меж тем стармех орет: «Где этот чертов ананасный сок, мне апельсиновый на хрен не нужен!» И мне приходится бежать вниз к трюмным кладовым, поэтому, когда я возвращаюсь, старпом весь пылает, потому что ему завтрак задержался. У старпома густые усы, и он себя считает героем из романа Хемингуэя, которого обслуживать надо педантично.
И когда мы идем Панамским каналом, я глаз не могу отвести от экзотических зеленых деревьев и листвы, пальм, хижин, парней в соломенных шляпах, глубокой бурой теплой тропической грязи там вдоль берегов канала (а Южная Америка сразу за болотом в Колумбии), но комсостав орет: «Шевелись, черт бы тебя драл, ты что, Панамского канала никогда не видел, где на хрен обед?»
Мы прошли по Карибскому (синяя блескучая шипучка) в бухту Мобил и в Мобил, где я сошел на берег, напился с парнями, а потом отправился в гостиничный номер с хорошенькой молоденькой Розой с Дофин-стрит и пропустил утренний наряд. Когда мы с Рози шли рука об руку по Мэйн-стрит в 10 утра (жуткое зрелище, мы оба без белья или носков, на мне только штаны, на ней только платье, футболки, обувка; шли себе пьяные, а она еще и милашка), увидел это все не кто-то, а капитан, шибавшийся вокруг со своим туристским фотиком. А на борту мне устроили взбучку, и я сказал, что в Новом Орлеане спишусь вон.
И вот судно выходит из Мобила, штат Алабама, на запад к устьям Миссисипи, в грозу с молниями в полночь, что расцвечивает соляные болота и громадности той великой дыры, куда Америка изливает душу свою, свою грязь и надежды единым роскошным падучим шмяком воды в фатум Залива, возрождение пустоты, в ночь. А я там пьяный в гамаке на палубе гляжу на все это похмельными глазами.
И судно пыхтит себе прямо вверх по Миссисипи обратно в самое сердце американской земли, где я только что ездил стопом, черт бы его драл, никакого экзотического Сасэбо для меня не случится. Джордж Варевски поглядел на меня и ухмыльнулся: «Сцукинсын Джекряк, прояб, а?» Судно идет и причаливает к какому-то спокойному зеленому берегу, вроде берегов Тома Сойера, где-то выше по течению от Лапласа, под погрузку масла в бочонках на Японию.
Я забираю расчет около $300, сворачиваю вместе с теми $300, что остались от железной дороги, взваливаю вещмешок свой снова на горб, и вот я опять пошел.
Заглядываю в столовую команды, где посиживают все ребята, и ни один на меня не смотрит. Мне странно. Говорю: «Ну, когда отход обещали?»
Они посмотрели на меня пусто, глазами, которые меня не видели, как будто я призрак. Когда на меня поглядел Джорджи, у него во взгляде тоже это было, такое, что говорит: «Теперь, когда ты уже не член экипажа, на этой призрачной приблуде, ты для нас покойник». «Ты нам теперь больше ни за чем» – мог бы добавить я, припоминая все те разы, когда они добивались моего общества ради скучных дымных заходов на треп в койках, а огромные жирные пуза свешивались, как ворвань в кошмарной тропической жаре, и ни один иллюминатор не открыт. Или сальные признания в проступках, в которых не было шарма.
Преза, негра, главного кока, уволили, и он шел в город вместе со мной и попрощался на тротуарах старого Нового Орлеана. Руководство там было антинегритянским – капитан хуже всех прочих.
През сказал: «Вот бы мне хотелось в Нью-Йорк с тобой, и пойти в “Птицляндию”, но мне надо судно себе надыбать».
Мы сошли по трапу в безмолвии позднего дня.
Машина 2-го кока курсом на Новый Орлеан просквозила мимо нас по шоссе.
Нью-Йоркские сценки
В это время мама у меня жила одна в квартирке в Ямайке, Лонг-Айленд, работала на обувной фабрике, дожидаясь, когда я вернусь домой, чтобы составить ей компанию и раз в месяц сопровождать в «Рэдио-Сити». У нее меня ждала крохотная спаленка, чистое белье в комоде, чистые простыни на кровати. Облегчение после всех спальников и шконок, и железнодорожной земли. То была еще одна из многих возможностей, что она мне давала всю свою жизнь, чтоб я просто был дома и писал.
Я всегда отдавал ей всю оставшуюся получку. Остепенялся в долгих сладких снах, целоденных медитациях дома, писании и долгих прогулках по любимому старому Манхэттену лишь в получасе подземкой. Я бродил по улицам, мостам, Таймс-сквер, кафетериям, набережным, разыскивал своих друзей, поэтов-битников, и бродил с ними; у меня были любовные романы с девушками в деревне. Я делал все с той великой безумной радостью, что бывает, когда возвращаешься в Нью-Йорк.
Слыхал, великие поющие негры зовут его «Большое Яблоко»!
«Теперь там тебе замкнутый город Манхэттов, опоясанный причалами», – спел Герман Мелвилл.
«Обвязанный вокруг сверкучими приливами», – спел Томас Вулф.
Целые панорамы Нью-Йорка повсюду, от Нью-Джерси, от небоскребов.
Даже из баров, вроде бара на Третьей авеню – 4 утра, мужчины все ревут в возбуждении дзынь-чпок стаканов у поручней стойки с латунной подножкой, «ты куда это пшел». В воздухе октябрь, в дверном проеме солнце индейского лета. Два продавца с Мэдисон-авеню, день-деньской работавшие, входят молодые, хорошо одетые, строго костюмы, пыхают сигарами, рады, что с днем всё, и наступает выпивка; бок о бок входят, улыбаясь, но места у ревущей (Еть!) переполненной стойки нет, поэтому они становятся вторым рядом от нее, ждать и улыбаться, и разговаривать. Мужчины и впрямь любят бары, и хорошие бары любить надо. Здесь полно предпринимателей, работяг, Финнов Маккулов Времени. Оробленные старосерые пьянчуги, грязные и пивохлещуще радые. Безымянные грузовые автобусоводилы, на бедрах болтаются фонарики; старые свекольнохарие пивоглоты печально возносят пурпурные губы к счастливо питейным потолкам. Бармены проворны, учтивы, заинтересованы в своей работе, как и в клиентуре. Как Дублин в 4:30 пополудни, когда работа сделана, но это Третья авеню великого Нью-Йорка, бесплатный обед, запахи выхлопа, реки, обеда на Моуди-стрит, дороге копоти, что мимомешается у двери, гитароиграющие герои с долгими бакенбардами вынюхивают на деревянных крылечках предвечерней дремы. Но это нью-йоркские башни дальше высятся, голоса трещат, калечатся поболтать и пережевать сплетни, пока Уховерт не выронит свой груз. Ах, Джек Фицджералд Могучий Мёрфи, где же ты? Полулысые, синяя рубашка драна, землекопы в дангери, обтрепанных по концам, в кулаках стаканы сиястеклянной пены поверх бурого предвечернего пива. Под ногами рокочет подземка, а чувак в хомбурге и жилете, но без костюма, управляющий какой-то, переступает с правой ноги на левую на твоем латунном поручне. Цветной дядька в шляпе, величавый, молодой, под мышкой – газета, прощается у бара, тепло и отечески суясь к мужчинам – лифтер из-за угла. И не тут ли, говорят, Новак, агент-недвижник, который, бывало, засиживался допоздна, держа равнение на то, чтоб выправиться и разбогатеть, в своей келейке белого червячка, печатая отчеты и письма, а жена с детками с ума сходят дома в 11 вечера. Целеустремленный, встревоженный, в кабинетике Острова, прямо на улице неприметный, но открытый любым деловым предложениям и во младенчестве любое дело может быть мелким, как устремленье великим – сколько уж косточки его тлеют? И так свой миллион и не заработал, так и не выпил с Пока Жи Жи и Я Тоже Тебя Люблю в этой околовечерней пивной мужчин возбужденных, ерзающих табуреты и каблуками-подошвами скребущих придонные ногопоручни в Нью-Йорке? Никогда не подзывал старого очкарика и не предлагал его красному от дужки носу выпить, никогда не смеялся и не давал мухе садиться ему на нос, как на посадочный знак, но посреди ночи прободение язвы от того, чтоб разбогатеть и все лучшее жене и деткам. Поэтому лучшая американская почва ему сейчас одеялом, сделанным на верхних фабриках «Залив Гудзон» Луноликого Сакса и притащенным сюда на телеге маляром в белой робе (безмолвным), окантовать скитания его некогда слепленной плоти, а там черви пускай таранят – Обод! Так вкепайте еще пива, пьянчуги. Громилы чертовы! Любовнички!
У меня с друзьями в Нью-Йорке есть свой особый способ веселиться, не тратя много денег, а самое главное – не домогаются формалистические зануды, как, скажем, роскошный вечер на балу у мэра. Не нужно жать руки и не надо назначать встречи, и нам нормально. Мы как бы бродим везде, как дети. Забредаем на вечеринки и рассказываем всем, чем занимались, а люди думают, это мы так хлещемся. Они говорят: «О, смотрите, битники!»
Возьмем, к примеру, вот такой типичный вечер, который можно себе устроить. Вынырнув из подземки Седьмой авеню на Сорок второй улице, проходишь сортир, который битовейший сортир в Нью-Йорке, никогда нипочем не скажешь, открыт он или нет, обычно там перед ним здоровенная цепь, гласящая, что он не работает, или же снаружи шибается какой-нибудь седовласый разлагающийся монстр. Это сортир, мимо которого все семь миллионов человек в Нью-Йорке в тот или иной раз проходили и странным манером замечали его – мимо нового прилавка с жаренными-на-углях-гамбургерами, «Библейских киосков», исправных музыкальных автоматов и захудалой лавки подпольных использованных журналов рядом с арахисово-хрупким магазином, пахнущим аркадами подземки – там и сям подержанный экземпляр этого старого барда Плотина, вкравшийся промеж остатков собраний немецких учебников для старших классов, где продают длинные захудалые на вид «горячие собаки» (нет, вообще-то они вполне красивые, особенно если у тебя нет 15 центов и ты ищешь кого-то в «Кафетерии Бикфорда», кто может подкинуть тебе форцов, одолжить тебе налички.
Поднимаешься по той лестнице, люди там стоят часами и стоят, пуская слюну под дождем, с промокшими насквозь зонтиками – кучи парней в дангери, боящихся идти в армию, полуподнявшись по лестнице на железных ступеньках, в ожидании бог его весть чего, среди них определенно какие-то романтические герои только что из Оклахомы со стремлениями в итоге оказаться страждущим в объятиях какой-нибудь непредсказуемой сексапильной юной блондинки в пентхаусе на Эмпайр-стейт-билдинг – кое-кто из них, вероятно, стоит там, мечтая завладеть Эмпайр-стейт-билдинг посредством волшебного заклинания, которое они себе намечтали у ручья на заросших задворках захудалого старого дома на закраинах Тексарканы. Стыдно, что видно, как заходят в грязную киношку (как название-то?) через дорогу от нью-йоркской «Таймс» – лев и тигр мимоходом, как говаривал Том Вулф об определенных субъектах, проходивших мимо того угла.
Опираясь на ту сигарную лавку со множеством телефонных будок на углу Сорок второй улицы и Седьмой, откуда совершаешь прекрасные телефонные звонки, глядя изнутри на улицу, а там становится очень уютненько, если снаружи льет, а тебе нравится длить разговор, кого находишь? Баскетбольные команды? Баскетбольных тренеров? Туда ходят все эти парни с роликового катка? Снова кошаки из Бронкса, им лишь бы поприключаться, любовной романтики себе ищут? Странные дуэты девушек, выходящие из грязных киношек? Вы их вообще видали? Или попутавшие пьяные предприниматели, у которых шляпы наперекосяк на седеющих бошках, кататонически пялятся вверх на знаки, проплывающие на здании «Таймс», мимо катят огромные фразы про Хрущева, народности Азии перечисляются вспыхивающими лампочками, всегда пятьсот точек после каждого предложения. Вдруг на углу возникает психопатически встревоженный полисмен и говорит, чтобы все уходили. Таков центр величайшего города, что когда-либо ведал свет, и вот что здесь делают битники. «Стоять на уличном углу и никого не ждать – вот власть», – речет поэт Грегори Корсо.
Вместо того чтоб ходить в ночные клубы – если вы в положении нощноклубно тусоваться (большинство битников гремит пустыми карманами, минуя «Птицляндию») – как странно стоять на тротуаре и просто глядеть, как мимо канает этот эксцентричный жутик со Второй авеню, похожий на Наполеона, щупая крошки печенек у себя в карманах; или 15-летний пацан с личиком маленького мерзавца, или же кто-то вдруг проносится мимо в бейсболке (потому что видишь только ее), и наконец старая дама, одетая в семь шляп и длинную потасканную шубу посреди июльской ночи, тащит громадный русский шерстяной ридикюль, набитый исписанными клочками бумаги, гласящими: «Корпорация Фестивальный Фонд, 70 000 микробов», а из рукавов ее разлетается моль – она подскакивает и досаждает Храмовникам. И вещмешковые солдаты без войны – дудцы в гармоники с товарняков. Разумеется, есть и нормальные ньюйоркцы, выглядят они до нелепости неуместно и так же странно, как их собственная опрятная странность, тащат пиццы и «Дейли ньюс», и направляются к бурым полуподвалам или пенсильванским поездам. Можно увидеть, как сам У. Х. Оден теребится мимо под дождем – Пол Боулз, щеголь в дакроновом костюме, проездом из Марокко, призрак самого Германа Мелвилла, преследуемый Бартлби, Писцом с Уолл-стрит, и Пьером, неоднозначным хипстером 1848 года на прогулке – посмотреть, что творится во вспышках новостей «Таймс» – вернемся же к газетному киоску на углу. РЫВОК В КОСМОС… ПАПА РИМСКИЙ ОМЫВАЕТ НОГИ БЕДНЯКАМ…
Перейдем через дорогу к «Гранту», нашему любимому обеденному месту. За 65 центов получаешь огромную тарелку жареных моллюсков, массу французского жареного картофеля, маленькую порцию капустного салата, немного татарского соуса, плошечку красного соуса к рыбе, ломтик лимона, два ломтя свежего ржаного хлеба, плюху масла, а еще за десять центов – стакан редкого березового пива. Что за праздник там есть! Миграции испанцев, жующих «горячие собаки», стоя, опираясь на большие горшки горчицы. Десять разных прилавков с разными фирменными блюдами. Десятицентовые сандвичи с сыром, два бара с пойлом для Апокалипсиса, о да, и великими равнодушными барменами. И легавые стоят позади, наедаются за так – пьяные саксофонисты в откидоне, – одинокие горделивые тряпичники с Гудзон-стрит ужинают супом, никому не говоря ни слова, с черными пальцами, горе. Двадцать тысяч клиентов в день – пятьдесят тысяч в дождливый день – сто тысяч в снежный день. Работает двадцать четыре часа в ночь. Уединенность – великолепна под палящим красным светом, полным разговоров. Тулуз-Лотрек, с его уродством и тростью, рисует в углу наброски. Там можно побыть пять минут и заглотить еду либо же зависнуть на много часов, ведя безумные философические беседы с друганом и размышляя о людях. «Давай слопаем по “горячей собаке” перед тем, как идти в кино!», и так там улетаешь, что до кино и не доходишь, потому что тут лучше, чем представление про Дорис Дэй в отпуске на Карибах.
«А что мы сегодня вечером будем делать?» «Марти хотел пойти в кино, а нам надо срастить дряни. Пошли в “Автомат”».
«Минуточку, мне ботинки надо почистить на пожарном гидранте».
«Хочешь посмотреть на себя в зеркале смеха?»
«Хочешь снять четыре снимка за четвертачок? Потому что на вечной сцене. Можно посмотреть на картинку и вспомнить ее, когда мы мудрые старые седовласые Торо в хижинах».
«Ах, смешных зеркал больше нет, у них тут раньше была комната смеха».
«Как насчет “Смех-Кина”?»
«Тоже уже нет».
«Есть блошиный цирк».
«У них еще есть танциндефки?»
«Бурлеск исчез еще много миллионов лет назад».
«Зайдем тогда в “Автомат” и будем смотреть, как старухи фасоль едят, или на глухонемых, которые там стоят перед окном, а ты на них смотришь и пытаешься вычислить невидимый язык, пока он скачет от лица к лицу через окно и с пальца на палец?.. Почему на Таймс-сквер себя чувствуешь, как в большой комнате?»
Через дорогу «Бикфордс», прям посреди квартала под козырьком «Театра Аполлон» и совсем рядом с книжной лавочкой, что специализируется на Хэвлоке Эллисе и Рабле с тыщами половых маньяков, что там роются в ларях. «Бикфордс» есть величайшее тусовалово на Таймс-сквер – многие отвисали там годами, и муж, и мальчик искали лишь бог весть чего, может, какого-то ангела Таймс-сквер, что превратил бы всю эту большую комнату в дом родной, в старую усадьбу – цивилизации это нужно. Что за дело вообще у Таймс-сквер? Можно тогда и кайф от нее получить. Величайший город, что только свет видывал. А на Марсе есть Таймс-сквер? Что бы Капля на Таймс-сквер делала? Или святой Франциск?
У терминала Портового управления из автобуса выходит девушка и идет в «Бикфордс», китаянка, красные туфли, садится с кофе, папика ищет.
По Таймс-сквер плавает целая популяция, для которой в «Бикфордс» всегда была штаб-квартира, день и ночь. В старину при битом поколении некоторые поэты, бывало, ходили туда повстречаться со знаменитым субъектом Ханки, который обычно заходил сюда и выходил отсюда в черном дождевике не по размеру и с мундштуком, ища, кому всучить ломбардную расписку – пишмашинка «Ремингтон», портативный радиоприемник, черный дождевик – белками разжиться (получить сколько-то денег), чтоб можно было поехать в северные районы и там нарваться на неприятности с легавыми либо кем угодно из его мальчонок. А также обычно рассекали тучи глупых гангстеров с Восьмой авеню – может, и до сих пор – те, что были в старину, теперь в тюрьме или умерли. Ну, а поэты туда просто ходят и выкуривают трубку мира, ища тень Ханки или его мальчиков, и грезят над блекнущими чашками чаю.
Битники подчеркивают, что, если б ходил туда каждую ночь и оставался там, мог бы единолично начать сезон Достоевского на Таймс-сквер и познакомиться с полуночными торговцами газет и путаницами их, и семьями, и горестями – религиозными фанатиками, что станут провожать тебя домой и читать долгие проповеди за кухонным столом о «новом апокалипсисе» и тому подобных идеях: «Мой священник-баптист еще в Уинстон-Салеме рассказал мне, зачем Господь изобрел телевидение, это чтоб когда Христос на землю опять вернется, они его распнут прямо на улицах тутошнего Вавилона, а телевизионные камеры у них будут смотреть точно на это место, и по улицам кровь будет течь, и всякий глаз это увидит».
Еще голодный, выходишь до «Ориентального кафетерия» – тоже «излюбленного обеденного места» – какая-то ночная жизнь – дешево, – в полуподвале через дорогу от монолита автостанции Портового управления на Сороковой улице, и ешь там большие масляные бараньи головы с греческим рисом за 90¢. – Ориентальные мелодии зигзагами на музыкальном автомате.
Теперь уже все зависит, насколько высоко ты улетел, подразумевая, что срастил себе на каком-нибудь перекрестке, скажем, Сорок второй улицы и Восьмой авеню, возле здоровенной аптеки Уэлана, вот еще одно одинокое намазанное место, где можно встречаться с людьми – негритянскими блядьми, дамами, ковыляющими в бензедриновом психозе. Через дорогу оттуда можно видеть руины Нью-Йорка уже начатые – там сносят отель «Глобус», пустая дыра на месте зуба прямо на Сорок четвертой улице – и в небе лыбится зеленое здание «Макгро-Хилл», такое высокое, что не верится – одинокое само по себе дальше ближе к реке Гудзон, где под дождем своего монтевидеоского известняка ждут сухогрузы.
Можно и домой пойти. Стареет. Либо: «Упромыслим Виллидж или сходим на Нижний Ист-Сайд, сыгранем Симфонического Сида по радио или покрутим наши индийские пластинки и съедим большие мертвые пуэрто-риканские стейки, или рагу из легких – поглядим, не покромсал ли Бруно еще крыш на машинах в Бруклине, хотя Бруно теперь помягчел, может, новое стихотворение написал».
Или глядь в телевидение. Ночная жизнь – Оскар Левант болтает о своей меланхолии в программе Джека Паара.
В «Пяти точках» на Пятой улице и Бауэри иногда на фортепиано играет Телониус Монк, и ты идешь туда. Если знако́м с владельцем, садишься за столик бесплатно с пивом, но, если его не знаешь, можно пробраться внутрь и встать у вентилятора, и послушать. По выходным всегда толпа. Монк размышляет со смертоносной абстрактностью, плонк, и делает заявление, огромная нога нежно отбивает по полу, голова склонена набок, слушая, входя в пианино.
Там играл Лестер Янг незадолго до смерти и, бывало, сиживал между отделениями в задней кухне. Мой приятель, поэт Аллен Гинзберг, зашел туда и встал на колени, и спросил, что он будет делать, если на Нью-Йорк упадет атомная бомба. Лестер ответил, что разобьет витрину в «Тиффани» и все равно сопрет какие-нибудь драгоценности. А кроме того, спросил: «Ты чего это делаешь на коленях?», не сознавая, что он великий герой битого поколения и ныне преклоняем. «Пять точек» освещены темно, там жутенькие официанты, всегда хорошая музыка, иногда по всему заведению из своей большой тенор-дудки ливнем разливает свои грубые ноты Джон «Трен» Колтрейн. По выходным все место под завязку набито компаниями прилично одетых жителей северных районов, трещащих без умолку – никто не возражает.
О, на пару часиков хотя бы, в «Египетские сады» в Челси, в районе греческих ресторанов на Нижнем Уэст-Сайде. Стаканчики узо, греческой выпивки, и прекрасные девушки, танцующие танец живота в блестках и лифчиках с бисером, несравненная Зара на полу, и вьется, как таинство, под флейты и дзыньдзяновые ритмы Греции, а когда не танцует, сидит в оркестре с мужчинами, что плюхают себе по барабанам у животов, в глазах грезы. Громадные толпы, похоже, пар из Предместий сидят за столиками, хлопая качкой Ориентальной идее. Если опоздал, придется стоять у стены.
Потанцевать хочешь? «Садовый бар» на Третьей авеню, где можно исполнять фантастические расползающиеся танцы в тусклом заднем зале под музыкальный автомат, дешево, официанту все равно.
Хочешь просто поговорить? «Кедровый бар» на Юниверсити-плейс, где тусуются все художники, и 16-летний пацан там как-то днем брызгал красное вино из испанского бурдюка в рот своим друзьям и вечно промахивался…
В ночных клубах Гринич-Виллидж, известных под названиями «Полунота», «Деревенский авангард», кафе «Богемия», «Деревенская калитка», также играет джаз (Ли Кониц, Дж. Дж. Джонсон, Майлз Дэвис), но тебе нужно мучо денег, да и не столько дело в мучо денег, сколько в прискорбном коммерческом духе, что убивает джаз, и джаз сам себя там убивает, потому что принадлежит джаз открытым радостным десятицентовым пивнухам, как вначале.
В мансарде какого-то художника идет большая пьянка, на фонографе дикое громкое фламенко, девушки вдруг все сплошь бедра и каблуки, и народ пытается танцевать среди их мятущихся волос. Мужчины с ума сходят и давай ставить всем подсечки, поддомкрачивать и метать через всю комнату, мужчины обхватывают мужчинам колени и отрывают на девять футов от пола, и теряют равновесие, и никого не зашибает, блямк. Девушки уравновешиваются руками на коленях мужчин, их юбки отпадают и приоткрывают кружавчики у них на бедрах. Наконец все одеваются расходиться по домам, и хозяин очумело говорит: «Вы все так респектабельно смотритесь».
Или у кого-то премьера только что, или поэтическое чтение в «Живом театре», или в кафе «Газосвет», или в кофейной галерее «Семь искусств», все вокруг Таймс-сквер (Девятая авеню и Сорок третья улица, потрясное местечко; начинается по пятницам в полночь), где потом все выскакивают в старый дикий бар. Или же огромная балеха у Лероя Джоунза – у него новый номер журнала «Югэн», который он печатает сам на разболтанной машинке с ручкой, и в нем у всех стихи, от Сан-Франциско до Глостера, штат Массачусетс, а стоит он всего 50 центов. Исторический издатель, тайный хипстер ремесла. Лерою вечеринки осточертели, все постоянно сымают рубашки и давай плясать, троица сентиментальных девиц курлыкает над поэтом Реймондом Бремсером, мой друган Грегори Корсо спорит с репортером из нью-йоркской «Пост», утверждая: «Но ты ж не понимаешь Кангарунского плача! Отринь ремесло свое! Сбеги на Энченедские острова!»
Давайте выбираться отсюдова, тут слишком литературно. Пошли, напьемся на Бауэри либо поедим той длинной лапши и чаю в стаканах у Хун Бата в Чайна-тауне. Чего это мы все время жрем? Пошли, перейдем Бруклинский мост и еще аппетиту себе нагуляем. Как насчет окры на Сэндс-стрит?
Тени Харта Крейна!
«Пошли, посмотрим, получится найти Дона Джозефа или нет!»
«Кто такой Дон Джозеф?»
Дон Джозеф – потрясный корнетист, который бродит по Виллидж в своих усиках, руки по бокам болтаются с корнетом, который поскрипывает, когда он играет тихо, не, даже шепчет; величайший сладчайший корнет после Бикса и даже больше. Он стоит на музыкальном автомате в баре и играет под музыку за пиво. Похож на симпатичного киноактера. Он великий сверхблистательный тайный Бобби Хэкетт джазового мира.
А что насчет парня по имени Тони Фрускелла, который сидит по-турецки на коврике и играет на своей трубе Баха, со слуха, а потом попозднее в ночь дует с парнями на сейшаке современный джаз.
Или Джордж Джоунз, тайный саван с Бауэри, который лабает отличный тенор в парках на заре с Чарли Мариано, оттяга для, потому что они любят джаз, и вот раз у порта на заре они целую сессию сыграли, а парень колотил по причалу палкой для ритма.
Кстати, о саванах с Бауэри; взять того же Чарли Миллза, что бродит по улице с побродяжниками, хлещет себе винище из горла и поет двенадцатитоновую додекафонику.
«Пошли, поглядим странных великих тайных художников Америки и обсудим с ними их картины и их видения – Айрис Броуди с ее нежной желтовато-коричневой византийской филигранью Богородиц».
«Или Майлза Форста и его черного быка в оранжевой пещере».
«Или Франца Кляйна и его паутины».
«Проклятущие его паутины!»
«Или Виллема де Кунинга и его Белое».
«Или Роберта де Ниро».
«Или Доди Мюллер и ее Благовещения в семифутовой высоты цветках».
«Или Эла Лезли и его полотна с великанскими ступнями».
«Великан Эла Лезли спит в здании “Парамаунта”».
Вот еще великий художник, его звать Билл Хайне, он на самом деле тайный подземный художник, который сидит со всякими зловещими новыми кошаками в кофейнях Восточной Десятой улицы, которые и на кофейни-то не похожи совсем, а все как бы такие полуподвальные магазины подержанной одежды с Генри-стрит, вот только видишь над дверью африканскую скульптуру или, может, скульптуру Мэри Фрэнк, а внутри крутят на вертушке Фрескобальди.
Ах, давайте вернемся в Виллидж и постоим на углу Восьмой улицы и Шестой авеню, да поглядим, как мимо гуляют интеллектуалы. Репортеров «АП» шкивает до дому в полуподвальные квартирки на Вашингтон-сквер, дамы-авторессы редакционных статей с громадными немецкими полицейскими овчарками, рвущимися с цепей; одинокие коблы тают мимо, неведомые спецы по Шерлоку Холмсу с синими ногтями подымаются к себе в комнаты принять скополамину, мускулистый молодой человек в дешевом сером немецком костюме объясняет что-то зловещее своей толстой подружке, великие редакторы учтиво склоняются к газетному киоску, приобретая ранний выпуск «Таймс»; огромные толстые перевозчики мебели из фильмов Чарли Чаплина за 1910 год возвращаются домой с огромными кульками, набитыми чоп-суи (всех накормить надо); меланхоличный арлекин Пикассо, ныне владелец печатной и рамочной мастерской, размышляет о своей жене и новорожденной детке, подымая палец, чтобы поймать такси; спешат в меховых шапках пузатенькие инженеры звукозаписи, девушки-артистки из «Коламбиа» с проблемами Д. Х. Лоренса снимают 50-летних стариков, старики из «Чайника рыбы», да меланхолический призрак нью-йоркской женской тюрьмы нависает в вышине и свернут в безмолвии, как сама ночь – на закате их окна похожи на апельсины – поэт Э. Э. Каммингз покупает упаковку драже от кашля в тени этого чудовища. Если дождь, можно постоять под козырьком «Говарда Джонсона» и поглядеть на улицу с другой стороны.
Битницкий ангел Питер Орловски в супермаркете в пяти домах отсюда покупает сухое печенье «Юнида» (поздний вечер пятницы), мороженое, икру, бекон, крендельки, содовую шипучку, «Телегид», вазелин, три зубные щетки, шоколадное молоко (грезя о жареном молочном поросенке), покупает цельный айдахский картофель, хлеб с изюмом, червивую капусту по ошибке, и свежие на ощупь помидоры, и собирает пурпурные марки. Затем идет домой банкротом и вываливает все это на стол, вынимает здоровенный том стихов Маяковского, включает телеприемник 1949 года на фильм ужасов и засыпает.
И вот такова битая ночная жизнь Нью-Йорка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?