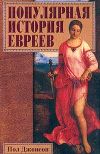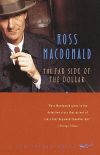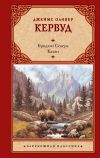Текст книги "История доллара"

Автор книги: Джейсон Гудвин
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Только человек мог улучшить инертный, неподвижный универсум. Очевиднее всего это проступало в Америке, где «болота нужно было осушить, пашне – вскарабкаться на склоны холмов, дороги – выровнять, создать железные дороги, водоснабжение, гавани, болота, дренажные системы, канализацию, поселки и города, а всю страну обратить в сад»[40]40
James Harvey. Paper Money: The Money of Civilisation. Liverpool, 1877.
[Закрыть]. Этот сад не являлся первозданным Эдемом, с которым первые поселенцы отождествляли Новый Свет: он должен был создаваться руками человека, приливом той упорной энергии, которая почти не оставляла места для двустороннего потока между королем и подданным, природой и фермером, силой и переговорами. Агрессивная самоуверенность философии Просвещения, возможно, сама фраза «дренажная система» говорили о пришествии национализма, республиканизма и индустриализации, основанных на беспрецедентной эксплуатации ресурсов.
Сотворение полностью десятичного доллара усложнял чисто джефферсоновский парадокс. Джефферсон был тем, кто провозгласил право каждого поколения утверждать собственный идеал общества, не скованный данью истории. Он рассчитал продолжительность каждого поколения на основе таблицы смертности и рекомендовал их смену каждые двадцать лет, как если бы поколения высыпались из коробочки одно к одному, словно леденцы от кашля. Он покончил с майоратом в Виргинии и утверждал, что привычная система мер и весов принадлежит истории. Взамен утвердил собственные законы, которые рассматривал как нечто суперреволюционное. Намеченные Джефферсоном в будущем революции не опрокинут ни одно из лелеемых им убеждений, которые он полагал вневременным выражением прав человека и естественных законов, очищенных от мрака неясного и благоволения монархов. Вероятно, политика подчиняется им в той же мере, как материальная Вселенная – законам Ньютона. Революции Джефферсона не страшили: они просто будут возвращать страну на путь естественного права, намеченного Декларацией независимости и Биллем о правах.
Последним словом Джефферсона по интересующему нас предмету стал «План установления единообразия монеты, мер и весов в Соединенных Штатах», озвученный им 4 июля 1790 года. Возможно. Джефферсон чувствовал, что его план родился слишком поздно. Он начат речь с двух параграфов, похожих на извинения провинившегося школьника: де, ранее он упустил данный порядок из вида по причине разъездов, был болен или занят, а новые факты стали известны недавно. Однако его внутренний политик верил, что «эти обстоятельства извиняют отсрочку».
Джефферсон планировал для своих соотечественников «глубокое реформирование всей используемой ими системы мер и весов, дав каждой линейке значений десятичный знаменатель, уже утвержденный для их денежной системы, и тем самым сведя исчисление всех важнейших величин повседневности к доступной арифметике, где всякий сможет умножать и делить простые числа». Система Джефферсона устанавливала в 1 футе 10 дюймов, а в 1 фунте – 10 унций. Кубический дюйм дождевой воды получил бы вес в 1 унцию – ровно столько, сколько весил 1 серебряный доллар в 376 тройских гранов. Деньги и меры веса оказались бы увязаны друг с другом.
Депутаты Конгресса сонно кивали, пока Джефферсон самозабвенно жужжал над своим полем из цифр, пеков, гранов и мер эвердюпойса[41]41
Эвердюпойс – система весов, в основе которой лежит фунт, состоящий из шестнадцати унций (прим. пер.).
[Закрыть]. Очень немногие конгрессмены имели даже малейшее представление о чем речь, но и это не изменило сути. Когда Томас Джефферсон был маленьким, граница проходила по Аппалачам – они считались пределом расселения для белых людей. В 1750 году агент по продаже земли из Виргинии обнаружил глубокую долину, разрезавшую Аппалачские горы на высоте 1665 футов, откуда индейские тропы разбегались туда, где ныне расположены Теннесси и Кентукки. Он назвал ее Камберлендской впадиной в честь «мясника» Камберленда, печально известного британского генерала, а тринадцать лет спустя британское правительство, исходя из интересов империи, запретило селиться дальше верховьев рек, впадающих в Атлантический океан. С таким же успехом они могли перегородить реку Огайо. В марте 1775 года, пока патриотические собрания штатов накапливали претензии, Даниель Бун и артель из тридцати лесорубов начали прорубать из впадины дорогу[42]42
Так называемая Дорога диких мест, проложенная Буном – первопроходцем и охотником, одним из первых народных героев США (прим. пер.).
[Закрыть], протянувшуюся на триста миль до самого Луисвилла на реке Огайо.
Бун потратил на изучение региона не один год. Два столетия белые поселенцы прорубали дорогу к океану, наблюдая, как цена на землю росла по мере истощения ее плодородия. Бун увидел поля мятлика в Кентукки, где паслись бизоны, в изобилии водились дикие индейки и росли великолепные леса. Позднее он вернулся, ведя за собой партию поселенцев, та угодила в устроенную индейцами засаду, в которой погиб его собственный сын. Позже благодаря виски и торговле с чероки удалось заключить шаткий мир, хотя вождь племени, взяв Буна за руку, предупредил, что Кентукки покажется ему мрачным и кровавым местом.
Юридические запреты опрокинула революция, и первые переселенцы прибыли на северный берег Огайо на лодке под названием «Мэйфлауэр». Другая партия вновь прибывших «чуть не поддалась желанию в подражание Колумбу целовать землю Кентукки, достигнув ее». Америку будто открывали заново. В течение следующих пятнадцати лет более ста тысяч человек последовали примеру Красотки Бетси из Пайка [43]43
Название одноименной американской баллады (прим. пер.).
[Закрыть] на пути через Высокую гору. Через двадцать лет Тропу Буна выровняли для передвижения повозок и превратили в большую Дорогу диких мест.
К тому моменту, когда Джефферсон представил на рассмотрение Конгресса свой набор инструментов Новой Америки, новые американцы мчались вперед так, что лишь пятки сверкали. Через Камберлендскую впадину сквозь горную цепь, которая больше не являлась краем цивилизации, устремился поток фермеров. Это стало стержнем, корешком, соединявшим две главы колонизации Америки. Менять меры веса и длины было слишком поздно: первые жители запада страны уже пустились в путь со своими неправильными винчестерскими бушелями, гильдейскими квартами и разрубленными монетами. Они отправились вместе с цепями длиной в один фурлонг и квадратом из шести миль, наделами в 640 акров, половиной в 320 акров и с четвертью. Они уехали со своими устаревшими инструментами, чтобы мерить ими все подряд: виски и пшеницу, целину и стоимость пушнины.
Джефферсон не последовал за ними. Два года спустя и через семь лет после того, как Америка первой в мире приняла десятичную монетную систему, он в качестве американского посланника в Париже имел удовольствие наблюдать, как французский Конвент последовал уже известному примеру, введя в оборот франки, сантимы и су вместо ливров.[44]44
Переход к десятичной системе денежного счета (1 франк = = 10 десимов =100 сантимов) во Франции состоялся в апреле 1795 года.
[Закрыть] Джефферсон любил французов и не был обескуражен, даже когда революция вышла из-под контроля конституционалистов и отправилась в галоп якобинского террора. «Мои личные привязанности были жестоко ранены некоторыми из ее [революции] жертв, – писал он другу в январе 1793 года, – но я предпочел бы увидеть опустошенной половину земли, нежели ее поражение».
Конвент ввел килограммы, метры и миллиметры. Увидев вызов в двенадцатеричном порядке часов, утвердил переход на двадцатичасовые дни, десятидневные недели и десятимесячные годы. 1789-й превратился в 1-й год Революции. Французы ввели минуту, состоявшую из 100 секунд, хотя никто так и не смог создать подходящие часы. Они сделали измерение космоса вопросом компромиссного соглашения и стали свидетелями того, как эта смехотворная система развалилась на части.
Наполеон официально упразднил большую часть мер измерения, внедренных философами. Неслучайно метр вскоре оказался неточным понятием: тому, что полагалось быть абсолютом, оторванным от поверхности земли теодолитом и мерной цепью, пришлось трижды переопределять заново в течение девятнадцатого столетия.
в 1786 году Джефферсон заявил палате представителей. что «в Виргинии, где наши города так немногочисленны. невелики, а их потребность в товарах, как известно, невелика, мы так и не смогли ввести в оборот медную монету».
Пусть звучит глупо – как мог кто-то отказаться от денег? – это наблюдение не было банальным. Джефферсон называл Южную Виргинию океаном: города Юга действительно во многом походили на гавани, полные праздных мужчин с присущей морякам слабостью к крепким спиртным напиткам.
Там, где так называемая «приливная вода» плескалась у преуспевающих плантаций, бочонки табака и кипы хлопка загружались на уходящие за океан корабли. Капитаны и плантаторы заключали свои сделки прямо на веранде, размышляя за стаканом виски и обменивая ценную продукцию Юга на британские наряды. Однако фортепиано и вышивание свидетельствовали об ужасной скуке белой женщины американского Юга, которой было нечем заняться. Все могли сделать рабы: от тяжелой физической до домашней работы. Белые женщины играли роль украшений. Города с их беспрестанной мелкой торговлей и обменами были немногочисленны и разбросаны далеко друг от друга: оживленные улицы являлись такой же редкостью, как хлопотливые жены. Дороги были ужасны, а поселения разрастались редко. В условиях господства плантаций побережья, которые поставляли Америке свою великолепную аристократию – людей, подобных Мэдисону, Монро, Вашингтону и Джефферсону, – существование неурожайных ферм на плато Пидмонт вместе с рабовладением создавало в обществе внутренний конфликт.
Значительная часть земли по-прежнему простаивала. Плантаторы двигали экономику Юга, большинство из них могли полностью себя обеспечить: что бы они сами ни думали, их поместья больше напоминали средневековые монастыри, чем владения аристократов в Европе. «Среди рабов моего отца были плотники, бондари, пильщики, кузнецы, кожевники, дубильщики, прядильщики, ткачи, вязальщики и даже винокур», – вспоминал один из южан. Все нужное для них сырье производилось в поместье: доски, воловья кожа, мясо и шерсть, лён и хлопок, фрукты. Здесь не было потребности в деньгах, за исключением случаев, «когда приезжал нанятый на три-четыре месяца в году профессиональный сапожник и делал обувь для всех белых членов семьи».
Деньги на повседневную жизнь не слишком ценились на Юге. Табак отправляли в Глазго, хлопок – в Лондон и графство Ланкашир. По счетам расплачивались товарными накладными, переводными векселями и расписками далеких банкиров. Даже архитектура американского Юга была океанической. Когда мимо, подобно прекрасным круизным лайнерам, проплывали огромные светлые помещичьи дома, им приходилось рассекать пейзаж, загроможденный обломками «кораблекрушения»: хижинами для рабов, бесчисленными ветхими загонами для животных, амбарами и коровниками из жердей. Южные урожаи со временем истощали землю. Плантаторы обычно переносили свое хозяйство и оставляли «за кормой» перепаханную безжизненную землю. Было проще сняться с места, чем удобрять пашню.
Деньги, особенно мелкие, невысоко ценились в мире, где и богатые, и бедные белые американцы привыкли смотреть на ручной труд свысока. Неудивительно, что о центах никто не заботился. Как говорили, «не стоит и пикеюна» (когда французы владели Луизианой, они использовали пикейоны наряду со своими ливрами и су). Пикейон – маленькая серебряная монетка – такое название пристало на Юге к пятицентовику. Праздность была местным пороком. Путешественники вечно проклинали дороговизну поездок по Югу. которая, безусловно, сглаживалась непоколебимыми традициями южного гостеприимства. Но даже это было лишь памятником тоскливости жизни.
Некоторые, и среди них лавочники, наживались на беззаботности Юга. Большинство пикеюнов в обращении были не пятицентовыми монетами, отчеканенными на монетном дворе Соединенных Штатов, а небольшими серебряными медиос или монетами в полреала – так напоминало о себе былое господство испанского серебра. По стоимости они равнялись 6,25 цента. Если вы расплачивались половинкой бита, скажем, за сигару стоимостью в 5 центов, разница шла в карман владельца лавки. С другой стороны, если вы предлагали бит – 25 центов – за табак стоимостью в полбита, то довольствовались пятицентовиком в качестве сдачи (полдайма). Когда владелец лавки давал сдачу в 10 полдаймов вместо 10 полреалов, его выгода составляла 12,5 цента. Конгресс пытался положить конец этой практике только в 1875 году.
Вероятно, бедным белым американцам Пидмонта было бы лучше не следовать примеру аристократии побережья с ее притворным безразличием к деньгам, праздными женщинами и обостренным пониманием чести. Бережливость не являлась частью нарождавшегося внутреннего кода южан, который белые бедняки примеряли на себя, стремясь подражать богатым соседям. Одержимость кровью и честью не оставляла места вульгарным деньгам. Приезжавшие осознавали, что такое мироощущение не помогало «улучшить свое положение», усугубляя ношу среднего класса. Жан-Пьер Бриссо в 1791 году отметил последствия нехватки монеты: «Подсчитано, что в городах мелкие расходы семей удваиваются вследствие этой проблемы. Это обстоятельство отражает поразительный беспорядок управления и растущую бедность».
За столетие до революции английский экономист жаловался на нехватку простой медной монеты на Ямайке, которая вымывалась серебром из испанских рудников. По его мнению, следовало организовать приток пенсов, чтобы «местные жители стали более бережливыми, чем они есть сейчас». Ямайским беднякам было трудно экономить, «поскольку они были приучены иметь дело только с серебряной монетой, самое мелкое достоинство которой равнялось пяти серебряным пенсам, и ценить ее при этом не больше, чем британский бродяга фартинг».
И все же, за всеми немногословными и щедрыми жестами, деньги имели огромное значение для высших классов виргинского общества. Их дома, лошади, гончие, невольники часто возникали из лабиринта долгов. Они игнорировали никель[45]45
Разговорное название монеты достоинством в пять центов (прим. пер.).
[Закрыть] и Займы, потому что «отставали» на один урожай от своих не слишком богатых кредиторов в Англии. Джефферсон исключением не являлся, мечтая, что однажды «он никому не будет должен и шиллинга».
Самая большая трудность Джефферсона, связанная с усадьбой в Монтичелло, заключалась в том, что он не мог себе ее позволить – ни вина, ни книг, ни, тем более, строительства и переделок в доме. Это смелое архитектурное высказывание походило на бесконечное перескакивание с мысли на мысль из любимой книги Томаса – романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»[46]46
Самый известный роман английского писателя XVIII века Лоренса Стерна (прим пер.).
[Закрыть],– представлявшей собой абсурдную историю с неожиданным концом, так как она не была окончена. Джефферсон продолжал перестраивать и изменять Монтичелло всю жизнь. Через тридцать лет после начала строительства в половине комнат по-прежнему недоставало полов и отделки; насколько усадьба представляла собой замечательную лабораторию для ученого, настолько она была откровенно странной в качестве семейного дома. Окна спален доходили до пола, и гости испытывали трудности, желая переодеться без посторонних глаз или выглянуть наружу. Что до ротонды, ее симметрия была слишком изысканной, чтобы допустить скромную каминную трубу, потому зимой в вестибюле под ротондой царил собачий холод. Даже чтобы добраться до спален, приходилось преодолевать «небольшую очень крутую лестницу».
В качестве символа республиканской свободы и выражения веры ее архитектора в сельскую республику, основанную на античных ценностях (с прекрасно вписанными колоннами дорического, коринфского и тосканского ордера), усадьба, к сожалению, покоилась на классическом институте, не имевшем ничего общего с архитектурой. В Монтичелло было налицо такое наследие Античности, как рабство, пусть его умело скрывали от жильцов и гостей дома и прятали под верандами. Здесь только одна семья наслаждалась республиканской свободой, на долю десятков других людей пришлось только республиканское рабство. Даже когда Джефферсон возносил хвалу трудящимся на земле, он имел в виду себя и своих друзей, а не сотни негров-рабов, чей труд позволял хозяину выражать изящные мысли.
Джефферсон не хуже любого другого знал, что долг – антитеза свободы. Нация-должник в реальности не являлась свободной. Не был свободен и отдельно взятый человек. Как сказал Франклин, «заемщик – раб того, кто ссудил». Позднее, став президентом, Томас Джефферсон был одержим моральным долгом урезать государственные расходы до минимума, сделав все, что в его власти, для выплаты госдолга. Но Монтичелло не давало своему хозяину выпутаться из долгов. Он строжайшим образом вел счета, подсчитывал и выверял абсолютно все, но не мог привести в порядок собственные финансы. В завещании Джефферсон дал вольную некоторым из своих любимых невольников, но душеприказчики продали их, чтобы расплатиться с долгами хозяина.
6. Монархист
О честолюбии – Конституция – Восстание Шейса – Остроумный янки – Национальный долг – Национальный банк – Дуэли
Один из счастливых наследников плантационного общества, Джефферсон родился и жил богачом, но боялся денег. Александр Гамильтон стал одной из их жертв, боясь бедности и слабости. Подвижность была у него в крови.
Он вел свое происхождение от искателей фортуны и беглецов, «островных блох» в Карибском море: люди спасались из тюрьмы одного острова ради обретения рая на другом, но лишь затем, чтобы убедиться, что тут такая же темница, как прежняя. Его мать, Рейчел, «женщина большой красоты, выдающихся способностей и достоинств», принадлежала к уважаемой семье плантаторов-гугенотов с британского Вест-Индского острова Невис, пока не связала себя несчастливым браком с Йоханом Лавиеном, плантатором-датчанином с острова Санта-Крус. Рейчел хотелось перебраться на другой остров, ее семья подозревала, что жених богат, и она за него вышла. Лавиен не был богат. Они не любили друг друга. У них родился сын. Лавиен держал жену взаперти, чтобы она изменила свой «богопротивный образ жизни». В итоге женщина сбежала с Санта-Круса и возвратилась на Невис. Там она влюбилась в привлекательного, плывущего по течению Джеймса Гамильтона – разорившегося плантатора с голубой кровью и без средств. Рейчел прожила с ним пятнадцать лет. Ее развод с Лавиеном оформили, когда ее второму сыну, Александру Гамильтону, было уже два года. Шесть лет спустя Джеймс Гамильтон отплыл на Сент-Китс: уехал по делам и не вернулся. Его письма сначала приходили все реже, затем вовсе перестали. Если Александру было суждено стать «отцом» доллара Соединенных Штатов, можно сказать, что у доллара на редкость непутевые бабушка с дедушкой.
Рейчел оказалась способной женщиной, открыла лавку и отправила Александра и его старшего брата работать на местных торговцев. В свободное время Александр брал уроки у одной еврейки и ласкал слух матери Декалогом на иврите, «сидя рядом с ней за столом». Он научился вести счета и неплохо владел французским. Вероятно, природные способности обеспечили бы ему будущее скромного вест-индского купца. Но, когда Александру исполнилось одиннадцать, мать умерла.
Питер Лавиен, первенец, на вполне законных основаниях получил все деньги и собственность, а поскольку Джеймс Гамильтон не вернулся, опекуном мальчиков стал племянник Рейчел. Его жена недавно скончалась, и не успели братья переселиться, как он покончил с собой. Александра взял под опеку один из друзей семьи. В возрасте двенадцати лет он признавался, что «охотно рискнул бы жизнью, пусть и не в моем характере сгущать краски моего положения».
Горько сожалея об «унизительной участи клерка или чего-то подобного, на которую судьба обрекла меня», Гамильтон корпел над книгами счетов в торговом доме, учился вести подсчеты и составлять заказы, как вдруг фортуна послала ему извержение вулкана. Александр написал об этом блестящее сочинение, и оно привлекло внимание недавно прибывшего пресвитерианского пастора, честолюбивым желанием которого было «стать покровителем, явившим миру из безвестности какого-нибудь гения». Мало кто так быстро получал желаемое. Преподобный Нокс убедил группу купцов отправить юношу на материк, чтобы дать ему образование.
Гамильтон никогда не огладывался назад. Ему было всего шестнадцать, когда он объявил в Принстоне о своем желании поторопить события и закончить университет через год. Деканы были то ли возмущены его наглостью, то ли напуганы брошенным вызовом, но молодой человек отправился в нью-йоркский Кингс-Колледж и с жадностью набросился на юриспруденцию. Когда раздоры с Англией обрели угрожающие очертания, он последовательно стал памфлетистом, добровольцем и капитаном артиллерии. Война началась, и уже в двадцать один год Александр Гамильтон был подполковником, служа адъютантом генерала Вашингтона. Из-за вспышки гнева последнего Гамильтон вскоре вернулся в действующую армию, и очень вовремя: Корнуоллис вторгся в Виргинию, губернатор Томас Джефферсон бежал, началась осада Йорктауна французскими и американскими войсками. Гамильтон под шквальным огнем противника возглавил ночной штурм одного из редутов. Вашингтону не хватало адъютанта, и он беспокоился, что «тот намеренно играет со смертью». Но вскоре Корнуоллис сдался, тем самым закончив войну. Гамильтон женился на Бетси Шайлер – дочери богатого помещика в долине реки Гудзон – и в 1783 году обосновался в Нью-Йорке, где пользовался славой способного и удачливого адвоката.
Соединенные Штаты еще были связаны прежними Статьями Конфедерации, но непрочные контакты, позволившие им сражаться с британцами, в дни мира порождали стычки и раздоры. США не вышли из войны нацией: за каждым штатом тянулась длинная история, тогда как страна в целом путешествовала налегке. События, которые американцам предстояло запомнить, были слишком свежи; битвам еще предстояло стать легендой. Часть их скудного багажа, казалось, вообще им не принадлежала: британские песни и французская победа, испанские деньги и английское право; рабочие руки, нечестным путем добытые в Африке; кукуруза и индейка, украденные у индейцев, а также изрядное количество рома, прикарманенное в Вест-Индии.
Американцы были весьма неуживчивы между собой и ревнивы к мотивам соседей, подозрительны в отношении собственных правителей и строги в том, что касалось их свобод. Мэдисон сравнил Нью-Джерси, плативший портовые сборы то Филадельфии, то Нью-Йорку, с бочонком о двух затычках. Обитатели Мэриленда подозревали виргинцев в желании раздвинуть свои границы до Миссисипи. Люди предпочитали именовать себя ньюйоркцами или каролинцами, реже – колумбийцами и совсем редко – американцами.
Все что у них имелось общего – это отправная точка: 1776 год и символ веры, выраженный на манер девиза кладоискателей «Даешь Пайкс-Пик!» в джефферсоновских словах «Жизнь, свобода и стремление к счастью». Чтобы остановить сползание к анархии, требовался более прочный союз. Гамильтону едва исполнилось двадцать восемь лет, когда он в 1786 году созвал Конгресс в Аннаполисе. Недоставало полномочий, но молодой адвокат указал дальнейший путь и вдохновил штаты в следующем году отправить делегатов для выработки проекта полноценной федеральной Конституции.
Вырабатывая законы о денежном обращении, переговорщики были очень осторожны. Прежде всего они лишили отдельные штаты права печатать бумажные деньги. Национальное единство требовало единой для всех валюты, чтобы положить конец манипуляциям с курсом, к которым в старые недобрые времена, в том числе уже после революции, охотно прибегали. В качестве «законного платежного средства при выплате долговых обязательств» штаты могли использовать только золото и серебро. Полномочия валютного регулирования, фиксации валютных единиц, стоимости драгоценных металлов относительно друг друга отдали в ведение Конгресса. Федеральное правительство лишили возможности «эмитировать кредитные билеты»: за ним осталось лишь право «чеканить монету, регулировать ее стоимость, а также стоимость иностранной валюты, устанавливать стандарты мер и весов». Один из депутатов от Делавэра полагал, что включение в данный перечень права печатать бумажные деньги стало бы столь же тревожным сигналом, «как и начертание зверя в Откровении Иоанна Богослова».
Томас Джефферсон отсутствовал, находясь в Париже в качестве посланника Соединенных Штатов, и программную речь прочел Гамильтон. Он предложил учредить пост президента с пожизненным сроком полномочий, избираемых пожизненно сенаторов и упразднить штаты – то есть хотел установить монархию в республиканских одеждах. Его речь длилась пять часов, «ее хвалил всякий но никто не поддержал». Позже ораторы говорили, насколько, по их ощущениям, расширились интеллектуальные рамки прений. Гамильтон удалился в Нью-Йорк, а остальные делегаты проработали свой вариант Конституции, и, когда документ одобрили, Гамильтон развернул в ее пользу блестящую агитацию. Он написал большинство из так называемых «Записок федералиста», которые побуждали принять Конституцию со всех возможных точек зрения. Что касается его самого, он «был не против того, чтобы попробовать с таким вариантом республики».
«Записки» сыпали аргументами, и Северная Каролина даже беспокоилась, что случится, если президентом изберут папу римского. В Массачусетсе вспыхнуло восстание. В 1786 году Даниел Шейс – отставной офицер и ветеран сражений при Лексингтоне, Банкер-Хилл и Саратоге – возглавил вооруженное выступление против государства. К нему присоединились сотни фермеров; одни были вооружены вилами, другие поснимали со стен охотничьи ружья. Поводом к войне, со всей неизбежностью, стали деньги.
Фермеры, такие же, как и сам Шейс, погрязли в долгах в дни свободно обращавшихся и доступных бумажных денег. Их проблемы начались с того момента, когда Массачусетс постановил возвращать долги в звонкой монете. Возникла нехватка денег, внезапная дефляция, и кредиторы поспешили востребовать долги к уплате. Но у фермеров не было звонкой монеты. Некоторые из них были вынуждены распродать свои фермы по бросовым ценам, лишь бы обзавестись наличностью, чтобы расплатиться по самым мелким долгам. Массовое гражданское неповиновение началось после постановлений судов, которые предусматривали принудительную уплату долгов, а летом 1786 года во главе озлобленной толпы встал Шейс и повел ее на захват арсенала штата.
В конечно счете восстание подавили: ополчение рассеяло вооруженную вилами армию фермеров у Спрингфилда. Шейс и остальные главари мятежа были схвачены, отчитаны и отправлены по домам, но они вызвали к жизни призрак анархии и кровопролития, грозивший охватить нацию. Поэтому обеспокоенные граждане сплотились вокруг Конституции, порядка и стабильности, когда пришло время голосовать.
Конституцию приняли в 1789 году. Вашингтона избрали президентом, и он пригласил Джефферсона, которому тогда исполнилось сорок шесть лет, на пост государственного секретаря. Гамильтон в возрасте тридцати четырех лет был назначен генеральным казначеем.
Первый федеральный Конгресс собрался в 1789 году в обстановке разочарования. Немногие среди новых делегатов потрудились прибыть на официальное открытие заседаний в Нью-Йорке, и потребовалось еще три недели, чтобы набрать кворум. Никто не знал, как действовать правительству и даже что делать дальше. Пока Адамс трясся над протоколом, предлагая именовать парламентского пристава «церемониймейстером с черной булавой», как если бы здесь был британский парламент, Вашингтон председательствовал на обедах, где никому не позволялось говорить, и «барабанил по столу ножом и вилкой, как барабанными палочками». Делегаты не знали, как к нему обращаться, и тот же Адамс предложил – под улюлюканье и смешки радикалов – титул ваше высокопревосходительство президент. Вашингтон имел столь же смутные понятия о том, как обращаться к депутатам, и неясно представлял себе их полномочия.
Во время первого появления в Сенате, когда Вашингтон излагал детали договора с индейцами, по поводу которого лично вел переговоры, сенаторы привели президента в состояние «величайшего раздражения», предложив передать дело в один из комитетов.
Но самой большой загадкой была огромная сумма денег, которую страна взяла в долг у иностранных держав и собственных граждан для борьбы с англичанами, которая, как все ожидали, будет длиться годы, если не десятилетия. США на тот момент являлись исключительно аграрной страной. Три с половиной миллиона ее граждан жили в деревнях и на фермах, и всего двести тысяч – в городах. США не только были невелики, но и слабы. Британская Канада сурово взирала на них со своей 49-й параллели, ощетинившись красномундирниками и роялистами. Испанская империя – пусть уже агонизирующая внутри, но еще способная на вспышки энергии и амбиций, – обладала Флоридой и всем юго-западным побережьем вплоть до Калифорнии, откуда католические миссионеры устремлялись вглубь неизведанных пространств. Французская Луизиана была огромным аморфным пространством в центральной части Северной Америки, к ней относилась большая часть бассейна Миссисипи от Нового Орлеана до столь же неисследованных территорий на севере. Тринадцать Соединенных Штатов фланкировали небольшой участок побережья, составляя самое небольшое объединение на карте.
Американцы оставались фермерами на протяжении нескольких поколений, и большинство их сделок совершалось на основе бартера. Немногие регулярно имели дело с деньгами, а приблизительно двести тысяч невольников не прикасались к ним вовсе.
Однако существовали долги. Конгресс отвечал за большую часть американского долга, остальное являлось обязательствами отдельных штатов. У Франции, Испании и Голландии были заняты непомерные суммы, но еще больше заняли у простых американцев в виде ордеров, счетов, долговых расписок и даже устных заверений, которые революционеры раздавали в обмен на товары и услуги (включая военную службу). Никто не знал наверняка, сколько правительство должно и кому: это походило на северо-запад – неисследованный край, которые скорее пугал, чем притягивал.
Гамильтон назвал суммы, когда 14 января 1790 года прочитал свой «Доклад об общественном кредите». Долг перед иностранцами составлял 12 млн долларов, долги штатов оценивались в 25 миллионов, а федеральный долг исчислялся в 42 414 085 долларов 56 центов. Здесь крылся шанс для Гамильтона: «Общеизвестно, что в странах, где государственный долг надлежащим образом обслуживается и составляет объект всеобщего доверия, он отвечает большинству функций денег», – объяснял Конгрессу Гамильтон. Долг должен был создать деньги. Государство будет регулярно выплачивать процент с национального долга, доллар в доллар, в звонкой монете, источником которой должны стать ввозные пошлины и доход от продажи государственных земель. Все оставшееся должно идти на выплату основной суммы. Инвесторы, зная о регулярно выплачиваемых в золоте или серебре процентах, безо всякой опаски будут покупать друг у друга долговые облигации, а их стоимость, на тот момент колебавшаяся от шиллинга до фунта, быстро вырастет. Как только долг станет таким же привлекательным товаром, как земля или табак, он составит основу находящейся в обращении валюты.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?