Текст книги "Цвет жизни"
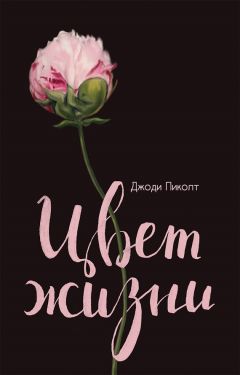
Автор книги: Джоди Пиколт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Оставьте его, – всхлипываю я. – Он тут ни при чем!
Но их это не интересует. Они видят только шестифутового черного парня.
– Делай, что они говорят, Эдисон! – кричу я. – И позвони тете.
Мои суставы трещат, когда полицейский вдруг рывком за запястья ставит меня в вертикальное положение, в позу, которую мое тело отказывается принимать. Остальные полицейские собираются позади, оставляя на полу кучи из содержимого моих шкафов, книжных полок и ящиков.
Ото сна не сталось и следа. Меня в ночной рубашке и тапочках стаскивают по крыльцу, я спотыкаюсь и сбиваю колено о тротуар, потом меня головой вперед вталкивают на заднее сиденье полицейской машины. Я про себя молю Бога, чтобы кто-нибудь догадался освободить руки моему сыну. Я молю Бога, чтобы мои соседи, которых посреди ночи разбудил шум в нашем сонном районе и которые с выбеленными луной лицами стоят в дверях своих домов, когда-нибудь спросили себя, почему они все хранили гробовое молчание, почему никто даже не поинтересовался, не нужно ли мне помочь.
До этого я бывала в полицейском участке. Один раз приходила, когда на стоянке перед продуктовым магазином какой-то придурок зацепил мою машину и уехал, не дожидаясь меня. Второй раз я держала за руку пациентку, которая подверглась сексуальному насилию и никак не могла решиться рассказать о случившемся полицейским. Но теперь меня заводят в участок через другой вход, где полыхают яркие лампы дневного света. Меня передают офицеру, совсем молодому, почти мальчишке; тот усаживает меня, спрашивает мое имя, адрес, дату рождения и номер социального страхования. Я отвечаю так тихо, что несколько раз ему приходится просить меня говорить громче. Потом меня подводят к некоему подобию копировальной машины, только это не копировальная машина. Мои пальцы по очереди прокатывают по стеклянной поверхности, и на экране появляются отпечатки.
– Классная штука, да? – говорит мальчик.
Интересно, мои отпечатки пальцев уже в системе? Когда Эдисон был в детском саду, я однажды сходила с ним на День общественной безопасности, где у него взяли отпечатки пальцев. Он был напуган, и я поначалу тоже. Тогда я считала, что бояться мне нужно только одного: что его когда-нибудь заберут у меня и что страшнее этого ничего быть не может.
Мне никогда не приходило в голову, что меня могут забрать у него.
Потом меня ставят к шлакоблочной стене и фотографируют анфас и в профиль.
Молодой полицейский ведет меня в единственную камеру, имеющуюся в нашем участке, маленькую, темную и холодную. В углу я вижу унитаз и раковину.
– Простите, – говорю я, откашлявшись, когда за мной захлопывается дверь. – Сколько мне здесь сидеть?
Он смотрит на меня, не без сочувствия.
– Сколько понадобится, – загадочно говорит он и уходит.
Сажусь на скамейку. Она сделана из металла, и холод тут же проходит через мою ночную рубашку. Мне хочется в туалет, но я стесняюсь делать это здесь, в открытом месте, ведь за мной могут прийти в любую секунду.
Позвонил ли Эдисон Адисе? Пытается ли она уже вытащить меня отсюда? Рассказала ли ему Адиса об умершем ребенке? Считает ли меня виноватой мой собственный сын?
Внезапно мне вспоминается, как двенадцать часов назад я в особняке Хэллоуэллов под классическую музыку макала хрустальные нити в раствор аммиака. Несочетаемость тогдашнего и нынешнего моего положения заставляет меня подавиться смехом. Или всхлипом. Я уже не могу отличить.
Возможно, если Адисе не удастся вытащить меня отсюда, помогут Хэллоуэллы? Они знают нужных людей со связями. Но сначала придется рассказать о том, что случилось, маме, и, хоть она будет защищать меня до смерти, я знаю, что какая-то часть ее будет думать: «Как до этого дошло? Как могла эта девочка, ради счастливой жизни которой я гнула спину, оказаться за решеткой?»
И я не буду знать, что ответить. На одной стороне качелей мое образование, мой сертификат медсестры, двадцать лет службы в больнице, мой чистенький маленький дом, моя безупречная «Тойота РАВ4», мой сын, принятый в общество Национальная честь,[18]18
National Honor Society – американская национальная организация, объединяющая учеников средней школы, имеющих выдающиеся способности.
[Закрыть] – все эти строительные блоки, из которых состоит мое существование; но на другой стороне громоздится одно-единственное качество, которое настолько тяжело, что постоянно перевешивает: моя коричневая кожа.
Что же…
Усилия не были напрасными. Я все еще могу использовать свое образование и годы, проведенные в обществе белых людей, в свою пользу, чтобы полицейские поняли, что это недоразумение. Я, как и они, живу в этом городе. Как и они, плачу́ налоги. У них намного больше общего со мной, чем с этим злобным фанатиком, который все начал.
Не знаю, как долго я сидела так в камере, часов у меня нет, но этого времени хватило, чтобы у меня в груди загорелась искорка надежды. Поэтому, услышав, как лязгают засовы, я поднимаю голову с благодарной улыбкой.
– Я отведу вас на допрос, – говорит молодой офицер. – Я обязан, гм… ну, вы понимаете… – Он указывает на мои руки.
Я встаю.
– Вы, наверное, устали, – говорю я ему. – Не спали всю ночь.
Он пожимает плечами, но при этом краснеет.
– Кто-то же должен это сделать.
– Ваша мама наверняка гордится вами. Я бы точно гордилась. Мой сын, думаю, всего на пару лет моложе вас. – Я выставляю перед собой руки, глядя на него широко раскрытыми невинными глазами, и он опускает взгляд на мои запястья.
– Знаете, наверное, мы без этого обойдемся, – помолчав, говорит он, берет меня под локоть и, крепко держа, выводит из камеры.
Улыбку я прячу. Для меня это маленькая победа.
Меня оставляют одну в комнате с большим зеркалом, которое, я уверена, на самом деле является окном в соседнее помещение за стеной. На столе стоит магнитофон, над головой тихо гудит вентилятор, хотя здесь и так прохладно. Я складываю руки на коленях, жду. На свое отражение я не смотрю прямо, потому что знаю, что за мной наблюдают, поэтому вижу себя лишь мельком. В ночной рубашке я похожа на привидение.
Отворяется дверь, и входят два детектива, мужчина, здоровенный, как буйвол, и крошечного росточку женщина.
– Я детектив Макдугалл, – говорит мужчина. – Это детектив Леонг.
Она улыбается мне. Я пытаюсь передать ей свои мысли. «Вы тоже женщина, – думаю я, надеясь на телепатию. – Вы – американка азиатского происхождения. Вы бывали в моей шкуре, по крайней мере догадываетесь, каково это».
– Принести вам воды, миссис Джефферсон? – спрашивает детектив Леонг.
– Да, спасибо, – говорю я.
Пока она ходит за водой, детектив Макдугалл объясняет мне, что я не обязана говорить с ними, но если я соглашусь разговаривать, сказанное мною может быть использовано против меня в суде. Но с другой стороны, указывает он, если мне нечего скрывать, почему бы мне не изложить им свою версию происшедшего.
– Хорошо, – говорю я, хотя видела достаточно фильмов про полицейских, чтобы понимать, что в моем положении лучше помалкивать. Но то кино, а это жизнь. Я ведь не сделала ничего противозаконного. И если я не объясню этого, как им об этом узнать? Если же я не стану ничего объяснять, то, наоборот, буду выглядеть виноватой.
Детектив спрашивает, не возражаю ли я, если он включит магнитофон.
– Включайте, – говорю я. – И спасибо вам. Большое вам спасибо за то, что хотите выслушать меня. Боюсь, все это – одно громадное недоразумение.
Возвращается детектив Леонг. Она протягивает мне воду, и я выпиваю весь восьмиунцевый стакан. Я и не знала, какая жажда меня мучает, пока не начала пить.
– Как бы то ни было, госпожа Джефферсон, – говорит Макдугалл, – у нас есть довольно убедительные доказательства, противоречащие тому, что вы говорите. Вы не отрицаете, что находились рядом с Дэвисом Бауэром, когда он умер?
– Не отрицаю, – отвечаю я. – Я была там. Это было ужасно.
– Что вы тогда делали?
– Я входила в реанимационную группу. Ребенок очень быстро ослабел. Мы сделали все, что могли.
– Однако я только что посмотрел фотографии у судебно-медицинского эксперта, и они указывают на то, что ребенок подвергся физическому воздействию…
– Ну вот, пожалуйста! – восклицаю я. – Я не трогала этого ребенка.
– Вы только что сказали, что были частью реанимационной группы, – напоминает Макдугалл.
– Но я не трогала ребенка, пока он не начал синеть.
– Когда вы и начали бить ребенка по груди…
Я чувствую, как к лицу приливает кровь.
– Что? Нет! Я делала искусственное дыхание…
– Чересчур усердно, по свидетельству очевидцев, – добавляет детектив.
«Кого?» – думаю я, вспоминая людей, которые при этом присутствовали. Кто мог видеть, что я делаю, и не понять, что это была неотложная медицинская помощь?
– Миссис Джефферсон, – спрашивает детектив Леонг, – вы обсуждали с кем-нибудь в больнице свое отношение к этому ребенку и его семье?
– Нет. Меня сняли с этого дела, и все.
Макдугалл прищуривается.
– У вас не было проблем с Терком Бауэром?
Я заставляю себя сделать глубокий вдох.
– Мы не нашли общий язык.
– У вас такие отношения со всеми белыми людьми?
– Некоторые из моих лучших друзей белые. – Я встречаю его прямой взгляд.
Макдугалл смотрит на меня так долго, что я вижу, как сужаются его зрачки. Я знаю, он ждет, что я первая отвернусь. Но я, наоборот, выпячиваю подбородок.
Он отодвигается от стола и встает.
– Мне нужно позвонить, – говорит он и выходит из комнаты.
Это я тоже воспринимаю как победу.
Детектив Леонг сидит на краю стола. Значок висит у нее на бедре и блестит, как новая игрушка.
– Вы, наверное, очень устали, – говорит она, и в ее голосе я слышу ту же игру, в которую играла с молодым полицейским в камере.
– Медсестры привычны работать и почти не спать, – невозмутимо отвечаю я.
– А вы уже довольно давно работаете медсестрой, да?
– Двадцать лет.
Она смеется.
– Боже, я на своей работе всего девять месяцев. Мне трудно даже представить себе, что чем-то можно заниматься так долго. Наверное, для вас это и не работа даже, если вы ее так любите, да?
Я киваю все еще настороженно. Но если у меня и есть какой-то шанс сделать так, чтобы эти детективы поняли, что меня хотят подставить, то только с ней.
– Это правда. Я люблю свою работу.
– Наверное, для вас стало ударом, когда ваша руководитель сказала, что вы больше не должны заниматься этим ребенком, – говорит она. – Особенно учитывая вашу квалификацию.
– Да, это был не лучший день в моей жизни.
– Знаете, что случилось со мной в первый день на работе? Я разбила полицейскую машину. Да-да. Врезалась в ограждение дорожных работ на шоссе. Серьезно. Я лучше всех сдала экзамены на детектива, но в деле опростоволосилась в первый же день. Ребята из моей группы до сих пор называют меня Авария. Давайте говорить прямо, женщине-детективу приходится работать в два раза больше, чем мужчинам, но единственное, чем я им запомнилась, – это одна простая ошибка. Я тогда так расстроилась. Мне до сих пор обидно.
Я смотрю на нее, и правда висит у меня на кончике языка, как леденец. Я не должна была прикасаться к ребенку. Однако сделала это, несмотря на возможные неприятности. Но и этого оказалось недостаточно.
– Смотрите, Рут, – добавляет детектив, – если это был несчастный случай, сейчас самое время об этом сказать. Может быть, тогда в вас взыграла обида? Это же вполне можно понять, учитывая обстоятельства. Просто скажите мне, и я постараюсь вам помочь.
Тут я понимаю, что она до сих пор считает меня виновной.
Что она не просто так, из сочувствия, поделилась со мной своей историей. Что она пытается мною манипулировать.
Что в этих фильмах про полицейских говорят правду.
Я с силой проглатываю комок в горле, моя искренность опускается куда-то вглубь живота, и произношу голосом, который сама не узнаю, три слова:
– Мне нужен адвокат.
Стадия первая
Переход
Клавиши пианино черные и белые, но в голове они звучат миллионами цветов.
Мария Кристина Мена
Кеннеди
Когда я приезжаю в офис, Эд Гуракис, один из моих коллег, разливается соловьем про нового сотрудника. Одна из наших младших общественных защитников ушла в декрет и сообщила, что не вернется. Я знала, что Гарри, наш босс, проводил собеседования, но только когда Эд заходит в мою кабинку, я понимаю, что решение принято.
– Ты его уже видела? – спрашивает Эд.
– Кого?
– Говарда. Новенького.
Эд – такой парень, который пошел в общественную защиту просто потому, что мог. Другими словами, он имеет такой большой доверительный фонд, что ему плевать, насколько низкая у нас зарплата. И все же несмотря на то, что он вырос в обстановке, когда можно позволить себе все, что угодно, его постоянно что-то не устраивает. В «Старбакс» через дорогу подают слишком горячий кофе. ДТП на I-95N задержало его на двадцать минут. Торговый автомат в здании суда перестал продавать «Скиттлс».
– Я зашла буквально четыре секунды назад. Как я могла кого-то увидеть?
– Ну, он здесь нарисовался явно для того, чтобы разнообразить наш коллектив. Ты бы видела этого молокососа. Лужи на полу заметила? Это молоко течет, которое у него на губах еще не обсохло.
– Во-первых, эта метафора неправильная. С губ молоко ни у кого не течет. Во-вторых, ну и что, если он молодой? Я понимаю, с высоты твоих преклонных лет это трудно вспомнить… но ты когда-то тоже был молодым.
– Были кандидаты подостойнее, – говорит Эд, понизив голос.
Я роюсь в кипах бумаг на столе, ищу нужные документы. Меня ожидает целая стопка розовых телефонных сообщений, но их я старательно обхожу вниманием.
– Сочувствую, что не взяли твоего племянника, – бормочу я.
– Очень смешно, Маккуорри.
– Слушай, Эд, мне нужно заниматься делом. У меня нет времени на офисные сплетни. – Я наклоняюсь к экрану и делаю вид, что невероятно поглощена первым электронным письмом, которое оказывается рекламой от «Нордстром Рэк».
В конце концов Эд понимает, что я не собираюсь больше с ним разговаривать, и топает в комнату отдыха, где кофе, несомненно, будет дрянным, а сливок его любимого вкуса не окажется в наличии. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку стула.
Вдруг я слышу шорох, и за стенкой моей кабинки поднимается высокий и стройный чернокожий молодой человек. На нем дешевый костюм, галстук-бабочка и хипстерские очки. Судя по всему, это и есть новый сотрудник нашего офиса, и он сидел там все это время, слушая комментарии Эда.
– Хэштег «Неловкий момент», – говорит он. – Я Говард, если у вас еще остались сомнения.
Я растягиваю лицо в такую широкую улыбку, что мне представляются куклы из «Улицы Сезам», любимой программы Виолетты, у которых челюсти отвисают на шарнирчиках, когда их охватывают сильные чувства.
– Говард, – повторяю я, вскакивая, и тут же протягиваю ему руку для пожатия. – Я Кеннеди. Мне правда очень приятно познакомиться.
– Кеннеди, – говорит он. – Как Джон Ф.?
Мне постоянно задают этот вопрос.
– Или Роберт! – говорю я, хотя на самом деле Говард прав. Я бы предпочла, чтобы меня назвали в честь политика, сделавшего так много для гражданских прав, но на самом деле моя мать просто обожала его злосчастного брата и мифологию Камелота.
Я сделаю все возможное, чтобы этот бедный юноша понимал, что по крайней мере один человек в этом офисе рад его появлению здесь.
– Итак, добро пожаловать! – жизнерадостно говорю я. – Если что-нибудь понадобится, если возникнут какие-то вопросы по работе, не стесняйся, спрашивай меня.
– Отлично. Спасибо.
– И, может, как-нибудь пообедаем вместе?
Говард кивает:
– С удовольствием.
– Что ж, мне нужно идти в суд. – Поколебавшись, я все же говорю о неприятном для него: – И еще… Не слушай Эда. Не все здесь думают, как он. – Я улыбаюсь. – Например, меня восхищает, что ты выбрал своей работой помощь родному сообществу.
Говард тоже улыбается:
– Спасибо, но… я вырос в Дариене.
Дариен. Один из самых зажиточных городов штата.
Затем он садится и становится невидимым за перегородкой между кабинками.
Я даже еще не выпила вторую чашку кофе, а уже успела пробиться через скопление машин и толпу журналистов, заставлявших думать, что, пока меня не было, в суде первой инстанции произошло что-то интересное, ведь съемочные группы станут освещать процесс предъявления обвинения лишь в том случае, если захотят вогнать в крепкий сон страдающих бессонницей. Пока что мы прошли три дела: уголовное нарушение запретительного приказа с ответчиком, не говорящим по-английски; дело уже попадавшей в наше поле зрения дамы с обесцвеченными волосами и мешками под глазами, которая якобы выписала фальшивый чек на тысячу двести долларов, чтобы купить дизайнерскую сумочку; и дело человека, который был настолько глуп, что не просто украл чьи-то персональные данные и начал использовать чужие кредитные карты и банковские счета, но еще и выбрал себе в жертвы некую Кэти, думая, что его не поймают.
Но опять же, как я часто себе говорю, если бы мои клиенты были умнее, я бы осталась без работы.
В Нью-Хейвенском суде первой инстанции в день предъявления обвинения, как правило, кто-нибудь из государственных защитников приходит представлять интересы тех, кто не имеет адвоката, но нуждается в нем. Это все равно что застрять во вращающейся двери: каждый раз, когда ты входишь в здание, здесь все выглядит и устроено по-новому, а ты должен знать, куда идти и как здесь ориентироваться. Чаще всего я встречаюсь с новыми клиентами уже за столом защиты, и тогда у меня появляется лишь пара секунд, чтобы ознакомиться с фактами и попытаться добиться их освобождения под залог.
Я уже говорила, что ненавижу день предъявления обвинений? В основном в этот день я должна быть эдаким Перри Мейсоном с экстрасенсорным восприятием, но даже когда я блестяще справляюсь со своим заданием и выбиваю под личное обязательство освобождение под залог ответчика, который в противном случае сидел бы за решеткой в ожидании суда, я, как правило, не становлюсь его адвокатом и не веду его судебное дело. Самые аппетитные дела, которыми мне хотелось бы заняться, обычно либо выхватывает у меня из рук кто-то, занимающий в нашем офисе должность посерьезнее моей, либо передаются частному (читай: оплачиваемому) адвокату.
Что, несомненно, ждет и дело следующего ответчика.
– Далее: государство против Джозефа Дауса Хокинса Третьего, – провозглашает клерк.
Джозеф Даус Хокинс настолько молод, что у него еще есть прыщи. Выглядит он страшно испуганным. Оно и неудивительно после ночи в камере, если все твои знания о тюремной жизни получены во время просмотра сериала «Прослушка» под пивко.
– Мистер Хокинс, – говорит судья, – назовите, пожалуйста, свое имя для протокола.
– Э-э… Джо Хокинс, – отвечает парень. Его голос дрожит.
– Где вы проживаете?
– Сто тридцать девять, Гранд-стрит, Вествиль.
Клерк читает обвинение: незаконный оборот наркотиков.
Глядя на его дорогую прическу и явный ужас перед правоохранительной системой, я могу предположить, что он толкал что-то вроде оксиконтина, а не метамфетамин или героин. Судья фиксирует автоматическое заявление о невиновности.
– Джо, вас обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Вам понятен смысл обвинения? – Тот кивает. – Сегодня присутствует ваш адвокат?
Он смотрит через плечо на галерею, еще больше бледнеет и говорит:
– Нет.
– Вы хотите поговорить с общественным защитником?
– Да, Ваша честь, – говорит он, и настает моя очередь.
Конфиденциальность ограничена так называемым конусом молчания за столом защиты.
– Я Кеннеди Маккуорри, – говорю я. – Сколько вам лет?
– Восемнадцать. Я заканчиваю «Хопкинс».
Частная школа. Разумеется, он учится в частной школе.
– Как давно вы живете в Коннектикуте?
– С двух лет?
– Это вопрос или ответ? – спрашиваю я.
– Ответ, – говорит он и сглатывает. У него кадык размером с кулак обезьяны, что заставляет меня думать о парусниках и моряках, что, в свою очередь, наводит на мысль о том, как ругается Виолетта.
– Вы работаете?
Он колеблется.
– Вы имеете в виду, кроме продажи окси?
– Я этого не слышала, – немедленно отвечаю я.
– Я сказал, что…
– Я этого не слышала.
Он смотрит на меня и кивает.
– Понял. Нет, я не работаю.
– С кем вы живете?
– С родителями.
Бомбардируя его вопросами, я в уме ставлю галочки на пунктах списка.
– У ваших родителей есть средства, чтобы нанять адвоката? – спрашиваю я в конце.
Он смотрит на мой костюм, купленный в «Таргете», с пятном спереди от молока, которое Виолетта сегодня утром расплескала, когда ела хлопья.
– Да.
– Теперь молчите, говорить буду я, – наставляю я и обращаюсь к судье. – Ваша честь, – говорю я, – юному Джозефу всего восемнадцать лет, и это его первое правонарушение. Он заканчивает школу и живет с родителями, его мама – воспитатель детского сада, а отец – президент банка. У его родителей есть дом. Мы просим освободить Джозефа под его собственную гарантию.
Судья обращается к моему противнику в этом танце, прокурору, которая стоит за зеркальным отражением стола защиты. Ее зовут Одетт Лоутон, и в лице ее радушия не больше, чем в смертной казни. Если большинство прокуроров и общественных защитников понимают, что мы – две стороны одной медали на хреново оплачиваемых государством должностях, и оставляют вражду в зале суда, чтобы спокойно общаться за его пределами, то Одетт всегда держится особняком.
– Каково будет решение государства?
Она поднимает взгляд. У нее очень короткая стрижка, а глаза такие темные, что невозможно различить зрачки. Судя по внешнему виду, она хорошо отдохнула и только что побывала в салоне красоты, ее макияж безупречен.
Я смотрю на свои руки. Кутикулы обкусаны, и либо у меня под ногтем зеленая краска для рисования пальцами, либо я гнию изнутри.
– Это серьезное обвинение, – говорит Одетт. – У мистера Хокинса было найдено наркотическое вещество, и он намеревался его продать. Возвращение мистера Хокинса в общество может нести угрозу и будет серьезной ошибкой. Государство назначает залог в десять тысяч долларов с поручительством.
– Устанавливается залог в десять тысяч долларов, – повторяет судья, и бейлифы[19]19
Bailiff – в США помощник шерифа, полицейское лицо при судебных органах.
[Закрыть] выводят Джозефа Дауса Хокинса Третьего из зала суда.
Что ж, десять тысяч так десять тысяч. Хорошо хоть семья Джозефа может себе позволить заплатить такой залог, пусть даже это означает, что ему придется отказаться от Рождества на Барбадосе. Еще лучше то, что я больше никогда не увижу Джозефа Дауса Хокинса. Отец, возможно, хотел преподать ему урок, не отправив к нему семейного адвоката в самом начале, чтобы Джо посидел ночь в камере и подумал, но я уверена, что в скором времени этот чудо-адвокат позвонит в мой офис и запросит дело Джозефа.
– Государство против Рут Джефферсон, – слышу я.
Я смотрю на женщину, которую вводят в зал суда в цепях. Она в ночной рубашке, на голове платок. Ее глаза беспокойно обводят галерею, и только теперь я понимаю, что в зале больше людей, чем обычно бывает по вторникам во время предъявления обвинений. Можно даже сказать, зал набит битком.
– Назовите, пожалуйста, свое имя для протокола, – просит судья.
– Рут Джефферсон, – говорит она.
– Убийца! – раздается женский крик. По толпе прокатывается гул, перерастающий в рев. Тут Рут вздрагивает. Я вижу, как она поворачивает голову к плечу, и понимаю, что она вытирает слюну, – кто-то плюнул в нее через поручень галереи.
Бейлифы уже оттаскивают плюнувшего – крупного парня, которого я могу видеть только со спины. На скальпе у него вытатуирована свастика с переплетенными буквами.
Судья призывает к порядку. Рут Джефферсон стоит, высоко подняв голову, и продолжает осматриваться, искать взглядом кого-то или что-то, чего она, похоже, никак не может найти.
– Рут Джефферсон, – читает клерк, – вы обвиняетесь: первое – в тяжком убийстве, второе – в убийстве по неосторожности.
Я так пытаюсь разобраться, что здесь, черт возьми, происходит, что не сразу понимаю, что все смотрят на меня и что эта подсудимая, по-видимому, сказала судье, что нуждается в государственном защитнике.
Одетт встает:
– Совершено гнусное преступление против трехдневного младенца, Ваша честь. Ответчица выражала в словесной форме враждебность и неприязнь по отношению к родителям этого ребенка, и государство докажет, что ее действия были преднамеренными и осознанными, с обдуманным намерением, а также факт безответственного пренебрежения безопасностью новорожденного и то, что, находясь в ее руках, ребенок получил травмы, повлекшие за собой смерть.
Эта женщина убила новорожденного? Я наскоро перебираю в голове возможные версии. Она няня? Синдром детского сотрясения? СВДС?[20]20
Cиндром внезапной детской смерти.
[Закрыть]
– Это безумие! – взрывается Рут Джефферсон.
Я легонько толкаю ее локтем:
– Сейчас не время.
– Я хочу поговорить с судьей, – настаивает она.
– Нет, – говорю я. – Я буду говорить с судьей вместо вас. – Я поворачиваюсь к судье. – Ваша честь, мы можем поговорить минуту?
Я веду ее к столу защиты, всего в нескольких шагах от того места, где мы стоим.
– Я Кеннеди Маккуорри. Мы обсудим детали вашего дела позже, но сейчас мне нужно задать вам несколько вопросов. Как давно вы живете здесь?
– Меня заковали в цепи, – произносит она мрачным, полным гнева голосом. – Эти люди ворвались в мой дом посреди ночи и надели на меня наручники. Они надели наручники на моего сына…
– Я понимаю, что вы расстроены, – объясняю я, – но у меня всего десять секунд, чтобы узнать вас и помочь в этом суде.
– Вы думаете, что можете узнать меня за десять секунд? – говорит она.
Я делаю шаг назад. Если эта женщина не хочет бороться за свои права, я тут не виновата.
– Госпожа Маккуорри, – говорит судья. – Надеюсь, прежде чем я выйду на пенсию, мы все же сможем…
– Да, Ваша честь, – говорю я, поворачиваясь к нему.
– Государство видит коварный и жестокий характер этого преступления, – говорит Одетт.
Она смотрит на Рут. Мое внимание приковывает противостояние этих двух черных женщин: с одной стороны, безупречный костюм прокурора, ее туфли на шпильках и идеально сидящая блузка, а с другой – мятая ночная рубашка и платок на голове Рут. Это нечто большее, чем простая демонстрация. Это заявление, учебный пример для курса, на который я не записывалась.
– Учитывая серьезный характер обвинений, государство ходатайствует о задержании ответчика без права выхода под залог.
Я чувствую, как у Рут перехватывает дыхание.
– Ваша честь… – говорю я и замолкаю.
Мне не с чем работать. Я не знаю, чем зарабатывает на жизнь Рут Джефферсон. Я не знаю, есть ли у нее свой дом, живет ли она в Коннектикуте всю жизнь или же приехала сюда только вчера. Я не знаю, накрыла ли она подушкой лицо ребенка и держала ее, пока он не перестал дышать, или искренне негодует на сфабрикованное обвинение.
– Ваша честь, – повторяю я, – государство ничем не подтверждает своих не вызывающих доверия слов. Это очень серьезное обвинение и практически лишенное доказательств. В свете этого я бы попросила суд назначить разумный залог в размере двадцати пяти тысяч долларов с поручительством.
Это лучшее, что я могу сделать, учитывая, что она не дала мне вообще никакой информации. Моя работа состоит в том, чтобы сделать для Рут Джефферсон предъявление обвинения настолько безболезненным и справедливым, насколько это возможно. Я смотрю на часы. После нее у меня еще, наверное, с десяток клиентов.
Неожиданно меня тянут за рукав.
– Видите вон того мальчика? – шепчет Рут и смотрит на галерею. Ее взгляд замирает на юноше в самом конце зала, который встает, как будто его тянет вверх магнитом. – Это мой сын, – говорит Рут и поворачивается ко мне. – У вас есть дети?
Я думаю о Виолетте. Думаю о том, каково это, когда самое страшное в твоей жизни не капризы твоего ребенка, а видеть, как твоего ребенка заковывают в наручники.
– Ваша честь, – говорю я, – я бы хотела отозвать свои последние слова.
– Простите, что, адвокат?
– Прежде чем мы обсудим залог, я бы хотела получить возможность поговорить с клиентом.
Судья хмурится:
– У вас только что была такая возможность.
– Я бы хотела иметь возможность поговорить с моим клиентом больше десяти секунд, – уточняю я.
Он проводит ладонью по лицу.
– Хорошо, – соглашается судья. – Вы можете поговорить с вашим клиентом в перерыве, и мы вернемся к этому вопросу на втором заседании.
Бейлифы берут Рут за руки. Могу поклясться, она не понимает, что происходит.
– Я сейчас приду, – успеваю сказать я, после чего ее выводят из зала, и не успеваю перевести дух, как уже говорю от имени двадцатилетнего молодого человека, называющего себя символом # («Как Принс, только не так», – говорит он мне), который нарисовал гигантский пенис на автодорожном мосту и искренне не понимает, почему это считается хулиганством, а не искусством.
Так проходит еще десять предъявлений, и во время всех них я думаю о Рут Джефферсон. Слава богу, что контракт союза стенографисток предусматривает пятнадцатиминутный перерыв на то, чтобы сходить в туалет. Я иду в промозглое, грязное чрево здания суда к накопителю, в который отвели мою клиентку.
Сидя на металлической койке, она поднимает на меня взгляд, растирая запястья. Цепей, в которых она была в зале суда как любой обвиняемый в убийстве, уже нет, но она как будто не замечает этого.
– Где вы были? – спрашивает она резким голосом.
– Занималась своей работой, – отвечаю я.
Рут встречает мой взгляд.
– Я тоже просто делала свое дело, – говорит она. – Я медсестра.
У меня в голове начинают складываться кусочки мозаики: видимо, что-то пошло не так, когда Рут ухаживала за младенцем, случилось нечто такое, что, на взгляд обвинения, не было несчастным случаем.
– Нужно, чтобы вы мне хоть что-нибудь рассказали. Если вы не хотите ждать суда за решеткой, нам с вами придется сотрудничать.
Рут долго молчит, и это меня удивляет. Большинство людей в ее положении поспешили бы ухватиться за спасательный круг, предлагаемый государственным защитником. Однако эта женщина как будто оценивает меня, решает, оправдаю ли я ее надежды.
Должна признаться, это рождает во мне довольно неприятное чувство. Мои клиенты не склонны судить других; эти люди привыкли, что судят их… и находят недостойными.
Наконец она кивает.
– Хорошо, – говорю я и выдыхаю, хотя даже не замечала, что затаила дыхание. – Сколько вам лет?
– Сорок четыре.
– Вы замужем?
– Нет, – говорит Рут. – Мой муж погиб в Афганистане во время второй командировки. Сработало СВУ. Это было десять лет назад.
– Ваш сын… Он ваш единственный ребенок? – спрашиваю я.
– Да. Эдисон заканчивает школу, – говорит она. – Он сейчас подает документы в колледж. Эти животные ворвались в мой дом и надели наручники на круглого отличника.
– Мы вернемся к этому через секунду, – обещаю я. – У вас есть диплом медсестры?
– Я училась в Платтсбургском отделении Государственного университета Нью-Йорка, а потом ходила в Йельскую школу медсестер.
– Вы официально работаете?
– Я проработала в родильном отделении больницы Мерси-Вест-Хейвен двадцать лет. Но вчера они лишили меня работы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































