Текст книги "Пейзажи"
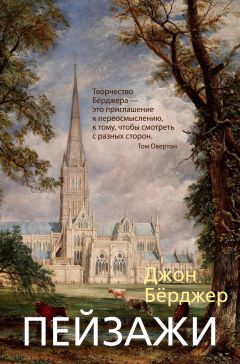
Автор книги: Джон Бёрджер
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
8. Рассказчик
Теперь, когда его не стало, я могу расслышать в тишине его голос. Он разносится по всей долине. Звучит так непринужденно и, подобно йодлю, кружится, словно лассо. Возвращается, соединив услышавшего с зовущим. Помещает зовущего в самый центр. На этот голос откликаются его коровы и собака. Однажды вечером, после того как он запер всех коров в хлеву, оказалось, что двух не хватает. Он вышел и окликнул их. После второго оклика из глубины леса отозвались две коровы, и через пару минут они уже были у стойла; как раз наступила ночь.
За день до своего ухода он привел все стадо из долины где-то около двух часов пополудни, прикрикивая на коров и на меня, чтобы я открыл ворота в хлев. Мюге вот-вот должна была отелиться – две передние ноги теленка уже почти вышли. И единственной возможностью привести ее назад было вернуть все стадо. Его руки тряслись, пока он пытался обвязать веревкой передние ноги малыша. После двух минут усилий теленок появился на свет. Он поднес его Мюге облизать. Она мычала, и звук был таким, какой коровы никогда не издают по другим поводам, даже от боли. Высокий, пронзительный, безумный звук. Сильнее, чем жалобный стон, взволнованнее, чем приветствие. Чем-то напоминающий трубный зов слона. Он принес солому, чтобы сделать теленку подстилку. Для него такие моменты – это моменты триумфа, настоящего торжества, моменты, когда хитрый, упорный, крепкий, неутомимый семидесятилетний крестьянин соединяется с окружающим его мирозданием.
После утренней работы мы обычно вместе пили кофе и говорили о деревне. Он помнил число и день каждого несчастья. Помнил месяц каждой свадьбы, о которой в запасе у него имелась какая-нибудь история. Мог проследить все родственные связи героев своих историй вплоть до троюродных братьев и сестер жены или мужа. Время от времени я ловил в его взгляде особое выражение – соучастия. Но в чем же? В том, что было между нами общего, невзирая на очевидные различия. В том, что связывало нас, но никогда не обсуждалось впрямую. Конечно же, дело было не в той незначительной помощи, которую я ему оказывал. Я долго ломал над этим голову. И внезапно понял. Это было его признание нашего интеллектуального равенства, мы оба были историками своего времени. Мы оба видели, как складываются воедино события.
В этом знании для нас обоих была и гордость, и печаль. Вот почему выражение, которое я уловил в его глазах, было одновременно радостным и сочувственным. Это был взгляд одного рассказчика на другого. Я пишу на страницах вроде этих, которые он не прочтет никогда. Он сидит в углу своей кухни, рядом с ним сытый пес, и иногда рассказывает что-то перед тем, как лечь спать. Он ложится рано, выпив последнюю за день кружку кофе. Мне редко доводится бывать у него в это время, но, если бы он не рассказывал истории именно мне, я ничего не понял бы, поскольку говорит он на своем наречии. Однако нашему сообщничеству это не мешает.
Я никогда не думал о писательстве как о профессии. Это требующее уединения свободное занятие, в котором нельзя достичь совершенства, сколько бы ты ни трудился. К счастью, оно доступно любому. Какие бы мотивы, политические или личные, ни подтолкнули меня к сочинительству, стоит мне начать, как оно превращается в попытку осмыслить собственный опыт. У каждой профессии есть свои ограничения, но также и своя область. У писательства, насколько я знаю, такой области нет. Процесс сочинительства есть не что иное, как процесс приближения к описываемому опыту, также как акт чтения, надо надеяться, есть сопоставимый акт приближения.
Однако приблизиться к опыту – не то же самое, что подойти к дому. Опыт неделим и непрерывен, по крайней мере в рамках одной жизни, хотя возможно, что и многих. Я никогда не воспринимаю свой опыт исключительно как личный, мне часто кажется, что он предшествовал моему появлению. В любом случае опыт обращен сам к себе, через надежду и страх он отсылает вперед и назад к себе же, а при помощи метафоры, лежащей у истоков языка, постоянно сравнивает подобное с неподобным, малое с великим, близкое с далеким. Таким образом, акт приближения к определенному моменту опыта включает в себя как внимательное изучение (приближение), так и способность вызывать ассоциации (удаленность). Процесс писательства напоминает полет воланчика: он то и дело прилетает и улетает, приближается и удаляется. Однако, в отличие от воланчика, писательство не ограничено игровым полем. С каждой следующей попыткой достигается все большая близость к опыту. В конце концов, если вам улыбнется удача, плодом этой близости становится смысл.
Для рассказывающего старика смысл его историй более определенный, но не менее таинственный. Причем загадка признается им гораздо охотнее. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Во всех деревнях рассказывают истории. Это могут быть истории из прошлого, даже весьма далекого. Когда я гулял с другим моим семидесятилетним приятелем у подножия высокого утеса в горах, он рассказал мне о том, как молодая девушка разбилась здесь насмерть во время сенокоса на горном летнем пастбище наверху. Это было еще до войны? – поинтересовался я. Около 1800 года (нет, это не опечатка), ответил он. И это могут быть истории, произошедшие сегодня. Бо́льшая часть того, что случается в течение дня, в подробностях рассказывается еще до его окончания. Это правдивые истории, основанные на наблюдениях или на чужих словах. Так называемые деревенские сплетни есть не что иное, как сочетание самого пристального внимания к ежедневным рассказам о дневных событиях и встречах с хорошей осведомленностью друг о друге длиною в жизнь. Иногда история подразумевает нравственную оценку, но эта оценка – будь она справедливая или нет – остается лишь деталью: в целом история рассказывается с долей терпимости, поскольку включает тех, с кем рассказчику и слушателю еще жить по соседству.
Лишь немногие истории кого-то превозносят или осуждают, чаще они свидетельствуют о неожиданном диапазоне возможного. И несмотря на то что они повествуют о повседневных делах, это таинственные истории. Как может быть, чтобы некто С., столь умелый и аккуратный, опрокинул свою повозку с сеном? Как же так Л. умудрилась обобрать до нитки своего любовника Д. и как может быть, чтобы Д., у которого зимой снега не допросишься, позволил с собой это сделать?
История предполагает комментарий. Более того, она его и создает, даже если им становится полное молчание. Комментарии могут быть злобными или нетерпимыми, но в таком случае они сами превратятся в истории и их тоже станут комментировать. Почему это Ф. никогда не упустит возможности осудить брата? Чаще всего комментарии, которыми прирастают истории, подразумевают и воспринимаются как личный отклик комментирующего – в свете рассказанной истории – на загадку существования. Каждая история позволяет человеку самоопределиться.
Функция этих рассказов, которые на самом деле составляют подробную устную ежедневную историю, заключается в том, чтобы дать возможность самоопределиться всей деревне. Жизнь деревни, не считая ее природно-территориальных признаков, – это сумма всех общественных и личных взаимоотношений, существующих внутри ее, а также социальные и экономические связи – обычно дискриминационные, – соединяющие деревню с остальным миром. Нечто подобное можно сказать и о жизни небольшого города. И даже о некоторых мегаполисах. Однако жизнь деревни отличается тем, что она всегда создает еще и собственный живой портрет: коллективное изображение, в котором каждый – и портретируемый, и портретист, а такое возможно только там, где все знают всех. Как в резных капителях романской церкви, здесь налицо духовное единство между тем, что изображается, и тем, как изображается, – как если бы портретируемые были одновременно и резчиками. Автопортрет деревни создается не из камня, но из слов, сказанных и хранимых в памяти: из мнений, историй, свидетельств очевидцев, легенд, пересудов и слухов. И это портрет с продолжением; работа над ним никогда не прекращается.
Еще недавно единственным доступным материалом для описания себя у деревни и ее жителей были слова. Не считая материального результата их труда, только деревенский автопортрет отражал смысл их жизни. Ничто и никто больше его не признавал. Без такого портрета – и «сплетен» как его исходного материала – деревне пришлось бы усомниться в собственном существовании. Каждая история и каждый комментарий к ней, доказывающий, что история была засвидетельствована, становятся частью этого портрета и подтверждают существование деревни.
Этот постоянно складывающийся портрет, в отличие от многих, весьма реалистичный, неформальный и непостановочный. Сельские жители, так же как и все люди, или даже чуть сильнее, учитывая ненадежность их жизни, нуждаются в некотором формальном начале, что выражается в их церемониях и обрядах. Однако, как создатели собственного общего портрета, они неформальны, поскольку эта неформальность ближе к правде – той правде, которую церемонии и обряды могут отразить лишь частично. Все свадьбы одинаковы, но каждый брак особенный. Смерть приходит ко всем, но каждый скорбит в одиночестве. Это – правда.
В деревне разница между тем, что известно о человеке и что нет, невелика. У человека может быть несколько тщательно охраняемых секретов, но в целом обман – редкость, поскольку водить за нос тут невозможно. Любопытства в форме назойливого интереса здесь очень мало, так как в нем нет большой необходимости. Любопытство – это черта городского консьержа, который может заполучить немного власти или привлечь внимание, рассказав Икс то, чего он не знает об Игрек. В деревне Икс и так все это знает. Отсюда и ненужность масок: сельские жители не играют роли, в отличие от персонажей городской жизни.
Это не потому, что они «проще», или более открыты, или бесхитростны, а потому лишь, что зазор между тем, что неизвестно о человеке, и тем, что известно всем и каждому – а это и есть пространство для любой игры, – слишком мал. Сельский житель не играет – он попросту разыгрывает соседей. Как когда четверо мужчин в одно воскресное утро – воспользовавшись тем, что вся деревня была на мессе, – свезли вместе все тачки для уборки конюшен и выстроили их у церковного крыльца, чтобы каждый выходящий из церкви был вынужден отыскать свою и катить ее назад в воскресном наряде по главной деревенской улице! Вот почему возникающий деревенский автопортрет может быть саркастичным, откровенным, утрированным, но редко когда идеализированным или лицемерным. И все потому, что лицемерие и идеализация закрывают вопросы, тогда как реализм оставляет их открытыми.
У реализма есть две формы. Профессиональная и традиционная. Профессиональный реализм, как избранный метод для художника или писателя вроде меня, всегда связан с политическими убеждениями; он стремится подорвать скрытые аспекты правящей идеологии и потому, как правило, искажает или исключает некоторые аспекты реальности. У традиционного реализма, всегда имеющего народное происхождение, в определенном смысле больше общего с наукой, чем с политикой. Опираясь на запас эмпирического знания и опыта, он формулирует загадку неизвестного. Как происходит так, что?.. В отличие от науки, он может обойтись без ответа. Однако его опыт слишком велик, чтобы игнорировать вопрос.
Вопреки обычному представлению сельских жителей интересует мир за пределами своей деревни. Однако редко когда такой житель, оставаясь самим собой, имеет возможность куда-либо уехать. Он лишен свободы передвижения. Его место было определено в момент зачатия. И поэтому если он считает свою деревню центром мира, то это не столько вопрос местечкового мышления, сколько феноменологической правды. Его мир обладает центром (в отличие от моего). Сельский житель верит, что все происходящее в деревне типично для человеческого опыта. Это убеждение кажется наивным только в техническом или организационном плане. Он же подходит к нему с точки зрения человеческого вида. Его живо интересует типология человеческих характеров во всех их вариациях, а также наша общая судьба родиться и умереть. Таким образом, передний план деревенского живого автопортрета чрезвычайно специфичен, тогда как его фон состоит из самых глубоких и общих вопросов, на которые нельзя дать исчерпывающий ответ. И это наша общая тайна.
Старик знает, что мне это ясно столь же отчетливо, как и ему.
9. Эрнст Фишер: философ и смерть
Это был последний день его жизни. Тогда мы, конечно же, этого не знали – вплоть до десяти часов вечера. Мы втроем были с ним в тот день: его жена Лу, Аня и я.
Эрнст Фишер любил проводить лето в небольшой деревушке в Штирии. Он и Лу останавливались в доме трех сестер, своих старых друзей, которые в 1930-е годы были членами австрийской коммунистической партии вместе с Эрнстом и его двумя братьями. Младшую из сестер, которая теперь ведет хозяйство, нацисты бросили в тюрьму за то, что она скрывала политических беженцев и оказывала им помощь. Мужчина, которого она тогда любила, за такое же преступление был обезглавлен.
В Штирии часто идет дождь, и, когда вы находитесь в этом доме, вам порой кажется, что дождь продолжает идти даже тогда, когда он уже закончился, все из-за звука шумящей в саду воды. И все же в саду нет сырости, а пестрота множества цветов оживляет его монотонную зелень. Этот сад – своего рода святилище. Но чтобы ясно почувствовать это, нужно, как я уже сказал, помнить, что в его пристройках тридцать лет назад спасались от гибели мужчины и женщины, находя защиту у трех сестер, которые теперь ухаживают здесь за клумбами и сдают комнаты в летние месяцы своим немногочисленным друзьям, чтобы свести концы с концами.
Когда я приехал утром, Эрнст прогуливался в саду. Он был худой и прямой. И ступал очень легко, как будто его вес – который еще оставался – никогда полностью не опускался на землю. Он был в широкополой бело-серой шляпе, которую Лу недавно ему купила. Он носил ее, как и всю свою одежду, непринужденно, элегантно, но без тени позерства. Он был придирчив, но не к деталям костюма, а к природе наружности.
Он умел получать удовольствие от жизни, и этой способности не притупило ни политическое разочарование, ни плохие новости, которые с 1968 года постоянно приходили из стольких мест. На его лице не было ни малейшего следа озлобленности, ни единой горькой складки. Полагаю, что некоторые могли бы назвать его блаженным. И были бы не правы. Он был человеком, не желавшим отказываться от своей веры или понижать ее коэффициент, который был очень высок. Однако в последнее время он верил в скептицизм.
Теперь кажется, что именно из-за этой уверенности и силы убеждений он умер так внезапно. Его здоровье было слабым с детства. Он часто болел. В последнее время у него стало сдавать зрение, и он мог читать только с очень мощным увеличительным стеклом, но чаще ему читала Лу. Несмотря на это, ни у кого из знавших его даже не возникало предположения, что он медленно умирал, что с каждым годом его страсть к жизни потихоньку угасала. Он жил полной жизнью, поскольку обладал полной уверенностью.
В чем же? Ответы в его книгах, политических выступлениях, его речах. Или их будет недостаточно? Он был уверен, что капитализм в конечном счете убьет человека – или сам будет уничтожен. Он не питал иллюзий насчет беспощадности правящих классов по всему миру. Он признавал, что у нас нет социалистической модели. Его поражало и очень интересовало то, что происходило в Китае, но он не верил в китайскую модель. Сложность в том, говорил он, что мы вынуждены вернуться к поиску перспектив.
Мы прошлись до конца сада, где располагалась небольшая лужайка в окружении кустов и ивы. Он любил там лежать, разговаривать, оживленно жестикулируя, складывая пальцы и поворачивая кисти рук так, будто бы буквально снимал лапшу с ушей своих слушателей. Когда он говорил, его плечи сгибались, следуя за руками, когда он слушал, его голова наклонялась вперед, ловя слова говорящего. Теперь та же лужайка с шезлонгами, сваленными в пристройке, выглядит гнетуще, ужасающе пустой.
Начался дождь, и мы пошли в его комнату посидеть немного перед обедом. Мы часто сидели вчетвером вокруг небольшого круглого столика и беседовали. Иногда я сидел лицом к окну и смотрел через него на деревья и рощи на холмах. В то утро я заметил вслух, что через установленную на окне москитную сетку все выглядело почти двумерным и само складывалось в композицию. Мы слишком много значения придаем пространству, продолжал я, в персидском ковре, пожалуй, больше природы, чем зачастую в пейзажных полотнах. Мы снесем холмы, раздвинем деревья и повесим для тебя ковры, ответил Эрнст.
Мы собирались пообедать в одном пансионе на холмах. Хотели съездить туда и посмотреть, подойдет ли он Эрнсту для работы в сентябре или октябре. В начале года Лу написала во множество маленьких отелей и пансионов, но только этот был достаточно дешевым и казался вполне подходящим. Они хотели воспользоваться моей машиной, чтобы отправиться туда и определиться.
Через два дня после его смерти в «Монд» вышла длинная статья. «Постепенно, – гласила она, – Эрнст Фишер зарекомендовал себя как один из самых оригинальных и сто́ящих мыслителей „еретического“ марксизма…» Он повлиял на целое поколение левых в Австрии. Последние четыре года в Восточной Европе ему постоянно ставили в вину то серьезное влияние, которое он оказал на мировоззрение чехов, подготовивших Пражскую весну. Его книги переводились на большинство языков.
Однако последние пять лет он жил в стесненных и даже сложных обстоятельствах. Фишерам не хватало средств, они постоянно испытывали финансовые затруднения и жили в крохотной, шумной рабочей квартирке в Вене. Почему нет? Слышу, как задаются этим вопросом оппоненты. Чем он лучше рабочих? Ничем, но ему были необходимы определенные условия для работы. Сам он никогда не жаловался. Однако из-за непрекращающегося шума живших по соседству семей и звуков радио в квартирах наверху, справа и слева он не мог работать в Вене столь сосредоточенно, сколь хотел бы и был способен. Отсюда ежегодный поиск тихих, дешевых мест в деревне, где три месяца могут означать так много законченных глав. Дом трех сестер сдавался только до августа.
Мы поехали по крутой пыльной дороге через лес и нашли пансион. Нас там ожидали молодая женщина и ее муж, они показали нам большой длинный стол, за которым уже обедали несколько гостей. Сама столовая была просторной, с голыми деревянными полами и большими окнами, из которых открывался вид на поля на склоне холма, лес и равнину внизу. Помещение мало чем отличалось от столовых в молодежных хостелах, разве что здесь были подушки на скамейках и цветы на столах. Две спальни были совершенно одинаковые, рядом друг с другом, с туалетом на том же этаже напротив. Комнаты были вытянутые, с кроватью у стены, строгим шкафом и окном, за которым тянулись мили и мили пейзажа. Ты можешь поставить стол у окна и работать. Да-да, сказал он. Ты закончишь книгу. Возможно, не всю, но я мог бы серьезно продвинуться. Ты должен снять эту комнату, сказал я.
Мы пошли на прогулку вдвоем, прогулку в лес, которую он совершал каждое утро. Я спросил его, почему первый том его мемуаров написан совершенно разными стилями.
Каждый стиль принадлежит другому человеку.
Другой стороне себя?
Нет, скорее, он относится к другому мне.
Эти разные «я» сосуществуют или, когда преобладает одно, другие отсутствуют?
Они все присутствуют одновременно. Ни одно не может исчезнуть.
Два самых сильных из них – это мое яростное, горячее, максималистское, романтическое «я» и мое отстраненное, скептическое «я».
Они общаются между собой в твоем сознании?
Нет.
(«Нет» он произносил по-особенному. Как будто уже давно и обстоятельно размышлял над вопросом и пришел к заключению после кропотливых изысканий.)
Они смотрят друг на друга, продолжил он. Скульптор Грдличка[28]28
Альфред Грдличка (1928–2009) – австрийский скульптор, график, живописец. – Примеч. перев.
[Закрыть] вырезал мою голову в мраморе. Я получился намного моложе, чем на самом деле. Но ты можешь увидеть два преобладающих во мне начала – каждое соответствует одной стороне моего лица. Одна, пожалуй, немного похожа на Дантона, а вторая напоминает Вольтера.
Пока мы шли лесной тропинкой, я заходил то с одной стороны, то с другой, чтобы изучить его лицо. Глаза были разными, и это подтверждалось отличиями в уголках его рта. Правая сторона казалась более нежной и пылкой. Он упомянул Дантона. Но я скорее подумал о животном – может быть, какой-нибудь легконогий козел, наверное серна. Левая сторона была недоверчивой, но более жесткой: она выносит суждения, но держит их при себе, взывает к разуму с непоколебимой уверенностью. Если бы не вынужденное соседство с правой стороной, она была бы несгибаемой. Я снова переместился, чтобы проверить свои наблюдения.
Всегда ли их взаимосвязанные силы были равными? – спросил я.
Скептическая сторона моего «я» стала сильнее, ответил он. Но есть также и другие стороны. Он улыбнулся мне, взял меня за руку и добавил, словно бы обнадеживая: ее гегемония не абсолютна.
Он сказал это, чуть затаив дыхание и немного понизив голос; так он говорил, когда был чем-то растроган, например когда обнимал любимого человека.
Он обладал совершенно особенной походкой. Несмотря на некоторую скованность в бедрах, он ходил как юноша – быстро, легко, в ритме своих размышлений. Нынешняя книга, сказал он, написана в едином стиле – беспристрастно, аргументированно, спокойно.
Потому что написана позже?
Нет, потому что она не совсем обо мне. Она об историческом периоде. Но первый том и обо мне тоже, я бы не смог рассказать правду, если бы говорил одним и тем же голосом. Нет такого «я», которое стояло бы выше борьбы остальных и могло бы рассказывать историю гладко. Категории, к которым мы относим разные аспекты нашего опыта, – вследствие чего, например, некоторые могут сказать, что мне не следовало бы говорить о любви и Коминтерне в одной книге, – эти категории в основном существуют для удобства лжецов.
Скрывает ли одно «я» свои решения от других?
Может, он не расслышал вопрос. А может, просто хотел высказать то, что высказал, безотносительно вопроса.
Моим первым решением, сказал он, было решение не умирать. Я принял его, еще будучи ребенком, прямо на больничной койке, когда смерть уже подступала, – я хочу жить.
На пути назад через Грац я остановился у книжного магазина, чтобы найти там для Эрнста книгу стихов сербского поэта Миодрага Павловича. Эрнст сказал, что больше не пишет стихов и не видит смысла в поэзии. Допускаю, при этом добавил он, что мое представление о поэзии устарело. Я хотел, чтобы он прочел стихи Павловича. Я дал ему книгу в машине. У меня она уже есть, сказал он. Однако положил руку мне на плечо. В последний раз сделав это без боли.
Мы намеревались поужинать в деревенском кафе. На лестнице у своей комнаты Эрнст, который шел за мной, внезапно, но тихо вскрикнул. Я мгновенно повернулся. Он прижимал обе руки к пояснице. Садись, сказал я, или приляг. Он никак не отреагировал. Он смотрел мимо меня куда-то вдаль. Все его внимание было там, не здесь. В тот момент я решил, что это из-за сильной боли. Но она, казалось, прошла довольно быстро. Он спустился по лестнице с обычной для себя скоростью. Три сестры уже ждали нас у входной двери, чтобы пожелать доброй ночи. Мы остановились на минутку поговорить. Эрнст объяснил, что его скрутило из-за ревматизма.
Странным образом он был где-то далеко. То ли он понял, что с ним произошло, то ли серна, животное, которое было в нем столь сильно, уже отправилась на поиски укромного места, где можно умереть. Я задаюсь вопросом, не приписываю ли я себе это ощущение, зная теперь, что случится. Нет. Уже в тот момент он отдалился от нас.
Мы болтали, гуляли по саду среди шума воды. В баре мы заняли свой привычный столик. Некоторые деревенские жители выпивали под конец дня. Затем ушли. Владелец, которого интересовала лишь охота и отстрел оленей, экономил в своем кафе на чем только мог, он выключил две лампы и вышел за нашим супом. Лу вспыхнула и накричала ему вслед. Он не услышал. Она поднялась из-за стола, зашла за барную стойку и включила лампы. Я бы сделал так же, сказал я. Эрнст улыбнулся Лу, затем Ане и мне. Если бы вы с Лу жили вместе, сказал он, это было бы взрывоопасно.
Когда принесли следующее блюдо, Эрнст уже не смог его съесть. Владелец подошел узнать, все ли в порядке. Это великолепное блюдо, сказал Эрнст, держа перед собой нетронутую тарелку, и оно отлично приготовлено, но боюсь, что мне его не осилить. Он побледнел и сказал, что чувствует боль внизу живота.
Давайте вернемся, предложил я. И снова мне показалось, что в ответ на мое предложение он смотрел куда-то вдаль. Не сейчас, произнес он, чуть позже.
Мы закончили ужинать. Он нетвердо держался на ногах, но настоял, что пойдет сам. На пути к выходу он положил руку мне на плечо, так же как в машине. Но теперь этот жест выражал нечто совсем иное. И само прикосновение его руки стало еще легче.
Как только мы проехали несколько сотен метров, он сказал: мне кажется, я могу потерять сознание. Я остановил машину и обхватил его рукой. Его голова упала на мое плечо. Дыхание сделалось учащенным. Своим левым скептическим глазом он решительно смотрел мне в лицо. Это был скептический, вопросительный и твердый взгляд. Затем этот взгляд стал незрячим.
Аня остановила проезжающий мимо автомобиль и поехала назад в деревню за помощью. Она вернулась в другом автомобиле. Когда она открыла дверь нашей машины, Эрнст попытался выйти, сделав движение ногой. Это было его последнее инстинктивное движение – быть собранным, волевым, подтянутым.
Когда мы добрались до дому, новости уже опередили нас, и через открытые ворота мы подъехали прямо к входной двери.
Молодой человек, который привез Аню из деревни, на руках внес Эрнста в дом и поднял наверх. Я шел за ними, придерживая голову Эрнста, чтобы она не ударялась о дверные косяки. Мы положили его на кровать. Делали какие-то бесполезные вещи, чтобы занять себя в ожидании врача. Но даже ожидание врача было отговоркой. Мы ничего не могли сделать. Мы массировали ему ступни, принесли грелку, проверяли пульс. Я гладил его холодную голову. Его смуглые ладони на белой простыне, сжатые, но не комкавшие материю, смотрелись совершенно отдельно от остального тела. Они словно были отрезаны его манжетами. Как передние ноги, отрезанные у животного, найденного мертвым в лесу.
Приехал доктор. Мужчина лет пятидесяти. Усталый, бледный, потеющий. Он был одет в простецкий костюм без галстука. Напоминал ветеринара. Подержите его руку, сказал он, пока я буду делать инъекцию. Он легко ввел иглу в вену, жидкость должна была потечь по ней, как вода по садовому шлангу. В этот момент мы остались в комнате одни. Доктор покачал головой. Сколько ему лет? Семьдесят три. Выглядит старше, заключил он.
Живым он выглядел намного моложе, ответил я.
У него случалась раньше непроходимость сосудов?
Да.
На этот раз у него нет шансов, сказал он.
Лу, Аня, три сестры и я стояли вокруг его постели. Он умер.
Помимо росписей со сценами из повседневной жизни на стенах своих гробниц, этруски лепили на крышках саркофагов полноразмерные скульптуры усопших. Обычно они изображались полулежа, с опорой на один локоть, ноги и ступни их были расслаблены, словно они лежат на ложе, но голова и шея оставались в напряжении, ибо взгляды их были устремлены куда-то вдаль. Многие тысячи таких скульптур выполнялись очень быстро и, как правило, в соответствии с каноном. Однако, несмотря на однотипность фигур, их настороженный взгляд вдаль производит сильное впечатление. Учитывая контекст, эта даль видится скорее временно́й, нежели пространственной: дистанция – это будущее, которое представляли себе мертвые, пока были живы. Они смотрят в эту даль так, будто могут протянуть руку и прикоснуться к ней.
Я не сумею сделать скульптурный саркофаг. Но у Эрнста Фишера есть страницы, которые он писал, как мне кажется, с тем же устремлением, достигая того же горизонта ожиданий.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































