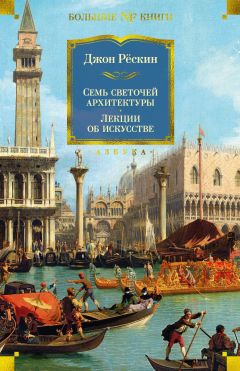
Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава V
Светоч Жизни
I. Среди бесчисленных аналогий, которые существуют в материальном творении между природой и человеческой душой, нет ничего более поразительного, чем впечатления, неразрывно связанные с активным и пассивным состоянием материи. Выше я уже пытался показать, что значительная часть основных свойств Красоты зависит от выражения жизненной энергии в органических формах или от подчинения воздействию такой энергии вещей естественно пассивных и бессильных. Нет необходимости повторять здесь то, что уже говорилось тогда, но, думаю, ни у кого не вызовет возражений, что вещи, в других отношениях сходные как по своей сути, так и по использованию или внешним формам, являются благородными или низкими соразмерно с полнотой жизни, которой обладают либо они сами, либо то, свидетельство чьего действия они на себе несут, как морской песок несет следы движения воды. И это особенно относится ко всем объектам, которые несут на себе отпечаток созидающей жизни высшего порядка, а именно – человеческого разума: они становятся благородными или неблагородными соразмерно количеству энергии этого разума, который оказал на них зримое воздействие. Особенно своеобразно и непреложно это правило действует применительно к произведениям архитектуры, которые сами не способны ни на какую другую жизнь, кроме этой, и состоят не из элементов, которые приятны сами по себе, – как музыка из сладостных звуков или живописное полотно из прекрасных красок, а из инертного вещества, и их достоинства и привлекательность полностью зависят от явственного выражения интеллектуальной жизни, которая была в них запечатлена.
II. В других видах энергии, кроме энергии человеческого разума, не возникает вопроса о том, что является жизнью, а что – нет. Жизненная чувствительность – растительная или животная, – конечно, может быть снижена настолько, чтобы поставить под вопрос свое собственное существование, но если она присутствует, она очевидна как таковая: никакую имитацию или притворство нельзя принять за самое жизнь; никакой механизм или гальванизация не может ее заменить, и никакое ее подобие не заставит нас усомниться в ее проявлениях; правда, встречается немало таких подобий, которые человеческое воображение с удовольствием превозносит, ни на мгновение не упуская из виду истинную природу мертвой вещи, которую оно одушевляет, но наслаждаясь при этом собственным избытком жизни, который наделяет облака в небе мимикой, волны – настроением, а скалы – голосами.
III. Но когда мы имеем дело с энергией человеческого разума, мы тут же оказываемся перед лицом двоякой сущности. Бóльшая часть его существования явно имеет вымышленный дубликат, который разум по своему усмотрению может отбрасывать и отрицать. Так, он обладает истинной или мнимой (иначе говоря, живой или мертвой, притворной или непритворной) верой. Он обладает истинной или мнимой надеждой, истинным или мнимым милосердием и, наконец, истинной или мнимой жизнью. Его истинная жизнь, подобно жизни менее высокоорганизованных сущностей, является независимой силой, посредством которой он создает внешние предметы и управляет ими; это сила усвоения, которая превращает все вокруг него в его пищу или орудия и которая, как бы кротко и покорно она ни внимала и ни следовала руководству стоящего над ней разума, никогда не теряет права на свои собственные полномочия, как определяющая первооснова, как воля, способная либо повиноваться, либо сопротивляться. Мнимая жизнь разума на самом деле – всего лишь одно из условий его смерти или оцепенения, но она действует, даже когда нельзя сказать, что она его оживляет, и не всегда легко отличима от истинной. Это та жизнь привычки и случайности, в которой многие из нас проводят бóльшую часть своего существования в этом мире; та жизнь, в которой мы делаем то, что не намеревались делать, говорим то, что не имеем в виду, и соглашаемся на то, чего не понимаем; та жизнь, которая отягощена вещами для нее внешними и создаваемая ими, вместо того чтобы их усваивать; та, которая, вместо того чтобы расти и расцветать под благотворной росой, коченеет, индевея, и становится для истинной жизни тем же, чем древовидность является для дерева, представляя собой застывшее скопление чуждых ей мыслей и привычек, ломкое и неподатливое, не способное ни гнуться, ни расти, то, что должно быть разбито и сломано на куски, вставая на нашем пути. Все люди бывают в какой-то степени поморожены таким образом; все люди отчасти обременены и покрыты корой бесполезного вещества; но, если в них есть настоящая жизнь, они всегда взламывают эту кору, образуя благородные прорехи, пока она не станет, как черные полосы на березе, только свидетельством их собственной внутренней силы. Но при всех усилиях, которые прилагают лучшие люди, бóльшая часть их существования проходит как во сне, в котором они двигаются и делают все, что положено, на взгляд их товарищей по сну, но не вполне осознают, что происходит вокруг или внутри них самих, слепые и нечувствительные ко многому, νωθροι[26]26
Ленивые, вялые (др. – греч.).
[Закрыть]. Я не стал бы развивать это сравнение, непонятное для нечувствительного сердца и тугого уха, но мне приходится к нему прибегать только потому, что оно соотносится с известным состоянием естественного существования нации или индивидуума, обычно проявляющимся соответственно возрасту. Жизнь нации, как поток лавы, сначала бывает яркой и бурной, затем замедляется и становится все менее явной и, наконец, проявляется только в том, что вновь и вновь переваливает отдельные застывшие глыбы. И это последнее состояние наблюдать печально. Все эти этапы явственно прослеживаются в различных видах искусства, и особенно в архитектуре, потому что она, будучи особенно зависима, как уже было сказано, от тепла истинной жизни, также чрезвычайно чувствительна и к губительному холоду фальши: я не знаю ничего более гнетущего, если разум себя осознает, чем вид мертвой архитектуры. В слабости детства присутствуют обещание и заинтересованность – усилие несовершенного знания, полного энергии и цельности; но видеть, как бессилие и косность овладевают развитым сознанием, видеть то, что когда-то переливалось всеми красками мысли, износившимся от слишком долгого употребления, видеть ракушку в ее взрослом состоянии, когда ее цвета поблекли, а ее обитатель погиб, – это зрелище более унизительное и печальное, чем полная утрата знания и возврат в откровенное и беспомощное детство.
Мало того, даже желательно, чтобы такой возврат всегда был возможен. У нас была бы надежда, если бы мы могли сменить косность на младенческую новизну, но я не знаю, насколько мы можем снова стать детьми и обновить нашу потерянную жизнь. Движение, которое произошло в нашей архитектуре, ее устремлениях и интересах за последние годы, по мнению многих, является весьма многообещающим; я хотел бы в это верить, но мне оно кажется нездоровым. Я не могу сказать, то ли это и впрямь прорастание семени, то ли это громыхание костями; и, думаю, не напрасно будет потрачено время, которое я прошу читателя посвятить выяснению того, насколько все, что мы до сих пор предположили и постановили считать в принципе наилучшим, может формально осуществляться без той одухотворенности или жизни, которая одна могла бы придать всему смысл, ценность и привлекательность.
IV. Так вот, прежде всего – и это весьма важно – признаком безжизненности в современном искусстве является не то, что оно заимствует и подражает, но то, что оно заимствует без интереса и подражает без разбору. Искусство великой нации, которое развивается в отсутствии знакомства с более благородными примерами, чем те, которые предоставляет ему его же собственные более ранние творения, демонстрирует всегда самый стойкий и заметный рост и отличается особой самобытностью. Но есть, на мой взгляд, нечто все-таки более величественное в жизни архитектуры, такой как ломбардская, сама по себе грубая, младенческая и окруженная осколками более благородного искусства, которым она живо восхищается и которому готова подражать, и все-таки настолько сильная в своих собственных новых инстинктах, что она переделывает и перерабатывает каждый копируемый или заимствуемый фрагмент, приводя его в гармонию со своими собственными мыслями – гармонию сначала несобранную и неловкую, но в результате законченную и сплавленную в совершенное единство с подчинением всех заимствованных элементов своей собственной самобытной жизни. Я не знаю более утонченного ощущения, чем то, которое мы испытываем, обнаруживая свидетельства этой великолепной борьбы за независимое существование; обнаруживая заимствованные мысли, более того, обнаруживая присутствие глыб и камней, вырезанных другими руками и в другие эпохи, включенных в новую стену, с новым выражением и назначением, как видим мы в стремительном потоке лавы (если вернуться к нашему сравнению) непокорные глыбы горных пород, великие свидетельства силы, которая сплавила своим огнем в единую массу все, кроме этих обожженных обломков.
V. Возникает вопрос: может ли подражание быть здоровым и живым? К сожалению, хотя легко перечислить признаки жизни, саму жизнь определить невозможно; и хотя каждый проницательный автор, пишущий об искусстве, настаивает на разнице между копированием, существующим в наступающий или уходящий период, ни то ни другое копирование никак не может вдохнуть в копию силу жизни оригинала. При этом необходимо заметить, что существует живое подражание и его отличительные черты – это его Откровенность и его Смелость, причем Откровенность его особая, ибо живое подражание никогда не делает попытки скрыть источник и меру заимствования. Рафаэль заимствует целую фигуру у Мазаччо или всю композицию у Перуджино с невозмутимостью и невинным простодушием юного спартанского воришки, а архитектор романской базилики берет колонны и капители откуда только можно, как муравей – обломки веточек. И эта откровенность подражания вызывает некое подспудное ощущение силы, способной трансформировать и обновлять все, что бы она ни усваивала, и слишком сознательной, слишком возвышенной, чтобы бояться обвинений в плагиате, – слишком уверенной, что она может доказать и доказала свою независимость, чтобы бояться выразить свое уважение к тому, чем она восхищается столь безоговорочно и открыто; и неизбежное следствие этого ощущения силы – другой признак, который я назвал, – Смелость переработки, если переработка признается необходимой, готовность жертвовать без колебаний предшествующим там, где оно становится неудобным. Например, в характерных формах романского стиля в Италии, в которых открытая часть языческого храма была заменена высоким нефом и впоследствии фронтон западного фасада разделился на три части, из которых центральная, подобно вершине гребня наклонных пластов, поднятых внезапным сдвигом, была выломана и поднята над крыльями; а на концах боковых нефов остались два треугольных фрагмента фронтона, которые теперь никак не могли быть заполнены декоративными элементами, созданными для непрерывного пространства; и эта трудность усугубилась, когда центральная часть фасада была занята рядами колонн, которые не могли, без нежелательной внезапности, закончиться, не достигая концов крыльев. Я не знаю, какая уловка была бы предпринята при таких обстоятельствах архитекторами, имеющими большое уважение к прецеденту, но это, конечно, было бы не то, что мы видим на фасаде собора в Пизе, где ряд колонн продолжили в пространстве фронтона, укорачивая их к его концу до тех пор, пока ствол последней колонны совсем не исчез и не осталась только капитель, опирающаяся в углу на цоколь базы. Я не спрашиваю, изящен ли этот прием; я ссылаюсь на него только как на пример исключительной смелости, которая отбрасывает все известные принципы, стоящие на ее пути, и пробивается через все трудности к осуществлению своих инстинктивных желаний.
VI. Откровенность тем не менее сама по себе не является оправданием для повторения, как и Смелость – для нововведений, если первая ничем не вызвана, а вторая – бессмысленна. Надо искать более благородные и явные признаки жизни – признаки равно независимые от декоративного или оригинального характера данного стиля и постоянные в каждом определенно развивающемся стиле.
Одним из самых важных среди таких признаков, думаю, является некоторое пренебрежение к тщательности обработки материала или, во всяком случае, откровенное подчинение исполнения замыслу, обычно невольное, но нередко и намеренное. Говоря об этом достаточно уверенно, я должен в то же время быть сдержанным и осторожным, ибо иначе меня могут понять превратно. Как точно подметил и хорошо сказал лорд Линдсей, лучшие архитекторы в Италии были также и самыми внимательными к качеству исполнения; и прочность, и завершенность в их кладке, мозаике или любой другой работе были всегда безупречны в силу невероятности равнодушия великого архитектора к отточенности деталей, столь пренебрегаемой нами. Я не только полностью подтверждаю этот важнейший факт, но и настаиваю на том, что совершенная и тончайшая отделка на соответствующем ей месте есть характерная черта всех величайших школ как в архитектуре, так и в живописи. Но с другой стороны, если совершенная отделка принадлежит искусству, достигшему своего расцвета, то некоторая небрежность в отделке деталей принадлежит развивающемуся искусству; и, думаю, нет более грозного признака оцепенения и закоснелости, поражающих еще неразвитое искусство, чем всепоглощающая сосредоточенность на отделке и ее приоритет перед замыслом. При этом, даже признавая, что замечательная отделка детали на соответствующем ей месте является свойством совершенной школы, я оставляю за собой право по-своему ответить на два очень важных вопроса, а именно: что такое отделка? И что такое соответствующее ей место?
VII. Но, рассматривая каждый из этих вопросов, мы должны помнить, что соответствие работы и мысли в существующих примерах наталкивается на усвоение мастерами примитивного периода замыслов высокого периода. Таковы все начинания христианской архитектуры, и неизбежное следствие этого – конечно, увеличение заметного разрыва между силой воплощения и красотой замысла. Сначала появляется подражание классическим образцам, почти первобытное по своей примитивности; в ходе развития искусства появляется готическая причудливость, и исполнение становится все более совершенным, пока между ними не установится гармония, и достигается равновесие, удерживая которое они идут к новому совершенству. Далее, в течение периода, когда происходит движение в определенном направлении, в живой архитектуре обнаруживаются явные признаки нарастающего нетерпения; стремление к чему-то доселе не достигнутому, в результате чего возникает пренебрежение к тщательной проработке; беспокойное невнимание ко всему, что требует большего времени и внимания. И точно так же, как хороший и старательный ученик, изучающий рисование, не станет терять время на выравнивание линий или отделку фона в этюдах, которые, отвечая своей сиюминутной задаче, являются заведомо несовершенными и более слабыми по сравнению с теми, которые будут сделаны впоследствии, так и энергия истинной ранней школы архитектуры, либо работающей под влиянием высокого примера, либо находящейся в состоянии самостоятельного бурного развития, отличается, наряду с другими признаками, пренебрежительным отношением к точности симметрии и размеров, к которым столь внимательна омертвевшая архитектура.
VIII. На рис. XII, 1 я представил исключительно своеобразный пример как примитивности исполнения, так и пренебрежения к симметрии в маленькой колонке и обрамлении пазухи свода из филеночного украшения под кафедрой собора Святого Марка в Венеции. Несовершенство (не просто наивность, но примитивность и неточность) лиственного орнамента сразу бросается в глаза: это типично для работ того времени, но трудно найти капитель, вырезанную столь небрежно; одна из ее нелепых волют задрана гораздо выше другой, сокращенной с добавлением дополнительного отверстия для заполнения пространства; кроме того, элемент a профилей является округлым валиком там, где он повторяет очертания арки, и плоской кромкой – в своей горизонтальной части; и валик, и кромка сливаются в углу b и в конце концов обрезаются с другой стороны самым бесцеремонным и безжалостным вмешательством внешнего профиля; и, несмотря на все это, изящество, соразмерность и восприятие всей композиции в целом таковы, что на этом месте данный элемент выглядит безупречно. На рис. XII, 4 я попытался передать идею соподчинения частей более совершенной работы – кафедры церкви Сант-Андреа в Пистойе, выполненной Никколо Пизано. Она покрыта скульптурными изображениями, вырезанными с большой точностью и тонкостью, но когда скульптор дошел до простых арочных профилей, он не захотел выделять их чрезмерной тщательностью проработки или четкостью тени. Полученное сечение km чрезвычайно просто и столь незначительно и приглушенно в своем углублении, чтобы ни в коем случае не создать четкую линию, и выполнено, на первый взгляд, небрежно, но на самом деле представляет собой скульптурный эскиз, в точности соответствующий тому, как живописец легко намечает фон: линии возникают и вновь исчезают, то глубокие, то неглубокие, то прерывистые; и углубление мыса примыкает к углублению внешней арки на линии n, смело пренебрегая всеми математическими законами касания кривых.
IX. Есть что-то восхитительное в этом смелом выражении мысли великого мастера. Я не говорю, что это «воплощение» терпения, но думаю, что нетерпение – восхитительная черта любой развивающейся школы, и я люблю романскую архитектуру и раннюю готику особенно за то, что они предоставляют ему такой простор; за случайную неточность размера или исполнения, незаметно соседствующую с намеренными отступлениями от регулярной симметрии, и за роскошь непостоянной фантазии – качества, которые в высшей степени характерны для обоих этих стилей. Насколько ярки и часты их проявления и как их изящество и неожиданность облегчают строгость архитектурных законов – это, на мой взгляд, пока рассмотрено недостаточно, а неравные размеры даже важных деталей, призванных быть строго симметричными, – и того меньше. Я не настолько знаком с современной практикой, чтобы говорить с уверенностью о ее обычной точности, но я думаю, что следующие размеры западного фасада собора в Пизе были бы расценены нынешними архитекторами как недопустимая небрежность. Этот фасад разделен на семь арочных секций, из которых вторая, четвертая, или центральная, и шестая содержат порталы; все семь состоят в неуловимом соотношении чередований; центральная является самой большой, за ней следуют вторая и шестая, затем – первая и седьмая и, наконец, третья и пятая. При таком расположении эти три пары, конечно, должны быть равными, и они кажутся равными, но я обнаружил, что их действительные размеры являются следующими, если измерять их от колонны до колонны в итальянских braccia, palmi (по четыре дюйма в каждой) и в дюймах:[27]27
Локти (ит.).
[Закрыть][28]28
Пяди (ит.).
[Закрыть]

XII. Фрагменты зданий в Аббевиле, Лукке, Венеции и Пизе

Таким образом, налицо разница по отдельности между 2, 3 и 4, 5 – в одном случае в пять с половиной дюймов, в другом – в пять.
X. Вероятно, это можно отчасти отнести на счет некоторого выравнивания случайных деформаций, которые очевидно произошли в стенах собора во время их возведения, так же как и в стенах кампанилы. На мой взгляд, деформации собора еще более удивительны, чем наклон кампанилы; думаю, ни одна из опор его стен не является строго вертикальной – тротуар поднимается и опускается на разную высоту, или, скорее, цоколь стен непрерывно погружается в него на разную глубину, весь западный фасад буквально нависает (я не проверял по отвесу, но наклон виден невооруженным глазом при визуальном совмещении его с вертикальными пилястрами Кампо Санто), и наиболее необычная деформация в кладке южной стены показывает, что этот наклон начался при строительстве второго этажа. Карниз над первой аркадой этой стены касается вершин одиннадцати из пятнадцати ее арок, но он неожиданно исчезает с вершин четырех крайних с запада; арки наклоняются на запад и уходят в землю, тогда как карниз поднимается (или кажется, что поднимается), оставляя в любом случае – то ли из-за собственного подъема, то ли из-за опускания арок – промежуток более чем в два фута между собой и вершиной крайней западной арки, заполненный добавочными рядами кладки. Есть еще одно любопытное свидетельство этой борьбы архитектора с наклоном стены в колоннах главного входа. (Эти наблюдения, возможно, не имеют прямого отношения к нашей теме, но они кажутся мне весьма интересными и, во всяком случае, подтверждают одно из положений, на котором я настаиваю, показывая, сколько неточностей и различий в вещах, претендующих на симметричность, не смущали этих нетерпеливых строителей: они заботились о красоте деталей, о благородстве целого, но не о мелочных замерах.) Эти колонны главного входа относятся к прекраснейшим в Италии; они цилиндрические, богато украшенные причудливой каменной листвой, которая возле базы окружает их почти полностью, до черной пилястры, в которую они отчасти включены, но покрытие из листвы, ограниченное строгой линией, сужается к их вершинам, где покрывает только их фронтальный сегмент, образуя при взгляде сбоку завершающую линию, смело отклоняющуюся наружу, которая, думаю, призвана была скрыть случайный наклон западных стен и своим преувеличенным наклоном в том же направлении придать им кажущуюся вертикальность.
XI. Есть еще один любопытный пример деформации над центральным порталом западного фасада. Все интервалы между семью арками заполнены черным мрамором, каждый интервал содержит в центре белый параллелограмм с анималистическими мозаиками, и все вместе увенчано широкой белой полосой, которая в основном не касается параллелограмма внизу. Но параллелограмм с северной стороны центральной арки выведен в наклонное положение и касается белой полосы; и, словно архитектор намеревался показать, что он не обращает на это внимание, белая полоса неожиданно становится шире в этом месте и остается такой над двумя следующими арками. Эти отступления тем более любопытны, что исполнены с чрезвычайным мастерством и тщанием и камни в них пригнаны с точностью чуть ли не до микрона. Все это никак не выглядит неустойчивым или неумелым; все это выполнено с полной невозмутимостью, словно у строителя не было ощущения неправильности и необычности того, что он делал: если бы мы обладали хоть малой долей его дерзости!
XII. Читатель, однако, скажет, что все эти различия, вероятно, объясняются скорее недостатками фундамента, чем решением архитектора. Но только не изысканные тонкости в смене пропорций и размеров визуально симметричных аркад западного фасада. Помнится, я говорил, что башня в Пизе – единственная безобразная башня в Италии, потому что ее ярусы равны или почти равны по высоте; этот недостаток столь противоречит духу строителей того времени, что его можно считать всего лишь неудачной причудой. Вероятно, общий вид западного фасада собора может в таком случае показаться читателю еще одним явным противоречием тому правилу, которое я сформулировал. Однако это было бы не так, даже если бы четыре его верхние аркады были на самом деле равными, поскольку они соотносятся с большим семиарочным нижним этажом таким же образом, как это было ранее отмечено при описании собора в Солсбери, и то же самое демонстрируют собор в Лукке и башня в Пистойе. Но пропорции собора в Пизе гораздо более искусны. Ни одна из четырех его аркад не совпадает по высоте с другой. Самая высокая – третья снизу, и аркады сокращаются по высоте относительно друг друга в почти арифметической прогрессии в следующем порядке: третья, первая, вторая, четвертая. Неравенство их арок не так заметно, сначала все они кажутся равными, но в них есть изящество, которое никогда не достигалось равенством: при более внимательном рассмотрении можно заметить, что в первом ряду из девятнадцати арок восемнадцать являются равными, а центральная – шире остальных; во второй аркаде девять центральных арок стоят над девятью внизу, имея, как и они, девятую, центральную, – самой широкой. Но на их краях, там, где скат фронтона, арки исчезают, и вместо них появляется клиновидный фриз, сужающийся наружу, чтобы позволить колоннам дойти до конца фронтона, и здесь, где высота стволов резко укорачивается, они стоят чаще; пять стволов, а вернее – четыре и капитель – наверху соответствуют четырем колоннам аркады внизу, создавая двадцать один промежуток вместо девятнадцати. В следующей, или третьей, аркаде – которая, не забудем, является самой высокой – восемь арок, все равные, помещены на пространстве девяти снизу, так что теперь на месте центральной арки имеется центральная колонна, а пролет арок увеличен пропорционально их увеличившейся высоте. Наконец, в верхней аркаде, которая является самой низкой, арки в том же количестве, что и внизу, но у́же, чем любые другие на фасаде; все эти восемь арок проходят почти над шестью под ними, тогда как конечные арки более низкой аркады преодолены фланкирующими массами декорированной стены с выступающими фигурами.
XIII. Так вот, это я называю Живой Архитектурой. Здесь в каждом дюйме живое чувство и умение приспособиться к любой архитектурной необходимости с помощью решительного различия в расположении, которое точно соответствует подобным пропорциям и взаиморасположению в строении органических форм. Я не имею здесь достаточно места для того, чтобы исследовать еще более восхитительное соотношение в пропорциях внешних колонн апсиды этого великолепного здания. И, чтобы читатель не счел этот пример из ряда вон выходящим, я хотел бы обратиться к устройству другой церкви, в определенном смысле самого прекрасного и величественного сооружения в романском стиле Северной Италии, а именно церкви Сан-Джованни-Эванджелиста в Пистойе.
Сторона этой церкви имеет три яруса аркад, убывающие по высоте в строго геометрической прогрессии, тогда как количество арок в них в основном увеличивается в арифметической прогрессии, то есть по две во второй аркаде и по три в третьей приходится на одну в первой. Чтобы, однако, это расположение не было слишком формальным, из четырнадцати арок в нижнем ряду та, которая содержит портал, имеет бóльшую ширину, чем другие, и находится не в середине, но является шестой с запада, оставляя с одной стороны пять, а с другой – восемь арок. Далее, эта нижняя аркада заканчивается широкими плоскими пилястрами, примерно в половину ширины ее арок; но аркада над ней сплошная, только две крайние арки на западном конце шире, чем остальные, и, вместо того чтобы стоять, как им следовало бы, в промежутке нижней крайней арки, занимают пространство и ее, и ее широкой пилястры. Но даже этого нарушения оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить глаз архитектора; ибо, кроме того, по две арки сверху приходится на каждую внизу, так что на восточном конце, где арок больше и взгляд легче обмануть, архитектор сужает две крайние нижние арки на пол-braccio и в то же время слегка расширяет верхние, чтобы пришлось только семнадцать верхних на девять нижних, вместо восемнадцати на девять. Таким образом удается обмануть взгляд, и все здание связывается в единую массу любопытными вариациями в расположении колонн друг над другом, ни одна из которых не находится ни точно на своем месте, ни явно не на месте; и чтобы устроить это похитрее, осуществляется постепенное нарастание пространства четырех восточных арок от дюйма до полутора дюймов, помимо явного пол-braccio. Я обнаружил, что их размеры, считая с восточной стороны, таковы:

Верхняя аркада устроена по такому же принципу: она выглядит сначала, как будто три арки приходятся на каждую пару под ними, но на самом деле – только тридцать восемь (или тридцать семь, я не совсем уверен в числе) приходится на двадцать семь под ними и колонны по-разному размещаются относительно друг друга. Но даже этим архитектор не удовлетворился и счел необходимым внести неравенство в высоту арок, и, хотя создается общее впечатление симметричной аркады, на самом деле нет и двух арок одинаковой высоты; их вершины создают волнообразную линию вдоль всей стены, как волны вдоль причала, некоторые почти касаясь пояска наверху, а другие – опускаясь от него на целых пять или шесть дюймов.
XIV. Давайте теперь изучим устройство западного фасада собора Святого Марка в Венеции, который, будучи во многих отношениях несовершенным, по своим пропорциям и по богатству колористической фантазии представляет собой прекраснейшую мечту, которую когда-либо создавало человеческое воображение. Однако читателю, вероятно, интересно будет услышать противоположное мнение по этому вопросу; и после того, что я говорил на предыдущих страницах о пропорциях в целом, а особенно о неправильности уравновешенных соборных башен и других регулярных решений, а также после моих частых обращений к Дворцу дожей и кампаниле Святого Марка как образцам совершенства и моего восхищения особенно тем, как первый из них выступает над своей второй аркадой, следующие отрывки из дневника архитектора Вуда, написанного им по приезде в Венецию, могут иметь в себе приятную свежесть и показать, что я утверждал не такие уж банальные или общепринятые истины.
«Эту странного вида церковь и огромную безобразную кампанилу нельзя спутать ни с чем. Снаружи эта церковь поражает прежде всего своим крайним уродством».
«Дворец дожей даже еще более уродлив, чем всё, что я упомянул до этого. Если говорить о мелких деталях, я не могу представить себе никаких изменений, которые могли бы сделать его сносным; но если бы эта высокая стена была спрятана позади двух ярусов небольших арок, то здание приобрело бы вполне благородный вид».
После дальнейших рассуждений о «некоторой правильности пропорций» церкви и о впечатлении богатства и могущества, которому он приписывает благоприятное воздействие, мистер Вуд продолжает: «Некоторые считают, что неправильность является одним из ее выдающихся достоинств. Я решительно против такого мнения, и я убежден, что полная симметрия здесь была бы гораздо предпочтительнее. Пусть удлиненная площадь, обрамленная хорошей, но не очень вызывающей архитектурой, ведет к хорошему собору, которому следует находиться между двумя высокими башнями и иметь перед собой два обелиска, а с каждой стороны этого собора пусть другие площади частично сообщаются с первой, а одна из них пусть простирается вплоть до гавани или морского берега, и вы получите вид, равный которому не сыщешь».









































