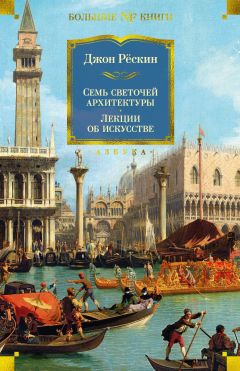
Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
XIX. Очевидно, что для достижения полного эффекта от окон необходима большая осторожность в использовании стекла. В лучших примерах рисунок создается открытыми просветами либо в башнях, как в приведенном решении Джотто, либо во внешних аркадах, как в Кампо Санто в Пизе и Дворце дожей в Венеции, и только таким образом достигается совершенство. В наших зданиях или в окнах церквей, неизбежно застекленных, стекла обычно убраны за переплеты. Узор окон собора во Флоренции отступает от стекол, отбрасывая тени обособленными линиями, создавая впечатление двойного узора в зависимости от освещения. В тех немногих примерах, в которых стекла вставлены в резные переплеты, как в церкви Орсанмикеле, эффект от последних наполовину пропадает: возможно, особое внимание, которое Орканья уделил узору поверхностей, связано с его намерением застеклить окна. Странно видеть, что в более поздней архитектуре стекло, которое досаждало самым смелым архитекторам, считалось удачным поводом сделать узор окон тоньше, как в окнах с наиболее тонким узором в Мертон-колледже в Оксфорде, где стекло выдвинуто вперед дюйма на два от резной перекладины (тогда как в больших пространствах оно в середине, как обычно), чтобы глубина тени зрительно не уменьшала и без того небольшой промежуток. Во многом впечатление легкости резного узора возникает благодаря этой, казалось бы, незначительной подробности расположения. Но обычно все-таки стекла портят резьбу, и весьма желательно, чтобы они были заглублены как можно дальше, если уж без них не обойтись, и чтобы наиболее точные и красивые решения приберегались для тех случаев, где стекло не требуется.
XX. Способ декорирования с помощью тени, как мы уже убедились, был общим и для северной, и для южной готики. Но в применении этого способа они расходились. Имея в своем распоряжении мрамор и классический декор перед глазами, южный архитектор мог заполнять промежутки изысканным растительным орнаментом или разнообразить поверхность стены инкрустацией из камня. Северный архитектор не знал античных примеров и не обладал изысканным материалом, у него не было иной возможности, кроме как покрывать стены отверстиями, вырезанными в форме листьев, такими, как окна. И делал он это хоть подчас очень грубо, но всегда с отчетливым чувством композиции и всегда, заметим, достигал желаемого эффекта с помощью тени. Там, где стена была толстой и не могла быть прорезана, а орнамент в виде листьев был крупным, эти тени не заполняли все пространство целиком; но форма посредством их все-таки выявлялась, а когда это было возможно, они четко прорезались, как в рельефных вставках фронтона, например, на западном фасаде собора в Байё; и вырезались в каждом случае так глубоко, чтобы выделить большую ширину тени при любом свете, кроме прямого слабого фронтального.

VI. Арка фасада церкви Сан-Микеле в Лукке
Пазуха свода, представленная вверху рис. VII, принадлежит юго-западному порталу в Лизьё – одному из самых необычных и интересных порталов в Нормандии, который, возможно, скоро будет навсегда утрачен из-за непрерывных переделок, которые уже уничтожили северную башню. Это работа в общем грубая, но одухотворенная; противоположные пазухи имеют разные, хотя и взаимно уравновешивающие украшения, очень небрежно вставленные, каждая розетка или звезда (каковой, видимо, являлась когда-то фигура с пятью лучами в верхней части, ныне почти стершаяся) вырезана на своей собственной каменной глыбе и вписана в общий рисунок без особой разборчивости, наглядно иллюстрируя то, о чем я уже говорил выше, – полное пренебрежение архитектора к форме промежуточного камня в этот ранний период.
Аркада, чья единственная арка и колонна представлены слева, расположена сбоку портала; три внешние колонны заключают в себе три ордера внутри пазухи, которую я нарисовал, и каждая из этих колонн несет внутреннюю аркаду, украшенную сверху повторяющимся вогнутым, заполненным листьями четырехлистным вырезом; все расположение чрезвычайно живописно и демонстрирует необычную игру света и тени.
В течение некоторого времени пронизывающие орнаменты, если их можно так называть для удобства, сохраняли свой четкий и независимый характер; затем их число и размер увеличились, а глубина сократилась; затем они стали соединяться, поглощая друг друга или сливаясь друг с другом, как пузыри в пене, – на рис. VII, 4 (пазуха в Байё) они выглядят так, как будто выдуты из соломинки; наконец, они окончательно утратили свой индивидуальный характер, и взгляд стали привлекать разделяющие линии узора, как мы видели раньше на примере окна, а затем наступила великая перемена и ослабление готической силы.

VII. Ажурные орнаменты в Лизьё, Байё, Вероне и Падуе
XXI. Рис. VII, 2 и 3: один – сектор окна в форме звезды маленькой капеллы возле церкви Санта-Анастазия в Вероне, а другой – очень своеобразный пример из церкви Эремитани в Падуе, в сравнении с рис. VII, 5 одного из резных узоров, принадлежащих башням трансепта в Руане, показывают близкое соответствие северной и южной готики[19]19
Читатель не может не заметить гармоничность простого расположения тени, присущую особенно «святому трилистнику». Я не думаю, что лиственный узор использовался в достаточной степени в его сокровенной связи с энергией готической работы. Если бы меня спросили, что является главной отличительной чертой совершенного стиля, я ответил бы: трилистник. Это душа готики, и я уверен, что прекраснейшая готика всегда основана на простой и четкой его прорисовке, являющей собой золотую середину между простой стрельчатой аркой, с одной стороны, и перегруженной пятилистной аркой – с другой.
[Закрыть]. Но, как уже было сказано, итальянские архитекторы, не испытывая трудностей в украшении поверхности стены и не будучи вынуждены, как северяне, умножать сквозные отверстия, придерживались этой системы несколько дольше; и, увеличивая изящество орнамента, сохраняли ясность общего замысла. Это изящество орнамента было, однако, их слабым местом и открывало дорогу натиску Ренессанса. Они пали, как Древний Рим, жертвой роскоши, за единственным исключением, которое составила великолепная венецианская школа. Эта архитектура началась с роскоши, которой все остальные закончили; ее основы закладывались на примере византийской мозаики и каменной резьбы, и, отбрасывая украшения одно за другим, укрепляя свои формы правилами все более и более строгими, она в конце концов создала образец собственной готики, столь великолепный, столь законченный, столь благородно упорядоченный, что, на мой взгляд, никогда не существовало архитектуры, столь достойной нашего преклонения. Я не делаю здесь исключения даже для греческого дорического ордера: он ни от чего не отказывался, венецианская же архитектура четырнадцатого века отбросила одно за другим на последующие столетия всю пышность, которую могли ей дать искусство и богатство. Она сложила с себя корону и драгоценности, золото и цвета, как королева, снимающая свое облачение. Она сняла с себя напряжение, как отдыхающий атлет; некогда замысловатая и причудливая, она оставила себе правила строгие и ясные, как те, которые установила сама природа. Она отказалась от всего, и у нее остались только красота и сила, обе высочайшие и обе сдержанные. Количество каннелюр дорической колонны было нерегулярно – венецианские профили были неизменны. В дорическом декоре отсутствовал соблазн, это и так был пост анахорета – венецианский декор охватывал в своем господстве все растительные и животные формы, тут было обуздание страстей, власть Адама над творением. Я не знаю более великолепного воплощения могущества человека, чем железная власть венецианца над богатством собственного воображения, спокойная, величавая сдержанность, с которой он, охваченный мыслями о ниспадающей листве и пульсирующей жизни, на мгновение дает выход своим эмоциям, а потом прячет их в массивных балках и ровных регулярных выступах[20]20
Иллюстрация представляет одно из боковых окон третьего этажа палаццо Фоскари. Я нарисовал его с противоположной стороны Большого канала, и поэтому линии узоров показаны так, как они выглядят на большом расстоянии. Показаны только сегменты характерных четырехлистников центральных окон. Измерив их, я обнаружил, что их конструкция чрезвычайно проста. Четыре круга нарисованы соприкасающимися внутри большого круга. Две касательные проведены к каждой противоположной паре, заключая четыре круга в пустой крест. Еще один внутренний круг, проходящий через точки соприкосновения кругов с касательными, срезает выступы.
[Закрыть].
И добивался он этого, постоянно удерживая в поле зрения форму теней, не увлекаясь всецело резным орнаментом, а постепенно отказываясь от него. Когда его профили приобрели совершенную упорядоченность и симметрию, аналогичную узору в Руане (сравним рис. IV и VIII), он оставлял выступы внутри них абсолютно ровными, если и украшая их, то только трилистником (палаццо Фоскари) или ободком (Дворец дожей), – едва заметными, не более того, так что четырехлистник, прорезанный в них, словно впечатанный, издалека выделялся отчетливо всеми своими четырьмя черными листками. Никаким растительным переплетениям, вообще никакому орнаменту не позволялось нарушать чистоту формы: выступ обычно был очень четким, хотя в палаццо Фоскари он слегка усеченный, а во Дворце дожей – снабжен простым шаром. Стекло в окнах, там, где оно присутствовало, было, как мы уже видели, заглублено на толщину каменной стены, чтобы никакие отблески света не мешали воспринимать глубину. Отступления от этой формы, такие как в Каза д’Оро, палаццо Пизани и некоторые другие, только подчеркивают величие обычного решения.
XXII. Таковы основные особенности, которые прослеживаются в трактовке масс света и тени в работах более ранних архитекторов: градация света и резкость тени, их ширина – это качества, которых добивались, которые выявляли всеми возможными способами до тех пор, пока, как мы уже говорили, линия не заменила массу как средство членения поверхности. Немало было сказано об этом в отношении узора, но необходимо сказать несколько слов и в отношении профилей.
В более ранние времена они во многих случаях состояли из чередующихся квадратных и цилиндрических стволов, по-разному соединенных и соотнесенных по размеру. Там, где встречаются вогнутые желоба, как в прекрасном западном портале в Байё, они помещаются между цилиндрическими стволами, которые они выставляют на свет. Во всех случаях взгляд прикован к широким поверхностям, и обычно к немногим. Со временем внешний край цилиндрического ствола стал понижаться, образуя полосу света на нем и уничтожая градацию. Сперва едва заметная (как на перемежающихся стволах северного портала в Руане), она растет и проступает, как оленьи рога, сначала резкая по краям; но, выдаваясь, она приобретает усеченность и становится выступающей полоской на передней части чередования стволов. Все еще ничем не сдерживаемая, она продолжает выдаваться вперед, пока пучок стволов сам не становится приложением к ней и не теряется наконец, превращаясь в небольшое возвышение по ее краям, тогда как вогнутые желоба все это время углублялись и увеличивались позади, пока весь профиль не превратился из последовательности квадратных и цилиндрических масс в ряд вогнутостей с тонкими кромками, на которых (заметим, представляющих собой четкие линии света) исключительно и останавливается взгляд. В то время как это происходило, подобное, хотя и не такое полное, изменение затронуло и сам растительный орнамент. На рис. I, 2 (а) я показал два примера из трансептов в Руане. Надо отметить, что взгляд полностью здесь обращен на форму листьев и на три ягодки в углу, созданные эффектом света точно так же, как трилистник создавался эффектом тени. Эти рельефы почти распластаны на камне и очень неглубоко, хотя и резко, вырезаны. Со временем внимание архитектора, ранее прикованное к листьям, перешло на стебли. Последние удлинялись (b, из декора южной двери в Сен-Ло), и, чтобы лучше их выявить, позади вырезалась глубокая вогнутость, чтобы выделить их линиями света. Этот прием доводился до постоянно нарастающей сложности, пока в трансепте в Бове мы не видим разветвления и пламенеющий узор, состоящий из веток, полностью лишенных листьев. Это, однако, частный, хотя и весьма характерный, каприз; обычно листья не изгонялись, и в рельефах вокруг тех же самых дверей они прекрасно включены, но они сами передавались линиями – их острые изломы и прожилки резко подчеркивались, их края загибались и заострялись, и между ними всегда оставлялись большие промежутки, заполненные переплетающимися стеблями (c, пример из собора в Кодебеке). Трилистник, образованный светом, состоящий из ягод или желудей, хотя его значение и уменьшилось, так и не исчез до самого последнего периода готики.
XXIII. Интересно было бы проследить влияние этого упадочного принципа во всех его многочисленных проявлениях, но мы уже достаточно на нем остановились, чтобы сделать практическое заключение – заключение, тысячу раз прочувствованное и повторенное на опыте и в рекомендациях каждого умелого художника, но все же еще недостаточно часто повторяемое, недостаточно прочувствованное. О композиции и о выдумке, на мой взгляд, немало написано напрасно, ибо композиции и выдумке нельзя научить, и поэтому я не говорю здесь об этих высших основах Силы в архитектуре. Не говорю я здесь и об особой сдержанности в подражании природным формам, которая составляет достоинство даже самых расточительных работ в великие периоды. Об этой сдержанности я скажу несколько слов в следующей главе, а сейчас я хочу подчеркнуть вывод, настолько практически полезный, насколько и ясный, состоящий в том, что сравнительная величественность здания зависит более от веса и силы его масс, чем от любого другого его свойства: массы всего – объема, света, тени, цвета, не только общего количества каждого из них, но и от ширины; не рассеянного света, не рассеянной тени, не расчлененного веса, но сплошного камня, прямого солнечного света, беззвездной тени. У меня не хватило бы времени, если бы я попытался проследить всю область распространения этого принципа, но не существует ни одной детали, какой бы малозначительной она ни была, которой он не смог бы придать силу. Деревянные заполнения просветов колокольни, необходимые, чтобы защитить их от дождя, в Англии обычно делятся на ряд ровных планок, подобных жалюзи, которые, конечно, столь же бросаются в глаза своей отчетливостью, сколь и удручают педантичностью исполнения, более того, они увеличивают количество горизонтальных линий, которые полностью противоречат архитектурным линиям всей постройки. За границей такая проблема решается с помощью навесов, каждый из которых выступает из окна наружу стойками своих профилей; вместо уродливого ряда линеек пространство таким образом членится на отдельные большие массы тени, а над ними расположены более светлые скаты крыши, изогнутые или переходящие в различные прелестные выступы и изгибы и покрытые живописными пятнами мха или лишайника. Нередко это выглядит более привлекательно, чем сама каменная кладка, а все потому, что тут все решают свет, тень и простота. Не важно, насколько грубы и обыкновенны те средства, которыми достигается вес и тень, – скат ли это крыши или выступающее крыльцо, балкон, пустая ниша, массивная горгулья, суровый парапет – пусть будет только тень и простота, а все остальное приложится. Начиная проектировать, смотрите на будущее здание совиным глазом и только потом присматривайтесь к нему орлиным оком.

VIII. Окно Ка’Фоскари, Венеция
XXIV. Я сожалею, что мне приходится настойчиво повторять мысль, которая кажется столь простой; на бумаге она выглядит банальностью и общим местом, но, надеюсь, читатель меня извинит, ибо на практике это что угодно, но только не общепринятый и понятный принцип, и забвение его тем более непростительно, что из всех великих подлинных законов искусства следовать ему проще всего. Легкость исполнения его требований невозможно переоценить. Едва ли во всем нашем королевстве найдется хотя бы пять человек, которые могли бы спроектировать, и двадцать, которые могли бы вырезать из камня растительный орнамент, украшающий окна церкви Орсанмикеле; но найдется немало сельских священников, которые могли бы придумать и расположить темные проемы этих окон, а любой сельский каменщик мог бы их вытесать. Положите несколько листьев клевера или ясменника на белый лист бумаги, и, постепенно поворачивая их, вы получите фигуры, которые, если их отчетливо прорезать в глыбе мрамора, будут стоить всех оконных узоров, которые за целый день начертит архитектор. В мире найдется немного людей, которые могли бы спроектировать греческую капитель, но мало кто не смог бы расположить листья подобно тому, как они выступают из византийской глыбы; немногие смогли бы спроектировать палладианский фасад или фронтон, характерный для пламенеющей готики, но многие смогли бы построить такую квадратную массу, как дворец Строцци. И я не знаю, как так получается (если только наши английские сердца не состоят в основном из дуба, а не из камня и не испытывают больше сыновнего почтения к желудям, чем к Альпам), но все, что мы создаем, либо мало и незначительно, либо, хуже того, – слабо, никуда не годно и ничтожно. Это касается не только современной архитектуры – с тринадцатого века мы строим не лучше мышей и лягушек (что не относится только к нашим замкам). Какой контраст между жалкими ячейками письменного стола вместо порталов западного фасада в Солсбери, похожими на леток пчелиного улья или осиного гнезда, и парящими арками и увенчанными по-королевски порталами в Аббевиле, Руане и Реймсе, или высеченными из скал столбами в Шартре, или темными сводами арок и витыми колоннами Вероны! Что можно сказать о нашей отечественной архитектуре? Как невзрачно, как скованно, как бедно, как удручающе в своей мелочной аккуратности все лучшее, что нами построено! Насколько ниже всякой критики и презрения все самое обычное! Какое странное впечатление уродства и фальши, дотошного педантизма, въедливой аккуратности и мелочной мизантропии возникает у нас, когда, покинув даже непритязательные улицы Пикардии, мы возвращаемся в городишки Кента! Пока архитектура самых обычных наших домов не будет улучшена, пока мы не наделим ее масштабностью и смелостью, пока мы не придадим окнам наших домов глубину, а стенам – толщину, я не знаю, как мы можем осуждать наших архитекторов за слабость в более важных работах; их взгляд приучен к узости и незначительности; так можем ли мы ожидать, что они в одно мгновение постигнут и создадут широту и цельность? Им не надо жить в наших городах, в унылых стенах которых навеки замуровано человеческое воображение, как некогда замуровывали нарушивших обет монахинь. Архитектору вообще не следует все время жить в городе, как и художнику. Отправьте его в наши горы, и пусть он изучает там, как природа понимает контрфорс, а как – купол. В прежней силе архитектуры было нечто затворническое, а не обывательское. Самые прекрасные здания, упомянутые мною, поднялись как оплоты в борьбе, которую вела piazza, возвысившись над яростью простонародья; и боже упаси, чтобы в Англии подобные причины когда-либо заставили нас положить камень побольше или балку помощнее! Но у нас есть другие источники силы в образах наших скалистых побережий и суровых гор – силы более чистой и не менее спокойной, чем сила затворнического духа, которая когда-то построила белые стены монастырей среди альпийских сосен и возвела стройные башни из скал Норманнского моря, придала порталу храма глубину и мрак пещеры Илии в горе Хореб и воздвигла в густонаселенных городах суровые каменные громады, устремленные к небу и спорящие с полетом птиц.
Глава IV
Светоч Красоты
I. В начале предыдущей главы утверждалось, что ценность архитектуры обусловливается двумя ярко выраженными признаками: первый – влияние, оказанное на нее человеческой волей; второй – запечатленный в ней образ некоего творения природы. Я пытался показать, в какой мере величие архитектуры определяется сродством последней с человеческой жизнью, полной борьбы и страдания (сродством, постигаемым в сокровенной тайне формы столь же ясно, как в меланхолических тонах музыки). Теперь я хочу рассмотреть тот счастливейший элемент ее совершенства, состоящий в величественной передаче образов Прекрасного, которая происходит преимущественно из видимых форм органической природы.
В данном случае представляется нецелесообразным входить в какие-либо изыскания относительно существенных причин, порождающих у человека впечатление прекрасного. Свои мысли по означенному вопросу я частично выразил в предыдущей работе и надеюсь развить впоследствии. Но поскольку все изыскания подобного рода основываются единственно на общепринятом понимании слова «прекрасное» и поскольку в них предполагается, что мнение людей на сей счет единодушно и достигается инстинктивно, в своем исследовании я стану исходить из этой посылки и, назвав прекрасным только то, что мне позволят признать таковым без всяких возражений, попытаюсь коротко рассмотреть, каким образом элемент прекрасного лучше привить к архитектурному проекту, каковы чистейшие источники, из коих он происходит, и каких ошибок следует избегать в стремлении к нему.
II. Может показаться, будто я несколько опрометчиво ограничил элементы прекрасного в архитектуре сугубо подражательными формами. Я ни в коем случае не утверждаю, что любое счастливое сочетание линий прямо подсказано неким творением природы, но полагаю, что все прекрасные архитектурные очертания являются стилизацией самых обычных форм, представленных во внешнем мире; что стремление к богатству ассоциаций надобно соразмерять со стремлением точнее передать и яснее увидеть сходство с творением природы, взятым за образец; и что с определенного момента, причем наступающего очень скоро, человек не в состоянии продвинуться в деле создания прекрасного без прямого подражания естественным формам материального мира. Так, в дорическом храме триглиф и карниз ничего не имитируют, разве только геометрическую резьбу по дереву. Никто не назовет эти элементы прекрасными. Они воздействуют на нас суровостью и простотой линий. Каннелюры колонны, которые, по моему твердому убеждению, в Древней Греции символизировали кору дерева, изначально подражательны и слабо напоминают многие виды растительных организмов с желобчатой структурой. В них тотчас чувствуется красота, но низшего порядка. Декоративный элемент как таковой искался в естественных формах органической жизни, главным образом человеческой. С другой стороны, капитель дорического ордера не имитирует никакие творения природы, но вся ее красота определяется четкой линией четвертного валика – естественной кривой, встречающейся в растительном и животном мире чрезвычайно часто. Ионическая капитель (хоть и представляющая, на мой взгляд, архитектурное изобретение весьма низкой пробы) всей своей красотой обязана спиральной линии – вероятно, самой распространенной из всех линий, характерных для низших форм жизни и среды обитания оных. Дальнейшее развитие капители не могло обойтись без прямой имитации листа аканта.
С другой стороны, романская арка прекрасна как абстрактная линия. Такой тип линии мы видим постоянно – в куполе небес и черте горизонта. Цилиндрическая колонна всегда красива, ибо при сотворении каждого дерева Бог придал стволу форму, приятную для человеческого взора. Стрельчатая арка прекрасна, ибо являет собой доведенную до совершенства форму каждого зеленого листочка, трепещущего на летнем ветерке, а очертания других наиболее удачных арок прямо заимствованы у тройчатых листьев лугового клевера или у лепестков звездообразных цветков. Дальше фантазия человеческая не могла продвинуться ни на шаг без откровенного подражания творениям природы. Теперь человеку требовалось собрать сами цветы и вплести оные в капители колонн.
III. Итак, мне бы хотелось настойчиво подчеркнуть тот факт (в подтверждение которого, несомненно, каждый читатель найдет в памяти множество других примеров), что все самые прекрасные формы и мысли прямо заимствованы у природы; ибо я готов, с вашего позволения, предположить также ровно обратное, а именно: все формы, не заимствованные у природы, неизбежно являются безобразными. Я знаю, это смелое предположение, но поскольку сейчас у меня нет времени на поиски ответа на вопрос о существе красоты формы (столь сложную задачу невозможно решить между делом), мне остается лишь обратиться к этому единственному второстепенному показателю, или критерию, прекрасного, в истинности которого я надеюсь убедить читателя своими последующими рассуждениями. Я говорю «второстепенному показателю», ибо формы прекрасны не потому, что они скопированы с творений природы; просто человек не в силах постичь прекрасное без помощи последней. Полагаю, читатель позволит мне высказать подобное предположение хотя бы на основании приведенных выше примеров; степень доверия, таким образом проявленного к моему суждению, неминуемо заставит читателя принять проистекающие из него выводы; но, если мне действительно позволят свободно развить свою мысль, я получу возможность решить один существенно важный вопрос, а именно: что является и не является архитектурным украшением? Ибо в архитектуре есть множество так называемых декоративных элементов – привычных, а посему вызывающих у людей одобрение или, во всяком случае, не вызывающих ни малейшего желания обрушиться на них с критикой, – которые я без малейших колебаний назову не украшениями вовсе, а уродствами, стоимость которых на самом деле следует оговаривать в заключенном с архитектором контракте в пункте «на обезображивание». Мне кажется, мы смотрим на подобные уродства с дикарским самодовольством, с каким индеец смотрит на свое грубо размалеванное краской тело (ибо все народы в известной степени и в известном смысле остаются дикарями). Полагаю, я в состоянии доказать, что многие элементы архитектурного убранства являются безобразными, и надеюсь впоследствии сделать это вполне убедительно; но сейчас в защиту такого своего мнения я могу сослаться единственно лишь на тот факт, что они неестественны, каковому обстоятельству читатель вправе придать то значение, какое сочтет нужным. Однако использование подобного довода сопряжено с определенной проблемой, поскольку здесь автор непременно должен заявить, крайне самонадеянно, что естественным является только то, что он видел своими глазами или считает реально существующим. Я не стану делать этого, ибо, по моему мнению, нет такой формы или сочетания форм, подобия которых нельзя было бы найти во Вселенной. Но мне кажется, я имею все основания признать наиболее естественными формы, встречающиеся наиболее часто; или, скорее, сказать, что на всех формах, представленных в знакомом мире и привычных человеческому глазу, Бог запечатлел такие черты прекрасного, любовь к которым заложил в природе человека; а на примере отдельных особо причудливых форм Он показал, что использование в них других, менее сложных элементов является не необходимым требованием, не необходимостью, а частью гармоничного процесса сотворения мира. Полагаю, таким образом мы можем установить прямую связь между Распространенностью и Красотой: зная, что некая вещь встречается часто, мы можем заключить, что она прекрасна, и можем предположить, что самые распространенные вещи суть самые прекрасные. Я имею в виду, конечно же, зримые формы, ибо формы элементов, сокрытых в земных недрах или во внутренностях животных организмов, Творец явно не предназначал для частого созерцания человеческим взором. Опять-таки, под распространенностью я разумею ту ограниченную и обособленную распространенность, которая характерна для всех совершенных творений, а не просто множественность: так, роза – широко распространенный цветок, но все же роз на кусте всегда значительно меньше, чем листьев. То есть все самое совершенное Природа являет в ограниченном количестве, но щедро расточает менее прекрасное; однако я называю цветок вещью столь же распространенной, как лист, ибо где находится один, там обычно находится и другой (каждый в своем, для него определенном количестве).
IV. Итак, первым так называемым декоративным элементом, который я хочу подвергнуть критике, является греческий прямоугольный орнамент (кажется, ныне известный под итальянским названием «guilloche»), имеющий прямое отношение к делу. Кристаллы висмута, образующиеся в результате постепенного охлаждения расплавленного металла, чрезвычайно на него похожи. Но кристаллы висмута не только крайне редко встречаются в повседневной жизни, но и имеют форму, насколько мне известно, необычную для минералов; причем не просто единственную в своем роде, а еще и достижимую лишь в результате некоего искусственного процесса, ибо сам металл в чистом виде в природе не существует. Я не помню никакого другого вещества или структуры, которые имели бы сходство с этим греческим орнаментом; а я уверен, что в моей памяти хранятся представления почти обо всех структурах, присущих видимым формам обычных и знакомых вещей. Таким образом, на сем основании я утверждаю, что упомянутый орнамент некрасив или, в буквальном смысле слова, безобразен, отличен от всего, чем человеку свойственно восхищаться. И мне кажется, что вообще не украшенный резьбой киматий или плинфа бесконечно предпочтительнее покрытого отвратительным узором из пересекающихся ломаных линий – если только последний не используется (вероятно, порой вполне успешно) с целью оттенить некий по-настоящему красивый орнамент или же не изображается чрезвычайно мелко, как на некоторых монетах, в каковом случае резкость линий не очень бросается в глаза.

IX. Узор кампанилы Джотто во Флоренции
V. Зачастую рядом с этим ужасным орнаментом в древнегреческой архитектуре мы видим другой, прекрасный в той же мере, в какой отвратителен первый: резной орнамент из остроконечных листьев и яиц, совершенство которого по сей день остается непревзойденным. Почему же так? Да просто потому, что основной элемент здесь не только повторяет хорошо знакомую нам форму птичьего яйца, лежащего в уютном мягком гнезде, но и встречается практически во всех округлых камушках, с тихим шорохом перекатывающихся под прибойными волнами на бескрайнем берегу моря. И сей орнамент продуман с особым тщанием, ибо в поистине замечательных памятниках архитектуры элемент, отражающий свет, выполнен не просто в форме иоников, как на фризе Эрехтейона. Он слегка уплощен в верхней части, с чувством меры и тонким пониманием преимущества нового изгиба поверхности, которые невозможно переоценить, и получает именно такую форму неправильного уплощенного овала, какую в девяти случаях из десяти мы увидим у обкатанного волнами камушка, наобум поднятого на берегу. Уберите это уплощение – и резной орнамент сразу же утратит изящество и своеобразие. Его замечательная особенность состоит также в том, что сей округлый элемент, расположенный в углублении, имеет цветной прообраз в природе: перо фазана-аргуса, глазок на котором своей окраской и очертаниями напоминает изображение овального округлого предмета, помещенного в выемку.
VI. Из проведенного нами анализа со всей очевидностью следует вывод, что все поистине прекрасные формы должны иметь криволинейные очертания, поскольку едва ли в природе существует хоть одна распространенная форма, в которой возможно отыскать прямую линию. Тем не менее Архитектура, неизбежно имеющая дело с прямыми линиями, в одних случаях необходимыми для осуществления ее целей, в других – для выражения ее величия, зачастую вынуждена довольствоваться той мерой красоты, какая совместима с подобными первичными формами; и мы можем предположить, что наивысшая степень красоты достигается, когда сочетания прямых линий сообразуются с некой наиболее распространенной прямолинейной структурой естественного происхождения, какую только можно найти, хотя для того, чтобы вообще отыскать в природе прямые линии, нам придется совершить насилие над ее завершенным творением, разрушить обработанные ее резцом поверхности горных пород и исследовать процесс кристаллизации минералов в земных недрах.









































