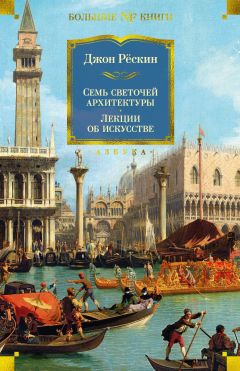
Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
VIII. В нашем нынешнем состоянии сомнения и невежества почти невозможно себе представить внезапное озарение разума и фантазии, быстро растущее ощущение силы, легкости и, в истинном смысле, Свободы, которые немедленно вызвало бы такое благотворное влияние во всех областях искусства; освобожденный от колебаний и трудностей, связанных со свободой выбора, составляющей половину всех неудобств в мире, освобожденный от сопутствующей необходимости изучения всех прошлых, настоящих и даже возможных стилей, и получивший возможность путем концентрации индивидуальной энергии и участия в совместном действии коллективной энергии проникать в самые сокровенные тайны принятого стиля, архитектор обнаружил бы, что все его представления расширились, его практические познания упрочились и стали готовы к применению, а его воображение стало веселым и сильным, как дитя, которое беззаботно играет в цветущем саду, обнесенном оградой, и, дрожа, цепенеет, если его оставить одного в бескрайнем поле. И то, какими разнообразными и блестящими были бы результаты не только во всех областях искусства, но и во всем, что связано с национальным процветанием и достоинством, так же трудно себе представить, как и невозможно предвидеть, но первым, хотя, возможно, и не самым заметным результатом было бы возросшее ощущение нашей общности, скрепляющее патриотическим чувством любую нацию, гордое и радостное признание нашей связи друг с другом, взаимопонимания и желания во всех отношениях сознательно повиноваться каждому закону, действующему в интересах общества, а также барьер, самый лучший, какой можно придумать, для бессмысленного соперничества между высшим и средним классом в украшении домов, мебели и учреждений; и даже сдерживание многого из того, что является напрасным и нездоровым в разногласиях религиозных партий по вопросу о материальной составляющей церковного обряда. Это, как я уже сказал, были бы первые следствия. Десятикратная экономия, которая вышла бы благодаря простоте практики; домашние удобства, не нарушаемые капризами и ошибками архитекторов, не знающих возможностей стилей, которые они используют; симметрия и красота гармонизированных улиц и общественных зданий – это еще не самые значительные результаты, которых можно было бы достичь, и все их просто невозможно было бы перечислить и предугадать. Я позволил себе слишком долго предаваться умозрительным рассуждениям о потребностях, которые, вероятно, являются не самыми насущными и серьезными, и о чувствах, которые мы только чудом могли бы возродить. Могут подумать, будто я не осознаю трудность того, что предлагаю, или незначительность данного предмета по сравнению со многими, которые затрагивают наши интересы и требуют рассмотрения в наше бурное время. Но пусть другие судят о трудности и важности. Я ограничился простой формулировкой того, что нам необходимо прежде всего почувствовать и сделать, если мы хотим, чтобы у нас была архитектура; но кто знает, может быть, нам вовсе и не нужна архитектура. Есть немало людей, которые чувствуют то же, что и я, и которые многим жертвуют ради достижения той же цели; и мне жаль видеть, что их усилия и жертвы напрасны. Я назвал поэтому единственный путь, который ведет к этой цели, не рискуя даже высказать мнение по поводу желательности ее достижения для всех. У меня есть мнение, и то, с каким жаром я говорил, могло ему повредить, но я высказывал его без всякой самонадеянности. Я слишком хорошо знаю, насколько преувеличенное значение может приобретать преследуемая человеком цель в его глазах, чтобы я верил своему собственному впечатлению о важности цели, касающейся Архитектуры; и все-таки, думаю, я не вполне ошибаюсь, рассматривая ее как, по крайней мере, полезную в отношении национальной занятости. В этой мысли меня утверждает то, что я вижу, проезжая по государствам Европы. Весь ужас, отчаяние и недовольство, от которых страдают нации, могут объясняться как разными второстепенными причинами, главная суть которых состоит в том, что Господь осуществляет через них Свою волю, так и простейшей причиной, состоящей в том, что людям нечем заняться. Я не глух к страданиям рабочих и не отрицаю более очевидные и существенные причины их выступлений, как то: безрассудная подлость руководителей мятежа, отсутствие элементарных нравственных принципов у высших классов и простого мужества и честности у глав правительств. Но сами по себе эти причины в конечном счете прослеживаются вплоть до более глубокой и простой: за безрассудством демагога, безнравственностью среднего класса, изнеженностью и вероломством знати стоит в этих странах самая распространенная причина, создающая весьма благоприятную почву для бедствий в стране, – праздность. В наших благих порывах, день ото дня все более многочисленных и все более тщетных, мы слишком много думаем об усовершенствовании человеческой природы с помощью советов и наставлений. Но мало кто к ним прислушивается: самое главное, что необходимо людям, – это занятие. Я не имею в виду работу ради куска хлеба – я имею в виду работу в смысле приложения духовных сил – либо для тех, кто не сталкивается с необходимостью труда ради куска хлеба, либо для тех, кто не хочет работать, хотя и имеет такую необходимость. В наше время у европейских наций существует большое количество нерастраченной энергии, которую надо направить на развитие ремесел; существует множество праздных полуджентльменов, которым следовало бы стать сапожниками и плотниками; но поскольку они не станут ими, так как могут позволить себе это, дело филантропов позаботиться о том, чтобы они имели какое-то другое занятие вместо причинения беспокойства правительству. Бесполезно говорить им, что они глупцы и что в конце концов они только сделают несчастными и себя, и других: если им больше нечего делать, они будут безобразничать; и человек, который не хочет трудиться и для которого не существует способов умственного наслаждения, точно так же станет орудием зла, как если бы он целиком продался Сатане. Я достаточно хорошо знаю ежедневную жизнь образованных молодых людей во Франции и в Италии, чтобы отметить, как оно того и заслуживает, величайшую национальную нестабильность и деградацию; и, хотя наша торговля и такая наша национальная черта, как трудолюбие, в основном охраняют нас от подобного паралича, будет небесполезно задаться вопросом, так ли хорошо продуманы основные имеющиеся у нас и развиваемые нами формы занятости, чтобы они могли способствовать самосовершенствованию и развитию личности.
Мы только что потратили, например, сто пятьдесят миллионов, заплатив их людям, которые вырыли землю в одном месте и перенесли ее в другое. Мы сформировали большую категорию людей – железнодорожных землекопов, особо безрассудную, неуправляемую и опасную. Кроме того, мы оказали поддержку (давайте судить о пользе этого как можно более беспристрастно) некоторому числу литейщиков в трудоустройстве для выполнения вредной и тяжелой работы; мы широко развиваем (и это, по крайней мере, хорошо) техническую изобретательность; и в результате мы достигли возможности быстро передвигаться с одного места на другое. Между тем мы не прониклись интересом или вниманием к процессам, которые мы запустили в действие, но остались при своих обычных тщеславных сиюминутных заботах. Предположим, с другой стороны, что мы употребили бы те же суммы на строительство прекрасных домов и церквей. Мы поддержали бы то же число людей, дав им возможность не катать тачки, а заниматься чисто технической, если не умственной, деятельностью; и наиболее способные из них были бы особенно довольны своей работой, позволяющей им развивать свою фантазию и направлять ее на создание красоты, что в соединении с занятиями естественными науками в настоящее время доставляет удовольствие многим наиболее способным рабочим, занятым на производстве. Технической изобретательности, думаю, требуется столько же, чтобы построить собор, сколько и чтобы прорыть туннель или изобрести паровоз; а добавив к развитию науки художественную составляющую, мы добились бы гораздо бóльших результатов. При этом мы и сами становились бы счастливее и мудрее, занимаясь интересной работой; а когда все было бы сделано, вместо весьма сомнительного удовольствия от возможности быстрого передвижения с места на место мы имели бы явное преимущество от возросшего удовольствия пребывания у себя дома.
IX. Существует много других менее обширных, но более постоянных статей расходов, столь же спорных в части их полезности; и мы, наверное, просто не привыкли спрашивать себя, приступая к созданию каких-либо предметов роскоши или повседневного обихода, насколько тот род занятий, который предоставляется участнику его производства, будет для него полезным и подходящим. Недостаточно дать людям надежные средства к существованию; мы должны думать и об образе жизни, который порождают наши запросы, и стремиться, насколько возможно, сделать все свои потребности таковыми, чтобы удовлетворение их не только кормило, но и воспитывало неимущих. Гораздо лучше давать работу, которая возвышает человека, чем давать образование человеку, чтобы он был выше своей работы. Можно поспорить, например, насколько привычка к роскоши, которая вызывает необходимость подготовки большого числа прислуги, является полезной статьей расходов; и более того, насколько занятия, которые вызывают тенденцию к увеличению числа жокеев и грумов, являются филантропической формой деятельности. А теперь подумайте о великом числе людей, чья жизнь уходит у цивилизованных наций на огранку драгоценных камней. Для этого необходимы огромная сноровка, терпение и мастерство, которые просто сгорают в блеске тиары, не доставляя при этом, насколько я вижу, особого удовольствия тем, кто ее носит или ею владеет, в качестве хоть какой-то компенсации за потраченные годы жизни и душевные силы, которые требуются от работника. Его труд был бы гораздо более плодотворным и интересным, если бы ему поручили резьбу по камню; он мог бы развивать те свои способности, которым нет применения в его нынешнем занятии; и я уверен, что большинство женщин, в конце концов, предпочли бы видеть построенную для них церковь или пожертвовать деньги на украшение собора, вместо того чтобы чваниться ношением некоторого количества алмазов на лбу.
X. Я мог бы долго говорить на эту тему, но мои представления, возможно, разумнее будет оставить при себе. Я удовлетворюсь тем, что, наконец, повторю мысль, постоянно появлявшуюся на предыдущих страницах и состоящую в том, что, каков бы ни был ранг или важность, приписываемые или придаваемые раскрытой на этих страницах теме, есть, видимо, некая ценность в аналогиях, возникающих при определяемом ею взгляде на нас самих, и некая поучительность в частом неизбежном обращении при ее раскрытии к великим законам, в смысле и в сфере которых все люди – Строители, которые постоянно кладут один за другим либо сноп, либо камень, возводя здание общего дела.
Пока я это писал, я не раз останавливался и часто сдерживал ход своих рассуждений, чтобы они не стали докучными, ибо меня не покидает мысль, что скоро вся Архитектура может оказаться напрасной, кроме той, которая построена не руками. Есть что-то зловещее в свете, который позволяет нам оглядываться с пренебрежением на века, среди чьих прекрасных остатков мы бродим. Горькую улыбку вызывает у меня всеобщее ликование по поводу новых достижений мировой науки и энергии всемирного созидания, словно мы опять находимся у истоков времен. На горизонте рассвет и грозовые сполохи, над землей вставало Солнце, когда Лот входил в Цоар.
Камни Венеции
1
Каменоломни
С тех пор как утвердилось владычество человека над океаном, на его песках были воздвигнуты три престола, достоинством превосходившие все остальные: Тирский, Венецианский и Английский. От первой из этих великих держав остается лишь память, от второй – руины, третья же, унаследовавшая величие своих предшественниц, если и забудет их пример, то, возможно, благодаря более горделивому возвышению придет к менее плачевному концу.
Возвышение, грех и наказание Тира были записаны для нас, пожалуй, в самых трогательных словах, когда-либо произнесенных пророками Израиля против чужих городов. Но мы читаем их словно дивную песнь – и не внемлем суровости их предостережения, ибо самая бездна падения Тира ослепила нас, затмив его реальность, и, любуясь белизной скал, теснящихся между небом и морем, мы забываем, что когда-то здесь было как «в Эдеме, саду Божьем».
Преемница Тира, равная ему по совершенству красоты, хотя и уступающая по долговечности господства, по сей день продолжает услаждать наш взор, предоставляя нам быть свидетелями заключительного периода ее упадка; призрак на морских песках – столь хрупкий, столь мирный и до такой степени лишенный всего, кроме очарования, что, глядя на его смутное отражение в зеркале лагуны, впору усомниться, где сам Город, а где его Тень.
Я бы хотел попытаться очертить контуры этого образа, прежде чем он канет в вечность, и по мере возможности запротоколировать предостережение, изрекаемое, как мне думается, каждой из стремительно накатывающих волн, погребальными колоколами бьющихся о Камни Венеции.
Трудно переоценить значение тех уроков, что можно извлечь из добросовестного изучения истории этого странного и могущественного города, – истории, которая, невзирая на труды бесчисленных летописцев, сохраняет туманные и спорные очертания, сокрытая завесой светлых и темных полос, подобно отдаленной кромке омывающего город океана, где прибой и песчаная отмель сливаются с небом. Исследование, которое нам предстоит предпринять, едва ли сделает ее очертания более четкими, но результаты его в какой-то мере изменят их вид, и, коль скоро это исследование хоть как-то на нее опирается, оно представляет интерес гораздо более высокого порядка, нежели обычные архитектурные изыскания. Для начала я, пожалуй, позволю себе в нескольких словах помочь широкому читателю сформировать более ясное представление о значимости каждого из имеющихся отражений венецианского характера в венецианском искусстве и о широте интересов, охватываемых подлинной историей Венеции, нежели то впечатление, что могло сложиться у него по тем сведениям, каковые он, вероятно, по крупицам собирал из расхожих легенд о ее загадочности и великолепии.
Венеция обычно воспринимается как олигархия, но олигархией она была менее половины периода своего существования, да и то включая эпоху упадка. И здесь возникает один из главных вопросов, требующих серьезного исследования: обязан ли этот упадок хоть как-то изменению формы ее правления, или же он всецело, что более вероятно, обязан общим изменениям в характере тех людей, которые это правление осуществляли?
Венецианское государство просуществовало тринадцать столетий и семьдесят шесть лет: от первого установления консульского правления на острове Риальто до того момента, когда генерал-аншеф французской армии Италии объявил Венецианскую республику делом прошлым. Два столетия и семьдесят шесть лет из них протекли при символическом подчинении городам старой Венеции, в частности Падуе, и при ажитированной форме демократии, когда исполнительная власть возлагалась на трибунов, избиравшихся населением главных островов по одному человеку от каждого. На протяжении шести столетий, ознаменованных неуклонным ростом могущества Венеции, формой ее правления оставалась выборная монархия, причем король, или дож, обладал – во всяком случае, в первое время – такой же независимой властью, как и любой другой европейский монарх, но эта власть постепенно подвергалась ограничению и чуть ли не с каждым днем утрачивала привилегии, укрепляясь в то же самое время в своем призрачно-немощном великолепии. Последний период аристократического правления под эгидой короля длился пять столетий, в течение которых Венеция пожинала плоды своего былого могущества, пожирала их – и исторгала.
Пусть же читатель уяснит, что существование Венецианского государства четко разделяется на два периода: первый продолжался девять столетий, второй – пять; границу между ними символизирует так называемое Serrare del Consiglio, иначе говоря, полное и окончательное обособление знати от общины и установление ее господства, не исключавшего, однако, влияния народа, с одной стороны, и авторитета дожа – с другой.[35]35
Закрытие Совета (ит.).
[Закрыть]
Таким образом, в первый, девятисотлетний, период перед нами разыгрывается интереснейший спектакль о том, как народ осуществляет прорыв от анархии к порядку и власти, предоставляя затем управлять собой, как правило, самому достойному и благородному человеку из своей среды, называемому дожем или вождем, вкупе с аристократией, которая постепенно и неуклонно формировалась вокруг него и из которой, а потом и которой он избирался, – аристократией, обязанной своим происхождением случайной многочисленности, влиятельности и богатству некоторых семейств, бежавших из старой Венеции, и постепенно сложившейся, благодаря ее сплоченности и героизму, в отдельное сословие.
Этот первый период включает в себя расцвет Венеции, ее величайшие достижения, а также обстоятельства, определившие ее характер и положение среди европейских держав; и на его протяжении мы, как и следовало ожидать, встречаем имена всех ее героических правителей: Пьетро Орсеоло, Ордалафо Фальера, Доменико Микиели, Себастьяно Дзиани и Энрико Дандоло.
Второй период открывают сто двадцать лет, самых богатых событиями в становлении Венеции, – лет главной борьбы ее жизни; лет, запятнанных самым темным ее преступлением – убийством Каррары; лет, потревоженных самым опасным ее внутренним мятежом – заговором Фальера; лет, отягощенных самой фатальной из ее войн – Хиосской; лет, осиянных славой двух самых благородных ее граждан (ибо в этот период героизм монархов уступает место героизму граждан) – Витторе Пизани и Карло Дзено.
Я отсчитываю начало падения Венеции со дня смерти Карло Дзено, последовавшей 8 мая 1418 года, а видимое начало – со смерти второго из наиблагороднейших и мудрейших ее сыновей – дожа Томазо Мочениго, скончавшегося пятью годами позже. Наступила эпоха царствования Фоскари, омраченная чумой и войной – войной, в которой было осуществлено крупное приобретение территорий, обязанное как тонкой и удачливой политике в Ломбардии, так и знаменательному своей непоправимостью бесчестью, подкрепленному в сражениях на реке По в Кремоне и на болотах Караваджо. В 1454 году Венеция первой из христианских держав покорилась туркам; в том же году была учреждена государственная инквизиция, после чего ее правление принимает вероломный и загадочный характер, каковым оно обычно и воспринимается. В 1477 году великое турецкое нашествие принесло террор на берега лагуны, а в 1508-м образование Камбрейской лиги ознаменовало период, обычно определяемый как начало упадка венецианского могущества, однако коммерческое процветание Венеции на исходе XV столетия затмевает от историков прежнее свидетельство ослабления ее внутренней стабильности.
И здесь мы видим явное совпадение между установлением аристократическо-олигархической власти и упадком благосостояния государства. Но в этом и заключается тот самый спорный вопрос, и он, как мне кажется, ни в коей мере не определен ни одним из историков или же определен всеми ими в соответствии с их личными предубеждениями. Вопрос этот троякий: во-первых, не была ли олигархия, установленная усилиями личных амбиций, причиной – в ее последующей деятельности – падения Венеции; или (во-вторых) не явилось ли установление олигархии само по себе не причиной, а знаком и свидетельством ослабления национальной мощи; или (наконец) не была ли история Венеции написана, как я склонен полагать, почти без всякого упоминания и об устройстве Сената, и о прерогативах дожа? Это история народа, живущего в необычайном согласии с самим собой и ведущего свое происхождение от римлян, давно закаленных в невзгодах и верных своему принципу жить достойно – или умереть; в течение тысячи лет они боролись за жизнь, в течение трех веков они призывали смерть. Борьба их была вознаграждена, и зов их был услышан.
На всем протяжении становления Венеции ее победы и, в разные периоды, ее безопасность покупались ценой личного героизма, и человек, который прославлял или спасал ее, мог быть и королем (чаще всего), и аристократом, и гражданином. Ни для него, ни для нее это не имело значения: реальный вопрос заключается не столько в том, какое имя он носил или какими полномочиями обладал, сколько в том, как был воспитан, как становился хозяином самому себе и слугой своей стране, насколько был терпим к невзгодам и нетерпим к бесчестью и какова была истинная причина изменения, происшедшего с тех времен, когда Венеция могла находить спасителей среди тех, кого сама же бросала в тюрьмы, и до того, как голоса ее собственных сыновей приказали ей подписать договор со Смертью.
На этом побочном вопросе я бы хотел заострить внимание читателя, дабы он держал его в памяти на протяжении всех наших дальнейших исследований. Он придаст удвоенный интерес каждой детали, и интерес этот не окажется бесплодным, ибо доказательство, которое я смогу вывести из венецианского искусства, будет и часто встречаемым, и неопровержимым. Это доказательство того, что упадок политического процветания Венеции в точности совпадал с упадком общегосударственной и личной религии.
Я сказал «общегосударственной и личной», ибо – и это второй пункт, который я бы рекомендовал читателю не упускать из виду, – самым любопытным явлением во всей венецианской истории является живучесть религии в частной жизни и ее отмирание в национальной политике. На фоне воодушевления, рыцарства или фанатизма других европейских держав Венеция от начала до конца стоит, как живая статуя в маске: ее холодность непроницаема, настороженность просыпается в ней лишь при задевании тайной пружины. Этой пружиной были ее коммерческие интересы – единственный мотив и всех ее важных политических актов, и постоянства национальной вражды. Она могла бы простить оскорбление своей чести, но никак не соперничество в торговле; славу своих побед она исчисляла по их денежному выражению, справедливость же оных оценивала по их легкости. Молва об успехе живет, мотивы же предпринятых усилий забываются; и поверхностный исследователь истории Венеции, возможно, будет удивлен, если ему напомнить, что поход, который возглавил благороднейший из ее правителей и результаты которого изрядно прибавили ей военной славы, был именно тем походом, в котором, пока вся Европа вокруг опустошалась огнем религиозного рвения, Венеция первым делом просчитала самую высокую цену, которую могла взыскать из своего пиетета перед поставляемым ею вооружением, а затем, ради расширения личных интересов, моментально отступилась от своих взглядов и предала свою религию, направив орудия крестоносцев против христианского государя.
И тем не менее среди разгула национальной преступности нас снова и снова будут поражать проявления самого благородного личного чувства. Слезы Дандоло были пролиты отнюдь не из лицемерия, однако они не затмили от него важность завоевания Зары. Склонность приписывать религии непосредственное влияние на все свои поступки и повседневные дела примечательна для каждого знатного венецианца эпохи процветания государства; и не надо далеко ходить за примерами, когда личные чувства граждан распространяются на сферу политики и даже становятся направляющей силой ее курса там, где весы целесообразности сбалансированы весьма сомнительно. Я искренне полагаю, что будет разочарован тот исследователь, который попытается выявить какие-то более действенные причины принятия курса папы Александра III против Барбароссы, нежели пиетет, порожденный характером их просителя, и благородная гордость, вызванная надменной наглостью императора. Но душа Венеции являет себя лишь в самых дерзновенных из ее консулов; ее мирской, суетный дух всегда отвоевывает господство, если она успевает просчитать вероятность выгоды или когда выгода настолько очевидна, что ее не нужно просчитывать; и полное подчинение личного пиетета национальной политике не только примечательно во всей едва ли не бесконечной череде предательств и тираний, благодаря которым расширялась и укреплялась ее империя, но и ознаменовано каждым единичным обстоятельством в ее градостроительстве. Я не знаю ни одного европей[36]36
Имеются в виду переговоры, состоявшиеся в 1177 году между папой Александром III и императором Фридрихом Барбароссой, в результате которых император признал главенство папы. (Здесь и далее – примечания переводчика.)
[Закрыть]ского города, главной достопримечательностью которого не был бы собор. В Венеции же главной церковью была капелла при дворце ее правителя и называлась Chiesa Ducale. Патриаршая церковь, небольшая по размеру и скудная по убранству, расположилась на самом дальнем от центра островке венецианской группы, и ее название, равно как и местоположение, по всей вероятности, неизвестно большей части путешественников, торопливо снующих по [37]37
Церковь Дожей (ит.).
[Закрыть]городу. Не менее достоин замечания и тот факт, что два самых главных после церкви Дожей храма Венеции обязаны своими размерами и великолепием не государственным усилиям, а энергии францисканских и доминиканских монахов, поддерживаемых обширной организацией их влиятельных общин на италийском материке и поощряемых самым благочестивым и, пожалуй, самым мудрым среди современников правителем Венеции Томазо Мочениго, чей прах покоится ныне под крышей одного из тех самых храмов и чья жизнь не подвергнута осмеянию образами Добродетелей, которые тосканский скульптор разместил вокруг его гробницы.
Итак, есть два любопытных и серьезных аспекта, в свете которых нам надлежит рассматривать почти каждое событие в скачкообразной истории Риво-Альто. Мы обнаруживаем, с одной стороны, устойчивую и насыщенную атмосферу индивидуальной религиозности, характеризующей жизнь граждан Венеции в период ее [38]38
Rivo alto – «высокий берег» Большого канала, где были первые поселения Венецианской лагуны, впоследствии ставший городским районом Риальто.
[Закрыть]величия; обнаруживаем, что этот религиозный дух оказывает на них влияние во всех житейских заботах и непредвиденных обстоятельствах, придавая особое достоинство даже ведению торговых сделок, и исповедуется ими с простотой веры, вполне способной посрамить светского человека наших дней за то сомнение, с которым он допускает (даже если так оно и есть), что религиозное чувство оказывает какое-то влияние на второстепенные линии его поведения. И, как естественное следствие всего этого, мы обнаруживаем здоровую ясность ума и недюжинную силу воли, проявляющиеся во всех поступках венецианцев, а также склонность к героизму, который не изменяет им даже в тех случаях, когда побудительный мотив поступка перестает быть похвальным. Преизбыток этого духа полностью соответствует процветанию Венеции, а недостаток – ее упадку, и соответствует с точностью и полнотой, продемонстрировать которые будет одной из побочных задач настоящего эссе. А пока что все просто и естественно. Но резкое ослабление этого религиозного кредо, когда оно, вероятно, возникает для влияния на национальное поведение, соответствующее, что самое поразительное, некоторым характерным особенностям нашей нынешней английской законодательной власти, является – как с нравственной, так и с политической точки зрения – предметом самого пытливого интереса и запутанной сложности; однако рамки моего настоящего исследования не позволят мне его осветить, и для его рассмотрения я должен буду удовольствоваться подачей материала в том свете, который я, возможно, смогу пролить на скрытые свойства венецианского характера.
Остается отметить еще одно обстоятельство, касающееся венецианского правительства: это беспримерное единство составляющих его семейств, единство, далекое от истинного и полного и все же вызывающее восхищение на фоне свирепой наследственной вражды, чуть ли не ежедневных переворотов, бурных смен правящих партий и семейств, сведениями о которых заполнены анналы других италийских государств. То, что соперничество зачастую прекращалось ударом кинжала, а борьба до победного конца велась под прикрытием закона, и не могло быть неожиданностью там, где свирепый италийский дух подвергался столь суровому обузданию: благо к зависти не всегда примешивалось не обусловленное законом властолюбие, и на каждый пример, когда личная страсть искала удовлетворения в государственной власти, найдется тысяча таких, когда ею жертвовали ради государственных интересов. Венеция вполне вправе призвать нас с почтением принять во внимание тот факт, что среди множества башен, по сей день возвышающихся на ее островах, словно лес деревьев с обрубленными сучьями, есть лишь одна, чьи служебные помещения были предназначены не для творения молитвы, да и та дозорная; если дворцы других италийских городов возводились как мрачные крепости, окаймленные зигзагообразными зубчатыми стенами с бойницами для метания копий и стрел, то пески Венеции никогда не проседали под тяжестью боевых башен, а ее крытые террасы украшала арабская резьба с золотыми сферами, подвешенными к лепесткам лилий.
Вот, как мне кажется, главные общеинтересные моменты в судьбе и характере венецианцев. Далее я попытаюсь дать читателю некоторое представление о том, как свидетельские показания искусства опираются на эти вопросы, а также о том, в каком аспекте предстают сами искусства при рассмотрении их в истинной связи с историей государства.
Получаем свидетельские показания Живописи.
Не следует забывать, что я отношу начало падения Венеции к 1418 году.
Итак, Джон Беллини родился в 1423 году, а Тициан – в 1480-м.[39]39
Имеется в виду Джованни Беллини, прозванный Джамбеллино.
[Закрыть] Джон Беллини и его брат Джентиле, который был двумя годами старше, замыкают ряд религиозных художников Венеции. Но самый торжественный дух религиозности оживляет их работы до конца. Религиозность полностью отсутствует в работах Тициана: в них нет ни малейшего намека ни на религиозный характер, ни на религиозные пристрастия как самого художника, так и тех, для кого он творил. Его наиболее значительные священные сюжеты служат лишь темами для выражения живописной риторики – композиции и цвета. Его второстепенные работы, как правило, подчинены целям портретирования. Мадонна в церкви Фрари – это обычная «кукла», введенная в качестве связующего звена между портретами окружающих ее многочисленных членов семейства Пезаро.
Причина не только в том, что Джон Беллини был человеком религиозным, а Тициан – нет. И Тициан, и Беллини – истинные представители современных им живописных школ, и разница в их художественном чутье – следствие не столько различия в свойственных им врожденных чертах характеров, сколько в их начальном образовании: Беллини воспитывался в вере, Тициан – в формализме. Между датами их рождения исчезла живая религия Венеции.









































