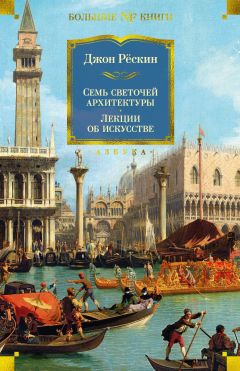
Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
XV. Далее, обнаруживается различие не только между формой и тенью как предметом выбора, но и между существенными и несущественными формами. Одно из основных различий между школами драматизма и живописности в скульптуре обнаруживается в трактовке волос. Скульптор времен Перикла рассматривал их как некоторое дополнение[33]33
На эту подчиненность впервые указал мне мой друг, чьи глубокие познания в древнегреческом искусстве, надеюсь, смогут приносить пользу не только его близким знакомым, – мистер С. Ньютон из Британского музея.
[Закрыть], обозначаемое немногими грубыми линиями и во всем подчиненное главенству черт лица и внешности в целом. Нет необходимости доказывать, насколько этот подход был обоснован художественными, а не национальными причинами. Достаточно вспомнить занятие лакедемонян, о котором сообщает персидский лазутчик вечером перед битвой при Фермопилах, или обратиться к любому описанию идеальной формы у Гомера, чтобы увидеть, насколько чисто скульптурным было правило, которое исключало подробное описание волос, чтобы, в силу неизбежных недостатков материала, оно не отвлекало от восприятия всего образа в целом. И наоборот, в более поздней скульптуре мастер уделяет волосам едва ли не самое пристальное внимание; и тогда как черты лица и конечности прорабатываются грубовато и неловко, волосы завиваются и сплетаются, будучи вырезаны четкими, отбрасывающими тени выступами, и расположены тщательно разработанными орнаментальными массами; в линиях и светотени этих масс действительно есть величественность, но по отношению к изображаемому персонажу она является паразитической, и, следовательно, это живописность. В таком же смысле мы можем понимать этот термин и применительно к современной анималистической живописи, которую всегда отличало особое внимание к цвету, блеску и фактуре шкуры; применим он не только в искусстве. И самих животных – если их величественность зависит от мускульных форм или движений, то есть необходимых и главных свойств, как, возможно, более всех у лошади, – мы не называем живописными, поскольку, в силу такого своего устройства, они вызывают у нас ассоциации с чисто историческими темами. Но если величественность животных обусловлена какими-то дополнениями: будь то грива и борода – как у льва, рога – как у оленя, косматая шкура – как в приведенном выше примере с мулом, пестрая окраска – как у зебры, или оперенье – они становятся живописными, являясь таковыми и в искусстве точно в меру присутствия этих дополнений. Такие качества часто могут становиться весьма существенными; часто в них есть высшая степень величия, как у леопарда или вепря, и в руках у такого художника, как Тинторетто или Рубенс, такие атрибуты становятся средством углубления сильнейшего и самого неотразимого впечатления. Но нацеленность мышления на живописность всегда ясно прослеживается в поверхностности, внимании к менее существенному, в результате чего возникает величественность, отличная от самого изображаемого персонажа; величественность, которая в определенном смысле присуща всем предметам на свете и одинакова в своих составляющих, будь то складки и изгибы косматой шкуры, расселины и выступы скал, ветви раскидистого дерева, склоны холма, чередование светлого и темного в окраске раковины, оперение птицы или облако.
XVI. Но вернемся к нашей непосредственной теме: оказывается, в архитектуре привнесенная и случайная красота чаще всего несовместима с сохранением подлинного характера произведения, и поэтому живописность ищут в развалинах и видят ее в упадке и разрушении. Тогда как, даже если ее искать там, она состоит из простой величественности расселин, или изломов, или пятен, или растительности, которые уподобляют архитектуру работе природы и распространяют на нее те цвета и формы, которые повсюду радуют глаз человека в природе. Если это сделано вопреки истинным свойствам архитектуры, ей присуща живописность, и архитектор, который заботится об изображении стебля хмеля, а не о стволе колонны, совершает нечто еще более своевольное, чем неудачный выбор скульптора, для которого волосы важнее лица. Но, обладая свойством совпадать с неотъемлемым характером произведения, живописность или посторонняя величественность в архитектуре имеет более благородную функцию, чем где бы то ни было, – ту, которая является результатом возраста, ведь именно в нем, как уже говорилось, состоит величайшая красота здания; а потому внешние признаки этой красоты, имеющие силу воздействия бóльшую, чем те, которые сознательно создаются для привлекательности, могут считаться стоящими в ряду качеств настолько существенных, на мой взгляд, что, думаю, здание не может считаться достигшим расцвета, пока не простоит четыре или пять веков, и весь выбор и расположение деталей надо сообразовывать с тем, как они будут выглядеть по прошествии этого времени, так что не должно быть ни одной детали, которая могла бы претерпеть существенное повреждение либо от атмосферных влияний, либо от механического воздействия, которые неизбежны в течение столь длительного времени.
XVII. Я не ставлю своей задачей рассматривать те вопросы, которые влечет за собой следование этому принципу. Они представляют слишком большой интерес и слишком сложны, чтобы даже затрагивать их в рамках настоящих рассуждений, но в целом надо заметить, что те стили архитектуры, которые живописны в смысле, раскрытом выше в отношении скульптуры, то есть чей декор зависит скорее от расположения тени, чем от чистоты контура, не проигрывают, а обычно выигрывают в силе воздействия, когда их детали частично стерты временем; поэтому такие стили, и прежде всего французская готика, должны всегда использоваться, если применяемый материал подвержен разрушению, как кирпич или мягкий известняк; а стили, в любой степени зависящие от чистоты линии, такие как итальянская готика, должны в основном использоваться в твердых и не поддающихся разрушению материалах – граните, серпентините или кристаллическом мраморе. Не может быть никаких сомнений в том, что на формирование обоих этих стилей повлияли свойства материалов, имевшихся в распоряжении у строителей; и этим же должен определяться и наш выбор стиля.
XVIII. В мои планы сейчас не входит подробно рассматривать суть второй нашей обязанности, о которой упоминалось выше, – сохранения имеющейся у нас архитектуры, но несколько слов об этом надо сказать, ибо это особенно важно в наше время. Ни широкая публика, ни те, кто охраняет общественные памятники архитектуры, не понимают подлинного значения слова «реставрация». Оно означает величайший урон, который может быть нанесен зданию, – разрушение, при котором уже не собрать остатков; разрушение, которое сопровождается неверным описанием уничтоженного. Не будем обманывать самих себя в этом важном вопросе; невозможно, как невозможно воскресить мертвого, реставрировать какое бы то ни было здание, являвшееся когда-то великим и прекрасным. То, на чем я настаивал выше – жизнь целого, тот дух, который передается только рукой и взглядом мастера, невозможно восстановить. Другой дух может быть придан другим временем, и тогда это будет новое здание; но дух ушедшего мастера не может быть вызван и не может водить чужой рукой и мыслями. А что касается просто точного копирования, то оно явно невозможно. Как можно скопировать поверхности, стершиеся на полдюйма? Вся законченность состояла в этом утраченном полудюйме; если вы попытаетесь его восстановить, вы будете делать это по догадке; если вы создадите копию того, что осталось, допуская возможность ее точности (а какое старание, внимание и затраты могут ее обеспечить?), то чем новая работа будет лучше того, что осталось от старой? Ведь в старой работе ощущалась некая жизнь, некое таинственное присутствие того, чем она была раньше, и того, что она утратила; некая притягательность в легких следах, оставленных дождем и солнцем. Ничего этого не может быть в резкой четкости новой резьбы. Посмотрите на животных, которых я изобразил на рис. XIV как пример живой работы, и представьте себе, что стерлись насечки, выявляющие чешую и шерсть или морщины на лбу, и кто их может восстановить? Первый шаг в реставрации (я видел это не раз – на примере Баптистерия в Пизе, Каза д’Оро в Венеции, собора в Лизьё) состоит в том, чтобы разбить старую работу на куски; второй – обычно в том, чтобы воздвигнуть самую дешевую и низкопробную имитацию с целью выдать ее за подлинник, но имитация во всех случаях, как бы старательно и кропотливо она ни создавалась, все-таки остается холодным муляжом тех частей, которые могут быть скопированы с дополнениями, основанными на предположении; и на моей памяти есть только один пример, а именно Дворец правосудия в Руане, в котором хотя бы эта предельно возможная степень точности достигнута или хотя бы предпринята попытка этого достичь.
XIX. Так что не будем говорить о реставрации. Это Ложь от начала до конца. Можно создать муляж здания, как можно создать муляж мертвого тела, и муляж здания может включать в себя остов старых стен, как муляж тела может включать в себя скелет, неизвестно и не важно для чего; а старое здание будет уничтожено, причем более основательно и безжалостно, чем если бы оно ушло в песок или в трясину: от разрушенной Ниневии уцелело больше, чем от заново отстроенного Милана. Но, скажут мне, реставрация может быть необходима! Допустим. Так взгляните в лицо этой необходимости и признайте ее истинный смысл. Это необходимость уничтожения. Принимайте ее как должное. Сносите здания, сваливайте их обломки подальше, используйте в качестве балласта или для укрепления новых фундаментов, если угодно, но делайте это честно и не возводите на месте уничтоженных зданий Ложь. Только осознайте эту необходимость прежде, чем она наступит, и вы сможете ее предотвратить. Современный принцип (осуществлению которого, думаю, по крайней мере во Франции, неизменно способствуют каменщики, чтобы обеспечить себе работу; например, аббатство Сент-Уэн было снесено городскими властями, чтобы дать работу некоторому числу праздношатающихся) состоит в том, чтобы сначала позволить зданию обветшать, а затем его реставрировать. Заботьтесь о зданиях должным образом, и их не надо будет реставрировать. Вовремя положите несколько листов свинца на крышу, вовремя выметайте сухие листья и палки из водостоков, и вы спасете от разрушения и крышу, и стены. Следите за старым зданием с неусыпной заботой; защищайте его всеми средствами и любой ценой от всякого воздействия и разрушения; относитесь к его камням как к бриллиантам в короне; охраняйте его как ворота осажденного города; если оно теряет прочность, скрепляйте его железом; если наклоняется, поддерживайте его с помощью деревянных опор; не бойтесь, что эти приспособления испортят вид, – лучше костыль, чем утрата конечности; и делайте это с душой, с благоговением и неустанно, и многие поколения еще родятся и проживут жизнь под сенью этого дома. Когда-нибудь придет его последний час, но пусть он придет открыто, явно и пусть никакое бесчестье или подмена не лишат его права на похоронный обряд в нашей памяти.
XX. О более бессмысленном или невежественном разрушении говорить бесполезно; мои слова не дойдут до тех, кто его совершает, и все же, услышат меня или нет, я не могу не констатировать простую истину: сохранять ли нам здания прошлых времен или нет – это не вопрос целесообразности или вкуса. Мы не имеем права к ним притрагиваться. Они принадлежат не нам. Они принадлежат отчасти тем, кто их построил, а отчасти всем поколениям человечества, которые придут вслед за нами. Те, кого уже нет, по-прежнему имеют свои права на созданное ими, и то, ради чего они трудились, радость достижения цели, выражение религиозного чувства – все то, что они стремились увековечить в этих зданиях, – мы не имеем права уничтожать. То, что построено нами, мы вольны снести; но право на то, во что другие люди вложили свои силы, средства и жизнь, остается за ними и после их смерти; право на пользование тем, что они оставили после себя, принадлежит вовсе не нам одним. Оно принадлежит всем их потомкам. И в будущем для миллионов людей может стать невосполнимой потерей то, что мы, считаясь только с собственными интересами, снесли здания, которые сочли ненужными. Эту обиду, этот урон мы не имеем права им нанести. Разве собор в Авранше принадлежал только толпе, которая его уничтожила, а не в такой же степени и нам, печально блуждающим вокруг его фундамента? И ни одно здание не принадлежит той толпе, которая его оскверняет. А толпа есть толпа; и не важно, в ослеплении ярости или руководствуясь глупыми соображениями, в несметном числе или сидя в комитетах, но люди, которые что-то беспричинно уничтожают, представляют собой толпу, а Архитектура всегда уничтожается беспричинно. Прекрасное здание всегда стóит земли, на которой оно стоит, и будет стоить до тех пор, пока Центральная Африка и Америка не станут столь же густонаселенными, как Мидлсекс; и ни одна причина не может быть достаточно серьезной для его сноса. А если когда-нибудь и сможет, то не сейчас, когда место и прошлого, и будущего слишком узурпировано в наших умах беспокойным и вызывающим неудовлетворенность настоящим. Сама тишина природы постепенно уходит от нас; тысячи людей, которые когда-то в своих неизбежно долгих путешествиях находились под влиянием тихого неба и дремлющих полей, более действенным, чем осознанным или признаваемым, теперь даже там не могут избавиться от непрестанной лихорадки нынешней жизни; и по железным венам, которые пронизывают все тело нашей страны, пульсируя и клокоча, устремляется неистовое напряжение, с каждым днем все горячее и быстрее. Все жизненные силы стекаются по этим пульсирующим артериям в большие города; через сельскую местность переправляются, как через зеленое море, по узким мостам, и нас отбрасывает все более густыми толпами к воротам городов. И единственная сила, способная там как-то заменить влияние лесов и полей, – это сила старой Архитектуры. Не расставайтесь с ней ради правильной формы площади, огороженной аллеи, благоустройства улицы или расширения набережной. Не это гордость города. Оставьте все это толпе; но помните, что среди этой суеты непременно найдутся люди, которые захотят ходить по другим улицам и видеть вокруг другие, знакомые виды: как тот, кто часто сидел, любуясь очертаниями Флорентийского собора на фоне закатного неба, или как его гостеприимные хозяева, которым не надоело ежедневно созерцать из окон дворцов надгробные камни своих предков там, где сходятся сумрачные улицы Вероны.
Глава VII
Светоч Повиновения
I. На предшествующих страницах я стремился показать, как каждая форма благородной архитектуры является своего рода воплощением государственной Власти, Жизни, Истории и Веры народа. Один-два раза при этом я назвал принцип, которому я бы теперь отвел определенное место среди тех, которые направляют это воплощение, – последнее место, которое он занимает не столько в силу собственной скромности, сколько как венчающий достоинство всех остальных; я имею в виду тот принцип, которому Власть обязана своей стабильностью, Жизнь – своим счастьем, Вера – своим влиянием, а Творение – своей длительностью. Я имею в виду Повиновение.
И не самым малозначительным среди источников более серьезного удовлетворения, полученного мной от исследования темы, которая, как поначалу казалось, лишь слегка затрагивает важные интересы человечества, является то, что состояние материального совершенствования, которое она в заключение требует от меня рассмотреть, странным образом доказывает, как ложно понимание, как безумны поиски той предательской иллюзии, которую люди называют Свободой, поистине самой ненадежной из всех иллюзий, ибо самый слабый луч разума мог бы, несомненно, показать нам, что не только ее достижение, но и ее существование невозможно. Нет такого явления в мире. И быть не может. Звезды не имеют свободы; земля не имеет ее; и море не имеет; а мы, люди, имеем пародию на нее и видимость ее только как тяжелейшее наказание.
В одном из самых замечательных стихотворений[34]34
Кольридж. «Ода Франции»:
Вы, облака, чей вознесенный ходОстановить не властен человек!Вы, волны моря, чей свободный бегЛишь вечные законы признает!И вы, леса, чаруемые пеньемПолночных птиц среди угрюмых скалИли ветвей могучим мановеньемИз ветра создающие хорал, —Где, как любимый сын Творца,Во тьме безвестной для ловца,Как часто, вслед мечте священной,Я лунный путь свивал в траве густой,Величьем звуков вдохновенныйИ диких образов суровой красотой!Морские волны! Мощные леса!Вы, облака, средь голубых пустынь!И ты, о солнце! Вы, о небеса!Великий сонм от века вольных сил!Вы знаете, как трепетно я чтил,Как я превыше всех земных святыньБожественную Вольность возносил. Прекрасные стихи, но неверная мысль. Противоположная – у Джорджа Герберта:
Пускай разврат твердит тебе иль барство:Долой, мол, правила! Не в них ли суть?Как строить Дом без них иль Государство?Заставь-ка солнце ты с пути свернутьИль месяц! Заодно мы с небесами,Когда по правилам живем мы сами.Не обуздав себя, ты вечно слаб —Любых воздействий беззащитный раб;О, сколько связей в жизни человека —Всему назначен свой закон от века.Себя, чтоб выжить, в рамки заключи,Господь тебе лишь даровал ключи!«Крыльцо» из сборника «Храм»
[Закрыть], которое по своей образности и музыкальности принадлежит новой школе нашей литературы, автор ищет в неодушевленной природе выражение Свободы, которую он когда-то любил, а потом увидел среди людей в ее истинном неприглядном свете. Но как странна и ошибочна его интерпретация! Ибо в одной замечательной строке он опровергает самонадеянность всех остальных и признает присутствие подчинения, явно не менее безусловного, оттого что вечного! Да и могло ли быть иначе? Ибо если и есть какой-то принцип, шире других представленный в каждом проявлении или более неумолимо запечатленный в каждой мельчайшей частице зримого творения, то этот принцип – не Свобода, а Закон.
II. Энтузиаст Свободы ответит, что под Свободой он подразумевает Закон Свободы. Но зачем тогда использовать одно-единственное и к тому же неверно истолкованное слово? Если под свободой вы понимаете наказание страстей, дисциплину ума, подчинение воли; если вы имеете в виду страх причинения и стыд совершения зла; если вы подразумеваете уважение ко всем, кто облечен властью, и заботу обо всех, кто находится в подчинении; почитание добра, великодушие ко злу, сочувствие слабым; если вы имеете в виду чистоту намерений, умеренность в наслаждениях и упорство в трудах; если вы, одним словом, понимаете Установления Англиканской церкви как совершенную Свободу, то почему вы называете это тем же словом, которым любитель роскоши обозначает свои привилегии, а вертопрах – разнообразие; которым жулик обозначает грабеж, глупец – равноправие, которым гордец называет анархию, а злодей – насилие? Используйте другое слово, но самое лучшее и точное – это Повиновение. Повиновение действительно основано на некоторой свободе, иначе оно стало бы простым подчинением, но эта свобода допускается только для того, чтобы повиновение стало более совершенным; и, таким образом, тогда как мера самостоятельности необходима для того, чтобы проявить индивидуальные силы вещей, красота, привлекательность и совершенство их всех состоят в Обуздании этих сил. Сравните реку, которая вышла из берегов, и реку, которая ограничена берегами; облака, рассеянные по всему небу, и облака, выстроенные ветром в ряды и боевые порядки. И то, что полное и неослабное обуздание никогда не бывает благообразным, так это не потому, что оно само по себе является злом, а только потому, что, когда оно слишком велико, оно пересиливает природу обуздываемого и таким образом противодействует другим законам, существующим в самой природе. И равновесие, в котором заключается красота творения, находится между законами жизни, пребывающей в состоянии управляемости, и законами управляющими, которым все подчинено; а приостановка или нарушение любого рода закона, или буквально беспорядок, равносилен или равнозначен болезни; тогда как возрастание благородства и красоты обычно связано скорее с обузданием (или действием высшего закона), чем с характером предмета (или его внутренним законом). Самое благородное слово в списке общественных добродетелей – «Верность», а самое отрадное, усвоенное людьми на диких пастбищах, – «Паства».
III. И это еще не все, ибо мы можем заметить, что мера величия вещей в масштабе бытия точно соответствует полноте их повиновения законам, которые установлены над ними. Пылинка не так беспрекословно, не так безусловно подчиняется закону тяготения, как Солнце или Луна; и океан с его приливами и отливами подчиняется воздействию, которое не признают озеро или море. Точно так же и в оценке любого действия людей или рода занятий, пожалуй, нет лучшего критерия, чем вопрос «Строги ли его законы?». Ибо строгость этих законов наверняка будет соразмерна числу тех, чей труд при этом концентрируется или чьи интересы затрагиваются.
И потому эта строгость должна быть особой в отношении того искусства, чьи создания являются наиболее масштабными и наиболее распространенными; которое требует для своего осуществления совместных усилий многих людей, а для своего совершенствования – упорства многих поколений. И, учитывая также то, что мы уже неоднократно говорили об Архитектуре – ее постоянное влияние на впечатления повседневной жизни и ее реализм, в отличие от двух родственных ей искусств, которые в сравнении с ней не более чем описание событий и грез, – мы можем ожидать, что обнаружим зависимость ее состояния и действия от более строгих законов, чем у них; что те вольности, которые допустимы в творениях отдельной личности, на Архитектуру не распространяются и что в установлении своих отношений со всем, что имеет важное значение для человека, она выдвигает своим собственным величественным подчинением некоторое подобие того, от чего зависит общественное счастье и сила человека. Мы могли бы поэтому, и не опираясь на опыт, заключить, что Архитектура никогда не могла бы процветать, не будучи подчиненной национальному закону, столь строгому и повелительному, как те законы, которые регулируют религию, политику и общественные отношения, и даже более требовательному, чем они, ибо закон этот, с одной стороны, способен на большее принуждение, распространяясь на более пассивный объект, а с другой – требует большего повиновения как чистейший тип не одного из многих законов, но совместного действия их всех. Но в этом вопросе опыт говорит громче, чем здравый смысл. Если и есть какое-то условие, которое в развитии архитектуры видно отчетливо и повсеместно; если среди противоречивых свидетельств успеха, сопровождающего противоположные примеры свойств и обстоятельств, можно безоговорочно сделать какое-то заключение, то оно таково: архитектура любой страны велика только тогда, когда ее законы настолько общеприняты и упрочены, как и национальный язык, и когда местные различия в стиле – не более чем диалекты того же языка. Все прочие условия являются сомнительными: нации всегда одинаково добивались успехов в архитектуре как во времена бедности, так и процветания, во времена войны и мира, во времена варварства и утонченности, при самых либеральных и самых деспотических правительствах; но единственное условие всегда оставалось постоянным, единственное требование прослеживается везде и во все времена: чтобы произведение принадлежало к определенной школе, чтобы личный каприз не заслонял и существенно не менял традиционные типы и приемы и чтобы от хижины до дворца, от капеллы до базилики, от садовой ограды до крепостной стены каждый элемент и деталь национальной архитектуры были столь же общераспространенными и общепринятыми, как национальный язык или монеты, ходящие в обращении.
IV. И дня не проходит без того, чтобы мы не слышали, как наших английских архитекторов призывают быть оригинальными и выдумать новый стиль – призывать к этому почти столь же разумно и необходимо, как просить человека, который всю жизнь ходит в лохмотьях, не спасающих его от холода, выдумать новый фасон пальто. Дайте сначала ему само пальто, а уж потом пусть он думает о его покрое. Нам не нужен новый стиль в архитектуре. Кому нужен новый стиль в живописи или скульптуре? Но нам нужен какой-нибудь стиль. Если у нас есть свод законов, то совершенно неважно, хороши ли эти законы, старые они или новые, чужие или свои, римские или саксонские, норманнские или английские. Но чрезвычайно важно, чтобы у нас был свод законов любого рода и эти законы были приняты и обязательны от края до края нашего острова, а не то чтобы в Йорке руководствовались одним законом, а в Эксетере – другим. И точно так же не важно, старая или новая у нас архитектура, но крайне важно, есть ли у нас архитектура в истинном смысле этого слова или нет; то есть архитектура, чьи законы могут преподаваться в наших школах от Корнуолла до Нортумберленда, как мы преподаем английское правописание и английскую грамматику, а не та архитектура, которую надо выдумывать заново всякий раз, как мы строим очередной работный дом или церковно-приходскую школу. Мне кажется, для большинства архитекторов нашего времени характерно поразительное непонимание самой природы и смысла Оригинальности и всего, из чего она состоит. Оригинальность в речи не зависит от изобретения новых слов, а оригинальность в поэзии – от изобретения новых стихотворных размеров, так же как в живописи она не зависит от изобретения новых цветов или новых способов их использования. Музыкальные аккорды, сочетания цветов, основные принципы распределения масс в скульптуре давно определены, и, по всей вероятности, в них ничего нельзя добавить или изменить. А если и можно, то такие добавления и изменения скорее дело времени и множества людей, чем отдельных выдумщиков. У нас может быть один ван Эйк, который известен тем, что ввел новый стиль один раз за десять веков, но сам он увидел бы в своем нововведении случайность, а использование этого нововведения всецело зависело от общераспространенных потребностей или инстинктов того времени. Оригинальность – это нечто совсем иное. Талантливый художник возьмет любой стиль, существующий в обращении, стиль своего времени, и будет работать в этом стиле, и станет великим в нем, и все, что он создаст в этом стиле, будет так свежо, словно каждая мысль только что сошла с небес. Я не говорю, что этот художник не позволит себе вольностей с материалом или отступлений от правил; я не говорю, что эти вольности и фантазии не могут порой показаться странными. Но они будут целесообразны, естественны и ненадуманны, хотя иногда и удивительны; он не будет специально добиваться их как качеств, неотъемлемых от его собственного достоинства или независимости; и вольности эти будут подобны тем вольностям, которые великий оратор позволяет себе в языке, не пренебрегая его правилами ради внешнего эффекта, – неизбежные, непреднамеренные, блестящие следствия стремления выразить то, что язык не смог бы выразить без подобного нарушения. Бывают времена, когда, как я уже говорил, жизнь искусства проявляется в изменениях и отказе от старых ограничений – как это бывает в жизни насекомого; и есть много интересного в состоянии искусства, как и насекомого, в этот период, когда в силу его естественного развития и органических особенностей такие изменения вот-вот произойдут. И как беспокойная глупая гусеница, вместо того чтобы довольствоваться привычной жизнью гусеницы и питаться пищей гусеницы, стремится превратиться в куколку, и как несчастная куколка лежит ночью без сна и беспокойно свертывается в кокон, стремясь поскорее превратиться в бабочку, – так и искусство в определенные периоды, вместо того чтобы питаться и довольствоваться традициями, которых доныне ему было достаточно для существования и ориентировки, беспокоится и прилагает все усилия, чтобы вырваться из естественных ограничений своего привычного состояния и перейти в иное качество. И только высшим существам дано предвидеть и отчасти осознавать изменения, которые им предопределены, готовясь к ним заранее; и если, как это обычно бывает с предопределенными изменениями, они являются переходом в более высокое состояние, даже желая их и уповая на них, каждое существо, изменчивое или нет, остается на некоторое время удовлетворенным условиями своего существования, стараясь только приблизить начало желаемых изменений наилучшим исполнением обязанностей, для которых его нынешнее состояние и предназначается.
V. Поэтому ни оригинальность, ни изменения, как бы хороши они ни были при самой снисходительной и оптимистической их оценке, никогда не должны быть самоцелью и не могут быть плодотворными, если не выражают ничего, кроме просто борьбы или бунта против общепринятых законов. Нам не нужно ни то ни другое. Уже известные формы архитектуры достаточно хороши и для нас, и для кого бы то ни было еще; и у нас будет достаточно времени подумать об изменении этих форм к лучшему, если мы сначала сумеем воспользоваться тем, каковы они есть. И существуют вещи не только желательные для нас, но совершенно необходимые, без которых мы никогда не сможем обойтись, несмотря на все отчаянные усилия и яростную борьбу в мире и на все истинные таланты и твердую решимость в Англии: я имею в виду Повиновение, Единство, Сотрудничество и Порядок. И все наши школы архитектуры и комитеты, все наши академии и лекции, журналисты и эссеисты, все те жертвы, которые мы начинаем приносить, вся правда нашей английской природы, вся сила нашей английской воли и работа нашего английского интеллекта будут в этом вопросе так же бесполезны, как любые усилия и переживания во сне, если мы не согласимся подчинить архитектуру и все искусства, подобно другим вещам, английскому закону.
VI. Я говорю – архитектуру и все искусства, ибо верю, что архитектура должна быть началом искусств и они должны следовать за ней по времени и по порядку; и, думаю, процветание нашей живописи и скульптуры – в которых никто не будет отрицать присутствия жизни, хотя многие будут отрицать присутствие здорового духа, – зависит от процветания нашей архитектуры. Да, все искусства будут чахнуть, пока она не возобладает и будет чахнуть (и это я не думаю, а утверждаю так же уверенно, как я отстаивал бы во имя безопасности общества необходимость разумного и сильного законного правительства), а архитектура будет оставаться поверженной во прах, пока не будет решительно соблюдаться первый принцип здравого смысла и пока не будет принята и утверждена универсальная система формы и исполнения. Мне могут сказать, что это невозможно. Может быть, и так – боюсь, что так: возможность или невозможность этого вне моей власти; я просто сознаю и утверждаю необходимость этого. Если это невозможно, то невозможно английское искусство. Откажитесь от него немедленно. Вы напрасно расходуете на него время, средства и силы, вы потратите века и все деньги из казны и надорвете тысячи сердец за него, но все равно никогда не поднимете его выше простого дилетантизма. Забудьте о нем. Это опасное тщеславие, это ненасытное жерло, которое будет бесследно поглощать одного гения за другим. И такое будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем один-единственный первый решительный шаг. Мы не произведем искусство из фаянса или набивного ситца; мы не создадим искусство с помощью нашей философии; мы не найдем его в наших научных экспериментах и не выдумаем его с помощью наших фантазий; я даже не говорю, что мы можем построить его из кирпича и камня; но наш единственный шанс в них, и другого у нас нет, и этот шанс сводится к простой возможности получить согласие архитекторов и публики на выбор определенного стиля с тем, чтобы использовать его повсеместно.
VII. И прежде всего должны быть четко определены его принципы; в необходимости этого легко убедиться на примере необходимых способов обучения любой другой отрасли знания. Когда мы начинаем учить детей писать, мы заставляем их внимательно копировать и требуем от них абсолютной точности в воспроизведении букв; когда же они овладеют навыками правописания, мы не можем предотвратить неизбежных отклонений от образцов, на которые они идут в соответствии со своим ощущением, конкретными обстоятельствами или характером. Точно так же мальчик, которого начинают учить латыни, сначала должен в каждом выражении следовать образцам, а когда он в совершенстве овладеет языком, он может позволять себе вольности и осознает свое право делать это, не оглядываясь на образцы, и при этом пишет по-латыни лучше, чем делал это, когда заимствовал каждое отдельное выражение. Точно так же наша архитектура должна овладеть определенным стилем. Сначала нам надо решить, какие здания мы берем за образец; их конструктивные особенности и пропорции надо тщательнейшим образом изучить; затем должны быть классифицированы и каталогизированы различные формы и способы их украшения, как исследователь-германист классифицирует связи, выраженные предлогами; и, имея перед собой эти совершенные, бесспорные образцы, надо приступать к работе, не допуская отклонений даже в глубине выемки или ширине каймы. А затем, когда наше зрение привыкнет к грамматически правильным формам и расположению, а наши мысли будут хорошо знакомы со способами их осуществления, когда мы сможем свободно говорить на этом мертвом языке и использовать его для выражения любых идей, которые нам необходимо передать, так сказать, для достижения любых практических целей, тогда, и только тогда можно позволить себе вольности и индивидуальные особенности, вносящие изменения или дополнения в принятые формы, причем всегда – до определенного предела; в особенности декоративные элементы могли бы предоставить поле для разнообразной фантазии и обогатиться идеями либо оригинальными, либо заимствованными из других школ. И таким образом, по прошествии времени или в результате великого национального движения, могло бы получиться так, что возник новый стиль, подобно тому, как меняется язык; мы могли бы сначала говорить по-итальянски, а не по-латыни, или сначала говорить на новоанглийском языке вместо древнеанглийского, и это изменение не могло бы быть ни ускорено, ни предотвращено никакими решениями или пожеланиями. Единственное, чего мы в силах добиться и к чему обязаны стремиться, – так это единый стиль и такое понимание и применение его, какое позволило бы нам приспособить его черты к особому характеру каждого отдельного здания, большого или маленького, жилого, общественного или культового. Я сказал, что не важно, какой стиль принимать в смысле простора для оригинальности, которую позволит его развитие, однако это не так с точки зрения более существенных вопросов – легкости приспособления к основным задачам и готовности, с которой тот или иной стиль может быть воспринят широкой публикой. Выбор классицизма или готики, опять-таки используя последний термин в самом широком его смысле, может быть сомнительным, если он касается какого-то отдельного и значительного общественного здания. Но я никак не могу представить себе его сомнительным, если он касается современного использования в целом, – я не могу представить себе архитектора настолько безумного, чтобы создать проект, опошляющий греческую архитектуру. Точно так же бессмысленно сомневаться, надо ли нам принимать раннюю или позднюю, оригинальную или производную готику; если выбирать последнюю, то это была бы бессильная уродливая деградация, вроде нашего собственного стиля Тюдоров, или же стиль, чьи собственные правила грамматики было бы почти невозможно ограничить или упорядочить, наподобие французской пламенеющей готики. Нам одинаково неудобно усваивать стили как по сути своей незрелые, так и варварские, каким бы геркулесовым ни было их младенчество или величественным – их беззаконие, как в нашем собственном норманнском стиле или в романском стиле Ломбардии. Выбор лежал бы, думаю, между четырьмя стилями: 1) романский стиль Пизы; 2) ранняя готика Западной Италии, которую можно развивать настолько глубоко и быстро, насколько наше искусство позволит нам приспособиться к готике Джотто; 3) венецианская готика в ее чистейшем развитии; 4) ранний украшенный стиль английской готики. Самым естественным и, возможно, самым верным выбором был бы последний, надежно огражденный от опасности снова закоснеть и превратиться в перпендикулярный и, возможно, обогащенный некоторой примесью декоративных элементов из изысканной французской готики, откуда в этом случае следовало бы позаимствовать некоторые известные примеры, такие как северный портал собора в Руане или церковь Святого Урбана в Труа как совершенные образцы по части декора.









































