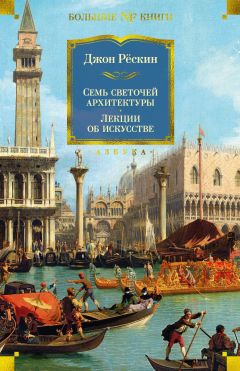
Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Живая религия, заметим, а не формальная. Внешне ритуал соблюдался так же строго, как и всегда: и дожа, и сенатора по-прежнему изображали коленопреклоненными перед Мадонной или св. Марком; исповедание веры делалось всеобщим посредством чистого золота венецианских цехинов. Но рассмотрим знаменитое полотно Тициана во Дворце дожей, на котором дож Антонио Гримани изображен коленопреклоненным перед Верой: здесь преподан любопытный урок. Фигура Веры являет собой вульгарный портрет одной из наименее грациозных натурщиц Тициана: Вера обрела плоть. Взгляд в первую очередь выхватывает помпезный блеск доспехов дожа. Душа Венеции заключена в ее оружии, а не в богопочитании.
Ум Тинторетто, несравнимо более глубокий и серьезный, нежели ум Тициана, накладывает торжественность собственного тона на все священные предметы, к которым он приближается, и порой забывается в религиозном рвении, но принцип трактовки у Тинторетто в общем и целом тот же, что и у Тициана: абсолютное подчинение религиозного сюжета декоративным и портретным целям.
Работы Веронезе и любого из последующих художников могут служить тысячекратным свидетельством того, что XV столетие лишило Венецию ее религиозной души.
Таковы свидетельские показания Живописи. Собрать свидетельства Архитектуры будет нашей задачей на протяжении многих последующих страниц; но здесь я должен дать общее представление о ее вершинах.
Филипп де Коммин, рассказывая о своем посещении Венеции, пишет:
«Меня усадили между этими двумя посланниками (ибо в Италии середина считается самым почетным местом) и провезли по большой улице, называемой Большим каналом, который был так велик, что по нему туда-сюда сновали галеры, да и у домов я приметил стоящие на привязи суда в четыре сотни бочек и выше. Право же, по моему разумению, это самая красивая улица в мире, она превосходно застроена и тянется из конца в конец через весь город. Здания на ней высоки и величественны, все из резного камня. Старые дома сплошь окрашены, остальные же, те, что построены за последние сто лет, имеют фасады из мрамора, доставленного из Истрии, за сотню миль отсюда, и украшены множеством огромных вставок из порфира и серпентина… Это самый великолепный город из всех, что мне довелось повидать, к тому же посланникам и чужестранцам здесь оказывают самое почетное гостеприимство, Республикой управляют наилучшим образом и преданно служат Господу – столь преданно, что, хотя и у венецианцев имеется немало изъянов, я все же искренне полагаю, что Господь помогает им, видя, какое благоговейное уважение питают они к церковному богослужению».
Приведенный фрагмент весьма интересен по двум причинам. Обратим внимание, во-первых, на впечатление Коммина от венецианской религии, коей формы, как я говорил, еще сохраняли в себе некоторое мерцание жизни и свидетельствовали о том, чтó на самом деле представляла собой жизнь в былые времена. Во-вторых, обратим внимание, какое впечатление произвело на Коммина различие между старыми дворцами и теми, что были «построены за последние сто лет» и «имеют фасады из мрамора, доставленного из Истрии, за сотню миль» от Венеции, да к тому же «украшены множеством огромных вставок из порфира и серпентина».
Французский посланник не случайно отметил это различие. В XV веке венецианская архитектура действительно претерпела определенные изменения – изменения в некоторой степени важные и для нас, людей нового времени: мы, англичане, обязаны этим изменениям нашим собором Св. Павла, а Европа в целом – полным распадом и вырождением ее архитектурных школ, так с тех пор и не возродившихся. Но чтобы читатель сумел это понять, ему необходимо получить хотя бы общее представление о связи венецианской архитектуры с архитектурой других европейских государств, начиная от самых ее истоков.
Вся европейская архитектура, плохая и хорошая, старая и новая, ведет свое происхождение из Греции через Рим, а украшается и совершенствуется под влиянием Востока. История архитектуры есть не что иное, как установление различных форм и направлений ее происхождения. Уясните раз и навсегда: ухватившись за эту гигантскую путеводную нить, вы сможете нанизать на нее, как бусины, все виды последующих архитектурных фантазий. Прародителями являются дорический и коринфский ордера; первый – всех романских построек с массивными капителями: норманнских, ломбардских, византийских и прочих в том же роде; а второй – всей готики: раннеанглийской, французской, германской и тосканской. Причем заметьте: древние греки дали колонну, римляне – арку; арабы заострили арку и украсили ее растительным орнаментом. Колонна и арка – костяк и крепость архитектуры – идут от колена Иафетова; духовность и святость ее – от Измаила, Авраама и Сима.
Как я сказал, прародителями всей европейской архитектуры являются два ордера: дорический и коринфский. Вам, вероятно, приходилось слышать о пяти, но истинных ордеров только два, и больше не будет до Судного дня. Один из них имеет выпуклый орнамент: это дорический, норманнский и прочие в том же роде. Другой – вогнутый: это коринфский, раннеанглийский, украшенный и прочие в том же роде. Переходный вид, для которого характерна прямая линия орнамента, является ядром, или прародителем, обоих. Все остальные ордера – лишь разновидности этих или же их фантазмы и гротески, количество и типы которых совершенно не поддаются определению.
Такая вот греческая архитектура с ее двумя ордерами топорно копировалась и переиначивалась римлянами без особого результата – до тех пор, пока они не начали широко использовать арку для практических целей, – если не считать, что дорическая капитель была подпорчена стараниями ее улучшить, а коринфская изрядно видоизменилась и обогатилась причудливой и во многих случаях весьма изящной резьбой. И при таком положении вещей явилось христианство: присвоило себе арку – украсило ее и удовольствовалось этим, изобрело новую дорическую капитель взамен подпорченной римской и, используя самые доступные подручные материалы, принялось за работу по всей территории Римской империи, стремясь выразить и украсить себя в полную меру своих возможностей. Эта римско-христианская архитектура является точным отражением христианства того времени: очень пылкая и прекрасная – но весьма несовершенная, во многих отношениях невежественная и все же сияющая лучистым, по-детски наивным светом творческой фантазии, который разгорается при Константине, озаряя все побережье от Босфора до Эгейского и Адриатического морей, и затем, по мере того как люди начинают предаваться идолопоклонству, постепенно превращается в блуждающие огоньки. Архитектура погружается в состояние покоя: золотой, набальзамированный потусторонний сон – и она сама, и религия, которую она отражает, – и осталась бы в этом сне навсегда (да и остается – там, где ничто не потревожило ее томной дремы). Но ей было уготовано суровое пробуждение.
Все христианское искусство угасающей империи распадается на две главные ветви – восточную и западную: одна с центром в Риме, другая – в Византии; первая – это раннехристианско-романская (собственно раннехристианско-романская), вторая же, доведенная греческими мастерами до высшего художественного совершенства, для отличия именуется византийской. Но я бы хотел, чтобы на данный момент читатель зачислил две эти ветви в одну категорию, так как по принципиально важным пунктам они сходятся, то есть фактически обе они являются законным продолжением и следствием древнеримского искусства как такового, непрерывно проистекающего из первоисточника и к служению которому всегда призывались самые лучшие мастера, каких только можно было сыскать: латиняне в Италии и греки в Греции, а стало быть, обе ветви можно подвести под общий термин «христианско-романское искусство», применимый к архитектуре, утратившей изысканность языческого искусства в период упадка империи, но поднятой христианством до служения более высоким идеалам и наделенной благодаря фантазии греческих мастеров более яркими формами. И это искусство, как может понять читатель, распространяется в разных своих ответвлениях по всем центральным провинциям империи, принимая характер более или менее утонченный соответственно его близости к резиденциям правительства, и, будучи, несмотря на свое могущество, зависимым от живости и свежести религии, его одухотворяющей, утрачивает, по мере угасания этой живости и чистоты, собственную жизнеспособность и погружается в вялый покой – не лишенное своей красоты, но оцепенелое и не способное ни развиваться, ни изменяться.
Между тем начиналась подготовка к его возрождению. Если в Риме и Константинополе, а также в областях, находившихся под их непосредственным влиянием, это чистопородное римское искусство воплощалось в жизнь во всей его утонченности, то извращенная разновидность оного – романский «диалект» – переносилась второстепенными мастерами в отдаленные провинции, а еще более грубые подражания этому «диалекту» создавались варварскими народами на задворках империи. Но эти варварские народы были сильны своей молодостью, и, в то время как в центре Европы утонченное чистопородное искусство погружалось в элегантный формализм, варварское и заимствованное искусство на ее рубежах складывалось в мощную, сплоченную силу. А посему читатель должен рассматривать творческую историю этого периода в ее четком разделении на два главных направления: одно отображает прилежно-апатичное наследование римско-христианскому искусству, другое – подражания оному, создаваемые – на всех мыслимых стадиях раннего становления – народами, обитавшими на окраинах империи или на территориях, входивших в ее теперь уже чисто номинальные границы.
Разумеется, некоторые варварские народы не были подвержены влиянию этого искусства, и, перевалив через Альпы, иные из них, как, например, гунны, либо проносились опустошительным ураганом, либо смешивались, как остготы, с ослабевшими италийцами и придавали физическую силу народным массам, в которые они вливались, не оказывая ощутимого воздействия на их духовный склад. Другие же, и на юге, и на севере империи, испытали его влияние, распространившееся аж до берегов Индийского океана с одной стороны и скованных льдом бухточек Северного моря – с другой. На севере и западе это было латинское влияние, на юге и востоке – греческое. Два народа, превосходящие все прочие, демонстрируют нам, каждый по-своему, силу унаследованного духа. Когда закатывается главное светило, сферы, отражающие его свет, начинают сиять в полную мощь; и, как только сладострастие и идолопоклонничество сделали свое дело и имперская религия опочила в сверкающей усыпальнице, над обоими горизонтами воссиял живой свет и грозные мечи лангобардов и арабов взметнулись над этим царством золотого паралича.
Миссия лангобардов состояла в том, чтобы придать мужественность и стройность одряхлевшему телу и слабеющему уму христианства; миссия арабов – в том, чтобы покарать идолопоклонничество и провозгласить духовность богослужения. Лангобарды украсили все построенные ими храмы скульптурными изображениями физических упражнений – сценами охоты и войны. Арабы изгнали из своих храмов всякую мысль о представлении тварного облика в какой-либо форме и провозгласили со всех минаретов: «Нет бога, кроме Бога». Противоположные по характеру и целям, но одинаковые по буйству энергии, они накатили с севера и юга – бурный ледниковый поток и раскаленная лава; встретившись на обломках империи, они схлестнулись в борьбе за первенство, и средоточием этой борьбы, камнем преткновения обоих, тихим омутом, образованным этими встречными вихревыми потоками, с затянутыми в него фрагментами римских руин становится Венеция.
Дворец дожей в Венеции сочетает в себе три элемента в абсолютно равной пропорции: римский, лангобардский и арабский. Это здание – архитектурный пуп земли.
Читатель начнет теперь кое-что понимать относительно важности изучения строительных сооружений города, в черте которого, в округе каких-нибудь семи-восьми миль, располагается арена состязаний между тремя выдающимися мировыми архитектурами, причем каждая из них отражает состояние религии – каждое ошибочное состояние, однако необходимое для того, чтобы корректировать две другие и корректироваться ими.
Ледниковый поток лангобардов и следующий за ним такой же поток норманнов оставляли свои эрратические валуны всюду, где они проносились, не оказывая, на мой взгляд, никакого влияния на южные народы за пределами сферы их обитания. А вот раскаленная лава арабов, даже застывшая, так хорошо прогрела северный воздух, что история готической архитектуры становится под их влиянием историей совершенствования и спиритуализации северного зодчества. Самые величественные здания в мире – образцы пизанско-романской архитектуры, тосканской (джоттовской) и веронской готик – принадлежат лангобардским школам как таковым или же сооружались под их явным и непосредственным влиянием, а различные северные готики являются исконными формами архитектуры, принесенной лангобардами в Италию и претерпевшей изменения под менее ощутимым влиянием арабов.
Теперь, имея столь ясное представление о формировании основных европейских стилей, мы сможем без труда установить преемственность архитектурных течений в самой Венеции. Из того, что я сказал о центральном характере венецианского искусства, читателю, разумеется, не следует заключать, что римский, северный и арабский элементы стеклись и схлестнулись в борьбе за господство в одно и то же время. Самым ранним элементом был чистый христианско-романский, но если в Венеции и сохранились следы этого искусства, то их совсем немного, ибо в древнейшие времена ныне существующий город был лишь одним из многих поселений, возникших на цепи болотистых островов, протянувшейся от устья Изонцо до устья Адидже, и только в начале IX столетия он стал резиденцией правительства; тогда как собор на острове Торчелло, хотя в основе своей и христианско-романский, в XI веке был перестроен, и во многих его деталях проступают следы византийского искусства. И тем не менее этот собор, вкупе с церквями Санта-Фоска на Торчелло, Сан-Джакомо ди Риальто в Венеции и криптой собора Св. Марка, образуют отдельную группу зданий, в которых византийское влияние весьма незначительно и которые довольно типичны для ранней островной архитектуры.
Резиденция дожей переместилась в Венецию в 809 году, а двадцать лет спустя из Александрии были перевезены мощи св. Марка. Первая церковь Св. Марка, вне всякого сомнения, строилась в подражание разрушенной александрийской, откуда и были похищены останки этого святого. На протяжении IX, X и XI столетий архитектура Венеции формировалась, очевидно, по той же модели; она почти полностью идентична архитектуре Каира времен халифата, и для нас абсолютно несущественно, предпочтет ли читатель называть ее арабской или византийской, так как зодчие были явно византийскими, но хозяева-арабы понуждали их к изобретению новых форм, каковые они вводили в обиход во всех уголках земного шара, где их нанимали.
Этому первому стилю венецианской архитектуры, наряду с остатками христианско-романского, я и посвящу первый раздел настоящего исследования. Образцы ее, сохранившиеся до наших дней, включают в себя три замечательных храма (это церкви на островах Торчелло, Мурано и основная часть собора Св. Марка), а также с дюжину фрагментов дворцов.
На смену ему приходит переходный стиль, имеющий гораздо более ярко выраженный арабский характер: колонны становятся более тонкими, круглые арки, соответственно, уступают место стрельчатым, и отдельные изменения, которые нет нужды здесь перечислять, имеют место в капителях и рельефных украшениях. Этот стиль находит применение почти исключительно в светской архитектуре. Венецианцы охотно заимствовали изящные украшения арабских жилых домов, но вряд ли стали бы использовать в христианских храмах детали мечетей.
Мне пока не удалось установить временны`е границы этого стиля. Частью он возникает параллельно византийскому, но переживает его. Однако его расположение в хронологии архитектуры определяется центральной датой – 1180 годом, годом возведения гранитных колонн Пьяцетты, капители которых являют собой две наиважнейшие детали, характерные для переходного стиля в венецианской архитектуре. Примеры его использования в жилых постройках можно увидеть чуть не на каждой улице города – они-то и составят предмет второго раздела настоящего эссе.
Венецианцы никогда не упускали случая поучиться искусству у своих врагов (иначе в Венеции не было бы арабского зодчества). Однако их особая неприязнь и ненависть к лангобардам, видимо, надолго отвратила их от того искусства, которое этот народ принес на материковую часть Италии. И тем не менее в период применения двух вышеозначенных стилей в церковной архитектуре возродился своеобразный и весьма примитивный тип безукоризненной готики. Создается впечатление, что этот тип готики является слабым отражением арабско-лангобардских форм, доведенных до совершенства на континенте, которые, будучи предоставлены самим себе, по всей вероятности, вскоре слились бы в общую венецианско-арабскую школу, с которой она изначально имела столь близкие сношения, что оказалось бы трудно отличить арабские стрельчатые своды от тех, что были построены под влиянием этой ранней готики. Церкви Сан-Джакомо дель Орио, Сан-Джованни ин Брагора, Кармине и еще одна-другая являют собой примеры оного. Но в XIII веке францисканцы и доминиканцы принесли с континента свои нравы и архитектуру, уже явную готику, причудливо развившуюся из лангобардской и северной (германской?) форм, и влияние принципов, проявленных в огромных церквях Св. Павла и Фрари, стало стремительно распространяться на венецианско-арабскую школу. Однако две эти системы так никогда и не объединились: венецианская политика обуздывала власть Церкви, а венецианские художники не пошли у нее на поводу, и с тех пор городская архитектура начинает разделяться на церковную и светскую: одна является неуклюжей, но мощной формой западной готики, общей для всего полуострова и лишь демонстрирующей венецианские симпатии в перенимании некоторых типичных рельефных украшений, другая – роскошная, пышная и совершенно оригинальная готика, сформировавшаяся из венецианско-арабской под влиянием доминиканской и францисканской архитектур, и в особенности благодаря прививке к арабским формам самой новой черты францисканского зодчества – его узорной резьбы. Эти разные формы готики, эта своеобразная архитектура Венеции, представленная с церковной стороны главным образом церквями Санти Джованни э Паоло, Фрари и Сан-Стефано, а со светской – Дворцом дожей и другими главными готическими дворцами, будут предметом третьего раздела данного эссе.
Смотрим далее. Переходный (или сугубо арабский) стиль венецианского зодчества достигает расцвета к 1180 году и постепенно трансформируется в готический, каковой распространяется во всей своей чистоте с середины XIII до начала XV столетия, то есть именно в тот период, который я называю главной эпохой в жизни Венеции. Начало ее упадка я датировал 1418 годом; пять лет спустя дожем стал Фоскари, и в годы его царствования в архитектуре появляются отчетливые признаки тех мощных перемен, что были подмечены Филиппом де Коммином, – перемен, коим Лондон обязан собором Св. Павла, Рим – собором Св. Петра, Венеция и Виченца – постройками, традиционно считающимися там самыми аристократичными, а Европа в целом – общей деградацией всех видов искусства.
Эти перемены проявляются прежде всего в утрате жизненности и правдивости всей тогдашней мировой архитектурой. Все имевшиеся виды готики – и южной, и северной – разом начали вырождаться: немецкая и французская растворились во всякого рода экстравагантности; обезумевшая английская была заключена в смирительную рубашку перпендикулярных линий; итальянская подернулась на материке плесенью бессмысленной орнаментики Чертозы ди Павия и собора в Комо (стиль, по неведению часто именуемый итальянской готикой), а в Венеции вылилась в безвкусную смесь Порта делла Карта и безумных растительных орнаментов собора Св. Марка. Это общее разложение архитектуры, особенно церковной, совпало – и отразило общее состояние религии в Европе – с характерным вырождением католического суеверия и, как следствие, общественной морали, что и привело к Реформации.[40]40
Porta della Carta – Бумажные ворота (ит.), главные ворота Дворца дожей.
[Закрыть]
И вот Венеция, являвшаяся в былые времена самой религиозной из всех европейских держав, на склоне лет оказалась самой порочной; и как в эпоху своего могущества она была средоточием чистых течений христианской архитектуры, так в период упадка она становится источником Ренессанса. Именно самобытность и великолепие дворцов Виченцы и Венеции придали этой школе превосходство в глазах Европы, и умирающая Венеция, величественная в своем разложении и грациозная в своих безрассудствах, снискала к себе большее расположение в старческой немощи, нежели во цвете юности, и сошла в могилу, окруженная толпой воздыхателей.
А посему именно в Венеции, и только в Венеции, можно нанести ряд ощутимых ударов по этому тлетворному искусству Ренессанса. Уничтожьте здесь его права на поклонение – и оно больше нигде не сможет их отстоять. Что и будет конечной целью настоящего исследования. Я ни абзаца не посвящу Палладио, равно как не буду утомлять читателя главами хулы, – в своем повествовании о ранней архитектуре я подвергну сравнению формы всех ее характеристических черт с тем, во что они превратились с легкой руки приверженцев классицизма, и под конец задержусь на краю бездны падения, как только сделаю обозримой ее глубину. При этом я буду опираться на два разного рода доказательства: первое – это свидетельство, вынесенное из частных случаев и фактов отсутствия у зодчих мысли и чувства, из чего мы можем заключить, что их архитектура должна быть скверной; второе – это ощущение (которое мне, без сомнения, удастся вызвать у читателя) систематического уродства в архитектуре как таковой. Я приведу здесь два примера свидетельства первого рода, что может быть крайне полезным для запечатления в сознании читателя означенной эпохи как эпохи начала упадка.
Мне придется еще раз напомнить о том, сколь важное значение я придаю смерти Карло Дзено и дожа Томазо Мочениго. Гробница дожа, как я говорил, отделана флорентийцем, но в том же духе и с тем же чувством, что и все венецианские усыпальницы того времени; она стала одной из последних гробниц, где это еще сохранилось. Классический элемент обильно внедряется в ее детали, но в целом его влияние пока не ощутимо. Как и все прекрасные гробницы Венеции и Вероны, она представляет собой саркофаг с лежащей на нем человеческой фигурой – это достоверный, но смягченный, в меру возможностей, отсутствием печати страдания на лице портрет дожа на смертном одре. Усопший облачен в герцогскую мантию и шапочку, голова покоится на подушке и чуть склонена набок, руки просто сложены на животе. Лицо худое, черты крупные, но столь правильные и благородные, что и живые они казались бы высеченными из мрамора. Это лицо человека, изнуренного думами и смертью; на висках проступают выпуклые разветвления вен; кожа собрана в резкие складки; изгиб губ сбоку прикрыт полоской усов; борода короткая, раздвоенная и заостренная, – во всем благородство и покой; белый налет могильной пыли, словно свет, оттеняет суровую угловатость его скул и бровей.
Эта гробница была изваяна в 1424 году, и вот как ее описывает один из умнейших современных писателей, выражающий всеобщее мнение касательно венецианского искусства [Пьетро Сельватико]:
«К итальянской школе принадлежит также роскошный, но уродливый (ricco ma non bel) саркофаг, в котором покоится прах Томазо Мочениго. Его можно назвать одним из последних звеньев, связующих упадочное искусство Средних веков с нарождающимся искусством Ренессанса. Мы не будем подробно рассматривать недостатки каждой из семи фронтальных и боковых статуй, изображающих кардинала и библейские добродетели, равно как не будем утруждать себя критическими замечаниями по поводу тех изваяний, что стоят в нишах над шатром, ибо ни с точки зрения возраста, ни с точки зрения репутации не считаем их достойными флорентийской школы, каковая с полным основанием считалась тогда самой благородной в Италии».
Разумно, конечно, не останавливаться на означенных недостатках, но, пожалуй, разумнее было бы на мгновение остановиться у этого величественного символа смертной природы царей.
В хоре той же церкви – Санти Джованни э Паоло – есть еще одна гробница, это гробница дожа Андреа Вендрамина. Он умер в 1478 году после недолгого двухлетнего правления, самого зловещего в анналах Венеции. Умер от чумы, занесенной на берега лагуны после турецкого нашествия. Умер, оставив Венецию обесчещенной на суше и на море, разоренной врагом, овеянной дымом пожарищ, поднимающимся над голубыми далями Фриули, – и этому дожу была пожалована самая дорогая и роскошная усыпальница, какой Венеция когда-либо удостаивала своих монархов!
Если процитированный выше писатель остался равнодушным перед статуей одного из отцов его страны, то он с лихвой возмещает это красноречием у гробницы того самого Вендрамина. Две с половиной страницы убористого текста восхвалений – и ни единого слова о статуе усопшего. Сам я давно привык считать эту статую довольно важной частью гробницы, но тут она меня особенно заинтересовала: ведь Сельватико лишь вторит восхвалениям тысяч и тысяч голосов. Ибо сие изваяние единодушно признано шедевром надгробной скульптуры Ренессанса и объявлено Чиконьярой (также цитируемым Сельватико) «тем самым кульминационным пунктом, коего венецианское искусство достигло с помощью резца».
Я же достиг этого кульминационного пункта, покрытого вековой пылью и паутиной, точно так же, как и всех прочих важных надгробий в Венеции, с помощью тех допотопных приставных лестниц, что всегда найдутся в хозяйстве ризничего. Сначала меня поразила чрезмерная неуклюжесть и отсутствие чувства в положении руки, обращенной к зрителю, словно она намеренно отведена от середины туловища, дабы показать, как тонко вырезана ее кисть. А вот на руке Мочениго, грубой и даже одеревенелой в сочленениях, тонко прочерчены вены, ибо создатель этой скульптуры справедливо полагал, что изящный рисунок вен одинаково отражает и сан, и возраст, и знатное происхождение. Рука Вендрамина вырезана гораздо более старательно, однако ее резкие, обрубленные контуры вместе с тем заставляют нас предположить, что ей не было уделено должного внимания, – и это весьма вероятно, ибо оно всецело сосредоточилось на высечении подагрических узлов на суставах. Коль скоро какая-никакая, а одна рука имеется, то я решил поискать вторую. Сначала я подумал, что она отбита, но, смахнув пыль, обнаружил, что у несчастного истукана всего одна рука, а с другого боку – сплошная каменная глыба. Лицо, тяжелое, с неприятными чертами, выглядит монструозным в своей половинчатости. Лоб с одной стороны изборожден тщательно вырезанными морщинами, а с другой – оставлен гладким; орнамент на шапочке дожа высечен только с одной стороны; завершена только одна щека – другая лишь вчерне намечена и к тому же перекошена; наконец, горностаевая мантия, которая с одной стороны волосок к волоску воспроизводит шерсть и подшерсток шкурки животного, лишь вчерне намечена – с другой; то есть в продолжение всей работы предполагалось, что статую будет видно только снизу и только с одной стороны.
Впрочем, именно так ее и должно быть видно почти каждому, и я не виню скульптора, напротив, мне даже следовало бы похвалить его за выверенность трактовки статуи соответственно ее расположению, если бы подобная трактовка не подразумевала, во-первых, нечестность, ибо нам подсунули только половину лица – какую-то монструозную маску, тогда как нам нужен был достоверный портрет покойного, а во-вторых, ту откровенную бесчувственность, которая совместима лишь с крайней степенью духовно-нравственного разложения: кто, имея сердце в груди, смог бы остановить свою руку и отложить резец, наметив лишь смутные контуры старческого лица – да, не величественного при жизни, но хотя бы овеянного величием смерти; кто смог бы отложить резец, доведя его до оката хмурого чела и вымерив все до последней жилки, даже если бы ему посулили за это гору золотых цехинов?
И вот тут-то, уважаемый читатель, выступает самая соль и суть вопроса. Сей лежачий монумент обесславленному дожу, сей кульминационный пункт гордости венецианского Ренессанса достаточно правдив если не в чем-то другом, то хотя бы в своем свидетельстве о характере его создателя, который в 1487 году был изгнан из Венеции за подлог.
В дальнейшем мне еще будет что сказать о творчестве этого мошенника, но сейчас я, как и обещал, перейду ко второму, не столь значительному, зато более любопытному примеру свидетельских показаний.
Дворец дожей имеет два главных фасада: один выходит на море, другой – на Пьяцетту. И морской фасад, и – до седьмой главной арки включительно – фасад, обращенный к Пьяцетте, были возведены в самом начале XIV столетия, а частью, возможно, и раньше; вторая же половина стены со стороны Пьяцетты – в XV. Разница в возрасте горячо оспаривалась венецианскими антиквариями, изучившими великое множество документов по этому предмету и цитировавшими ряд таких, коих они и в глаза не видели. Сам я сопоставил бóльшую часть письменных документов с документом иного рода, сослаться на который не додумался ни один из венецианских антиквариев, – это каменная кладка дворца.
Характер кладки меняется в середине восьмой арки от морского угла на стороне Пьяцетты. До этого места камень сравнительно невелик; далее без всякого перехода начинается работа XV века с использованием более крупного камня, «доставленного из Истрии, за сотню миль отсюда». Девятая колонна от моря в нижней аркаде и семнадцатая прямо над ней – в верхней открывают ряды колонн XV века. Обе они несколько толще других и поддерживают стену Сала дель Скрутинио. И здесь, читатель, удвоим внимание. Фасад дворца от этого места до Порта делла Карта был построен по настоянию достославного дожа Мочениго, того самого, у гробницы которого мы только что побывали, по настоянию оного и в начале правления его последователя Фоскари, то есть около 1424 года. Этот факт под сомнение не ставится – под сомнение ставится лишь то, что морской фасад возведен раньше, чему, однако, имеются доказательства столь же простые, сколь и неоспоримые, ибо начиная с девятой нижней колонны меняется не только каменная кладка, но и скульптурные украшения, в том числе и скульптурные украшения капителей колонн как нижней, так и верхней аркад: одеяния фигурок, размещенных на морском фасаде, типично джоттовские и соответствуют одеяниям на фресках Джотто в падуанской капелле дель Арена, тогда как на других капителях они выполнены в ренессансно-классическом стиле; подобным же образом меняется и характер львиных голов между арками. Множество других свидетельств, коими я сейчас не буду мучить читателя, имеется и в статуях ангелов.[41]41
Sala del Scrutinio – Зал голосования (ит.).
[Закрыть]









































