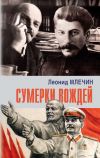Читать книгу "Социальная история советской торговли. Торговая политика, розничная торговля и потребление (1917–1953 гг.)"

Автор книги: Джули Хесслер
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Прошли ли базары какую-то определенную эволюцию в период с 1917 по 1921 год? В своем всестороннем исследовании русской революции Э. X. Карр высказал предположение, что в годы Гражданской войны нелегальная рыночная торговля составляла «все большую долю внутреннего распределения товаров в Советской России» [Carr 1952, 2: 244]. Доказательств этого утверждения в ходе настоящего исследования обнаружено не было: напротив, статистические данные указывают на обратное. В 1918 году почти половина национализированных промышленных предприятий все еще реализовывала свою продукцию на основе частных договоров, а к 1920 году рыночные методы стали исключением [Труды ЦСУ 8 (2): 354]. Что касается продовольственного снабжения, нам также известно, что в 1920–1921 годах государство заготовило в четыре раза больше зерна, чем в 1917–1918 годах, и в три раза больше, чем в 1918–1919 годах [Banerji 1997: 206; Фейгельсон 1940: 84; Дмитренко 19666: 228]. Еще более красноречивы статистические оценки меняющейся роли рынков в распределении зерновых и других продуктов питания. Согласно Крицману, роль рынков в снабжении представителей рабочего класса снизилась с59%в1918 году до всего лишь 25 % в 1920 году; хотя подавляющее большинство горожан продолжало покупать хлеб на черном рынке, растущее меньшинство этого не делало [Крицман 1925: 133–135][48]48
См. также [Труды ЦСУ 8 (1): 16–17, 24–25] и [Труды ЦСУ 30 (1): 34–35].
[Закрыть]. С другой стороны, потребители из сельской местности продолжали покупать почти все продукты питания, которые они не могли самостоятельно производить в достаточном количестве, на базаре [Дмитренко 19666:230–231; Крицман 1925: 133–135].
Качественные данные о базарной торговле рисуют более запутанную картину изменений, происходивших со временем. Согласно заявлениям советских чиновников, в 1918 году базары, наряду с частными и кооперативными магазинами, были основным источником продовольствия и потребительских товаров во всех частях страны. После этого года в докладах фиксировались противоречивые тенденции. В некоторых городах и районах (главным образом на севере) базарная торговля в 1919–1920 годах частично прекратилась, во многих других она процветала. В какой-то мере то, что происходило в каждом отдельном регионе, отражало степень проводимых там репрессий[49]49
Об этом говорил Р. И. Вайсберг [Вайсберг 1925: 36]. См. также: ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 414. Л. 39–40; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2618. Л. 8-10.
[Закрыть]. Если и можно сделать какие-либо общие выводы на основании отчетов управлений милиции за 1920 год, так о том, что присоединение советской властью новых территорий – отвоеванных у белых Украины, Сибири и Нижней Волги – подпитывало частную рыночную торговлю, а также увеличивало доступность продовольствия для советской администрации. Эти регионы прежде не были подчинены советской торговой политике и поддерживали активные рынки. После установления там советской власти их немедленно наводнили потребители, частные покупатели и посредники по продовольственному снабжению из других регионов федерации в поисках ходовых товаров[50]50
См., например, [Хазиев 1989: 85–87]. Подобное было также зафиксировано на Урале, в Минске, Харькове и Баку; ср. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2618. Л. 8-10, 32–34; Д. 2458.
[Закрыть].
В конце концов высшее руководство пришло к пониманию того, что стратегия искоренения имеет свои пределы. По этому поводу московский писатель-мемуарист Готье высказал тонкое наблюдение: большевики одновременно не хотели торговли на открытых рынках и не хотели, чтобы Сухаревка возникала «на каждом углу и перекрестке», что было бы неизбежным следствием закрытия базаров [Готье 1997: 314]. Логика использования рынков продолжала оказывать влияние на политику большевиков еще долгое время после ноябрьских декретов 1918 года. Сама Сухаревка была закрыта на несколько месяцев в декабре 1920 года, но историки, вероятно, придали этому факту слишком большое значение. Маргерит Гаррисон рассматривала закрытие Сухаревки как частный случай общего непостоянства нового правительства:
Например, в течение одной недели разрешали продавать мясо, через две недели издавали декрет, запрещающий продажу мяса, и на всех торговцев мясом совершалась облава. То же самое происходило с маслом и многими другими товарами. В конце весны рынок на Охотном ряду закрыли, киоски снесли, но Сухаревку не тронули. Еще позже закрылись все мелкие магазины, потом они открылись, а Сухаревка закрылась. Наконец, в начале марта 1921 года, после издания декрета, разрешившего свободную торговлю, вновь открылись рынки, магазины и уличные киоски. Политика правительства в отношении регулирования частной торговли была настолько непостоянной, что никто не знал наверняка, что было законно, а что – нет [Harrison 1921: 154][51]51
См. также [Borrero 2003: 185].
[Закрыть].
Это же непостоянство проявлялось и в регионах: в директивах и контрдирективах о легальности базарной торговли, а также в отношении советской власти к мелким предприятиям сферы обслуживания и кустарным лавкам. С конца 1918 года три эти примитивные формы частного предпринимательства (базарная торговля, мелкие мастерские и кустарная торговля) выделились в серую зону социалистической экономики. Как будет видно в последующих главах, и эта серая зона, и ее периодическое сужение оказались непреходящим наследием Гражданской войны.
Таким образом, социальные последствия войны против рынка были полны противоречий. В своей самой ранней форме антиторговая политика большевиков была не более чем опосредованным способом ведения классовой войны против российской буржуазии. Однако практика показала, что наиболее «буржуазные» из дореволюционных торговцев были лучше всего подготовлены к тому, чтобы противостоять наступлению большевиков. Наиболее выгодными для этого оказались два пути: относительно безопасный – занятость в социалистической экономике, или более рискованный – подпольная торговля. Первый путь, однако, был открыт только для тех, кто мог выдавать себя за специалистов в торговле, то есть, как правило, для более обеспеченной группы. У мелких торговцев – от еврейских коробейников и ремесленников, торгующих в Белоруссии, до мелких лавочников, работающих повсеместно, едва ли «буржуазных» по экономическим критериям, – выбор был невелик: им оставалась полулегальная и нелегальная торговля на рынках. От таких трудностей страдали многие, и поэтому в конечном счете успех антиторговой политики большевиков не смог сравниться с успехом базаров.
Открытые торговые площадки революционного времени сочетали в себе функции и приметы фермерских рынков, блошиных рынков и рынков краденого. Однако они также служили точками для оптовой торговли в ее рудиментарной форме, и присоединение новых территорий к РСФСР в 1919 году со всей очевидностью высветило эту отличительную черту. Недавно присоединенные регионы не только были наводнены агентами по закупкам и всеми типами неформальных покупателей – каждая новая территория открывала пути в новые внутренние регионы для возможных контрабандных операций там. Пока Дон и Кубань не захватила Красная армия, жители этих регионов вели оживленную приграничную торговлю с Царицынской и Астраханской губерниями. Жители Восточной Сибири пересекали проницаемую границу России с Маньчжурией. С северо-запада России ее жители устремились в отныне независимые Прибалтийские страны. Константинополь, как и Тифлис, завоеванный большевиками только в феврале 1921 года, был главным перевалочным пунктом российской торговли в годы Гражданской войны. Рынки «ближнего зарубежья» были переполнены сахаром, изделиями из стекла, текстилем, обувью, электрическими лампами, лекарствами, техническими инструментами и сельскохозяйственной техникой – всем тем, чего жаждали российские покупатели[52]52
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2618. Л. 8-10, 32–34; Д. 2368. См. также [Ackerman 1919: 46; Давыдов 1994: 45].
[Закрыть].
Базары внутри Советской России стали конечной точкой мелкооптовой торговли, которая строилась на поездках отдельных людей как внутри советской территории с ее постоянно меняющимися границами, так и через эти границы. Такой способ торговли назывался «мешочничеством» и обеспечивал связь регионов, имевших избыток какого-либо товара, с регионами, где такой товар был дефицитным. Мешочничество зародилось еще в 1916–1917 годах вследствие нехватки промышленных товаров, которая заставляла жителей провинции ездить в Москву и Петроград за тканями. С углублением продовольственного кризиса направление поездок между центром и периферией изменилось на обратное. К середине 1917 года, несмотря на все усилия Временного правительства[53]53
См. [Browder, Kerensky 1961,2: 703; Систематический сборник декретов 1919: 122–123].
[Закрыть], мешочничество достигло внушительных масштабов. Не пришло оно в упадок и при большевиках: опросы, проведенные зимой 1917–1918 годов, показали, что 40 % населения Калужской губернии и 80 % крестьян Костромы совершали подобные поездки для покупки или продажи зерна; примерно 30 000 жителей Петрограда относились к мешочничеству как к своему основному заработку. С другой стороны, на Курскую, Тамбовскую, Симбирскую, Саратовскую, Казанскую и Вятскую губернии, где наблюдался избыток зерна, ежемесячно совершали набег от 100 000 до 150 000 мешочников. Эти цифры, возможно, выровнялись по мере улучшения продовольственного снабжения на севере, но уже в январе 1921 года в одной воронежской газете писали, что по одному 160-километровому отрезку пути 20 000 мешочников ежедневно перевозят в среднем по восемь пудов (130,6 кг) каждый [Кондратьев 1991 [1922]: 308; Крицман 1925: 135; Фейгельсон 1940: 78; Дмитренко 19666: 236; Figes 1996: 611; Banerji, 1997: 27].
Торговые маршруты для неформальной торговли зерном зависели от наличия железнодорожных путей и общей военной обстановки. До лета 1918 года, когда из-за Гражданской войны от Центральной России были отрезаны житницы Украины, Сибири и Северного Кавказа, с промышленного севера страны во все стороны тянулись мешочники. Согласно одному исследованию начала 1918 года, из Костромской губернии на севере Центральной России почти половина мешочников отправилась в Омск (примерно 200–300 километров к востоку). Из остальных примерно половина отправилась в хлебные губернии на востоке центральной части страны – Вятскую и Симбирскую; только четверть от общего числа мешочников отважилась ехать на юг [Фейгельсон 1940: 78]. После укрепления линии фронта торговля зерном велась в основном по оси север – юг, хотя Вятка и Симбирск оставались важными пунктами добычи хлеба.
О мешочничестве чаще всего говорят в связи с нелегальной торговлей зерном, однако оно ни в коем случае не было единственным товаром, реализуемым таким образом. Контрабандисты торговали всем на свете. В Советской России царские деньги, золото и иностранная валюта также были объектами бесчисленных поездок, совершаемых ради получения прибыли[54]54
ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 414. Л. 1506; Д. 415. Л. 9506; РГАСПИ, Ф. 5. On. 1. Д. 2618. Л. 8-10, 32–34.
[Закрыть]. Хотя невозможно реконструировать движение валюты, беспорядочно перемещавшейся по стране вместе с потоками солдат и беженцев, циркуляция по крайней мере двух товаров действительно создавала регулярные маршруты мешочников, сравнимые с масштабами торговли зерном. Специализированная мешочная торговля развивалась вокруг низкосортного табака (махорки), который выращивался в некоторых районах Рязанской и Тамбовской губерний и в автономии поволжских немцев и заготавливался там крестьянами-ремесленниками. Как и зерно, табак можно было перевозить в 150-фунтовых (80-килограммовых) мешках и перепродавать в небольших количествах, получая прибыль. Поскольку табак никогда не был таким же приоритетным товаром для властей, как зерно, меры по подавлению этого вида торговли были еще менее эффективными. Вплоть до 1919 года отчеты милиции указывали, что у производителей махорки не было другого выбора, кроме как продавать свой товар мешочникам, поскольку государство почти не присылало своих закупщиков[55]55
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 37. Л. 34; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2615. Л. 4-20.
[Закрыть].
Другим важным товаром, вокруг которого сформировался отдельный маршрут мешочничества, была соль – также бестарный продукт. Маршрут «добычи» соли пролегал по Волге. Попытки бороться с ним начались в августе 1920 года, через несколько месяцев после того, как по всей долине реки была установлена советская власть. Торговля этим товаром была невероятно прибыльной: в декабре 1920 года пуд (примерно 16,4 килограмма) соли, продававшийся в Астрахани за 800–900 рублей, в Нижнем Новгороде или Казани стоил уже от 30 до 40 тысяч рублей. Благодаря столь ощутимым материальным стимулам торговля солью стала основным источником дохода для крестьян, живущих на расстоянии до ста километров от реки. Сообщалось, что в Царицыне в торговле солью была задействована «значительная доля» городского населения. О масштабах сбыта можно судить по результатам рейда, проведенного на пароходе «Красная звезда»: за одну ночь у пассажиров судна было изъято почти две тонны соли. Неудивительно, что поиск прибыли в верховье реки создал дефицит в Астрахани, где рыбные хозяйства полагались на избыток дешевой соли[56]56
Красная газета. 1920.25 дек. См. также: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2618. Л. 32–34; [Schwartz 1921: 127–128].
[Закрыть].
Какие экономические эффекты вызывало мешочничество? Его влияние на городской рынок и в целом на регионы с дефицитом зерна было неоднозначным. Без сомнения, мешочничество подорвало и без того перегруженную и с трудом функционирующую транспортную систему страны. Достоверных оценок этого воздействия нет, но очевидно, что грузовой вагон, в котором ехали мешочники со своей поклажей, мог перевозить меньше продовольствия, чем вагон, заполненный исключительно зерном. Стране отчаянно не хватало подвижного состава, и такая неэффективность в использовании транспорта обходилась дорого.
Однако с точки зрения результатов такой торговли картина выглядит несколько иначе. С начала 1918 года и до лета 1919 года мешочники, согласно некоторым оценкам, реализовали на 25 % больше товаров, чем смог предоставить официальный аппарат продовольственного снабжения страны; значение нелегальной торговли оставалось огромным в связи с затянувшимся характером Гражданской войны. Еще зимой 1919/1920 годов официальные учреждения поставляли менее 10 % проданного продовольствия по крайней мере в трех северных губерниях [Дихтяр 1965: 130; Фейгельсон 1940: 79, 84; Дмитренко 19666: 231]. При таких обстоятельствах, как писал В. М. Устинов в 1925 году,
население невольно должно было обращаться к «вольному рынку», не считаясь с тем, что этот рынок – нелегальный, и тем самым поощрять мешочничество. Правда, мешочники в значительной степени мешали работе Наркомпрода и делали ее менее продуктивной. Получался, таким образом, заколдованный круг. Однако население, под давлением голода, не могло пассивно ожидать, пока окрепнет госснабженческий аппарат настолько, что сделает дорогое и неуклюжее мешочничество излишним [Устинов 1925: 41].
Однако большевики рассматривали успех мешочников как результат игры с нулевой суммой. Согласно их восприятию, каждая унция, полученная неофициальным путем, означала, что эту унцию недополучила социалистическая экономика. Экономическая теория заставила бы нас признать их неправоту: согласно классической экономической модели, мешочники должны были иметь возможность получать больше зерна (или соли, или табака), чем государственные закупщики, поскольку предлагаемые ими более высокие цены стимулировали бы рост предложения. В этой модели, конечно, не учитываются государственные меры принуждения, и остается вопрос, противодействовали ли они рыночным силам, сдерживающим сбыт по государственной цене, и если да, то в какой степени.
Практически все ученые, комментировавшие эту ситуацию, вне зависимости от того, имели они отношение к большевистской идеологии или нет, соглашались с оценкой советского экономиста Н. Д. Кондратьева, что замена капиталистической оптовой системы мешочничеством была равносильна «деградации торговли» [Кондратьев 1991 [1922]: 307–310]. Развязанная большевиками война с рынком не подняла торговлю на более высокий уровень социально-экономической организации, а привела к замене современной системы крупномасштабного перемещения товаров архаичной системой, основанной на перемещениях отдельных людей.
Отрицательная оценка Кондратьева нашла отражение в ряде публикаций эпохи НЭПа. Л. Н. Крицман обращал внимание на розничных торговцев, которые, как он утверждал, стали «менее квалифицированными», перейдя из магазина на базар [Крицман 1925: 142]. В. М. Устинов подчеркивал, что по торговому сектору был нанесен удар с моральной точки зрения: «…торговый аппарат ввиду необходимости прибегать к разного рода уловкам развращался и разлагался» [Устинов 1925: 22]. Впрочем, нечестность едва ли была чужда традициям русской торговли: посещавшие страну иностранцы фиксировали ее на тот момент уже на протяжении более трехсот лет[57]57
Краткое изложение рассказов путешественников о русских купцах с 1571 года по середину XIX века см. у [Patouillet 1912: 99-100].
[Закрыть]. Еще более обескураживающей эту беспринципную культуру обмена периода Гражданской войны делал ее контекст: угрожающая жизни населения, нехватка ресурсов, коммунистические представления о нравственности, революционная политика, а также тот факт, что занятие «спекуляцией» больше не ограничивалось дореволюционным купеческим классом.
Случаи нарушения нормального функционирования, сопровождавшие войну и революцию, коренным образом изменили потребительские привычки жителей бывшей империи. Уже в феврале 1917 года паническая реакция толп петроградцев на нехватку хлеба и муки продемонстрировала поведение, которое в последующие годы будет признано бессознательным. У пекарен собирались огромные очереди, в которых в основном стояли женщины. Толпы разбивали витрины и грабили пекарни, когда запасы продуктов заканчивались; люди сушили сухари в печах, чтобы сформировать личные хлебные запасы. За неделю до отречения царя жители города всю ночь при минусовых температурах стояли в хлебных очередях, которые Охранное отделение воспринимало как потенциальные очаги революции. В этой обстановке слухи одновременно и подпитывали массовую истерию, и подпитывались ей сами. Трудно себе представить, чтобы у жителей Петрограда не было запасов муки для такого рода чрезвычайных ситуаций: одно исследование жизни московского рабочего класса в начале 1920-х годов показало, что практически каждое домашнее хозяйство имело запасы зерна и муки, накопленные за предыдущие восемь лет. Тот факт, что люди предпочли провести всю ночь в очередях при температуре минус 30–40 градусов вместо того, чтобы использовать свои резервы, свидетельствует об их неверии в способность рынка или правительства упорядочить поставки продовольствия. Таким образом, нарушение потребительского поведения отчасти было побочным эффектом снижения легитимности царского режима, хотя оно, безусловно, также отражало зависимость потребителей низших классов от доступа к недорогому хлебу[58]58
См. [Катков 1967: 249–250; Hasegawa 1981: 198–202; Буджалов 1987:103–104; Figes 1996: 307]. О накопительстве зерна см. [Кабо 1928: 149–156].
[Закрыть].
По мере усиления экономического кризиса накопительство и стояние в очередях стали повсеместными. Мемуарист Алексис Бабин вел дневник, в котором фиксировал то, как в Саратове, в самом сердце «зернового пояса» России, походы в магазины стали основным занятием повседневной жизни. В течение шести недель после большевистского переворота Бабин приходил в местную пекарню в пять утра, за два часа до ее открытия, чтобы купить буханку-другую белого хлеба. Десять месяцев спустя он писал, что каждое утро проводил по три-четыре часа в очереди за ржаным хлебом, единственным доступным сортом [Babine 1988: 32–34, 112][59]59
Дневник Алексея Васильевича (Алексиса) Бабина не переведен полностью, однако большая часть записей за 1917 и начало 1918 года приводятся в [Бабин 1990]. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Очереди образовались и за другими предметами первой необходимости:
15 октября 1918 года. Вчера одна девушка ликовала, потому что за день ей удалось добыть мясо, варенье и соль, простояв весь день в трех очередях. Хозяева, у которых я остановился, тратят большую часть своего времени на охоту за продуктами, в очередях за хлебом, мясом и другими товарами, а также на приготовление пищи и мытье посуды. Работа их – преподавание и работа в больнице – в настоящее время является для них лишь второстепенной.
7 ноября 1918 года. Система хлебных, продуктовых и других очередей установилась прочно. Народ впустую тратит огромное количество времени на то, чтобы добыть товары, изъятые с рынка, в угоду социалистическим иллюзиям деспотичных правителей. Ни масла, ни сыра, ни бекона, ни колбасы, ни сахара, ни меда, ни мяса, ни яиц нельзя было найти, несмотря на их избыток в деревне. Людям по-прежнему приходится вставать в 3 часа ночи, чтобы подобраться достаточно близко к началу очереди за керосином, мясом, льняным маслом и другими товарами, и часто они возвращаются домой с пустыми руками [Там же: 112, 119].
Очереди обычно образовывались до восхода солнца, хотя иногда неудовлетворенные покупатели занимали очередь накануне вечером. Для Бабина очереди были основным источником новостей (хоть и не всегда достоверных) о ходе Гражданской войны, условиях в других частях страны и предстоящих поставках товаров. В очередях также могли затеваться споры о местах в очереди или размерах тех или иных кусков мяса [Там же: 34,36, 46,68,116]. Хотя они, безусловно, провоцировали ропот, очереди, по-видимому, не становились потенциальными очагами восстания в Саратове времен Гражданской войны, в отличие от петроградских очередей в феврале 1917 года, которых опасалось Охранное отделение.
Если опыт Бабина в Саратове позволил ему изобразить довольно однородную картину очередей, то корреспондент Бесси Битти заметила, что демографический состав и общительность людей в очередях варьировались в зависимости от продукта, за которым они стояли. В Петрограде, где она жила в 1917–1918 годах, в очередях за хлебом и керосином выстаивали долгие часы «работающие женщины, прислуга, несколько студентов и школьников», которые, чтобы скоротать долгое ожидание, делали домашние задания, вязали крючком и жаловались на дороговизну жизни.
В очередях за табаком, в которых преобладали солдаты, настроения были веселее, что Битти приписывала надеждам солдат выгодно его перепродать. Студенты и перекупщики составляли основной контингент очередей за билетами в театр – самых оживленных очередей революционного периода: здесь «студенты весело болтали о сопрано Z. или о ногах балерины X.», а перекупщики молчали. Очереди за шоколадом привлекали мужчин и женщин из буржуазии, которые сетовали на нынешнее положение дел в России. Наконец, очереди на трамвайных остановках – с самыми агрессивными настроениями, которые наблюдала Битти, – состояли из учителей, конторских служащих, предпринимателей, студентов и чиновников низкого ранга, стремящихся протолкнуться в вагон. Битти также отметила изменения, произошедшие со временем в этикете очереди: в начале 1917 года матерей с младенцами пропускали в голову очереди, но эта привилегия вскоре изжила себя, поскольку женщины начали специально нанимать детей, чтобы сократить время ожидания [Beatty 1918:316–319].
В небольших городах провинциальной России очереди играли важную роль в снабжении. Эмма Понафидина, американка, вышедшая замуж за русского провинциального дворянина в 1896 году и проведшая революционные годы в родовом имении мужа, оставила записки о долгих очередях в местном кооперативе за спичками, керосином, солью и мылом. К концу 1917 года только эти товары можно было купить в обычном магазине в ближайшем городе, в котором имелся рынок; хотя другие продукты были доступны через нерегулярно торгующих продавцов, многие товары, включая ручки, пуговицы и лекарства, достать было абсолютно невозможно [Ponafidine 1931: 102, 148–149, 150, 154]. Как и другие мемуаристы того времени, Понафидина прислушивалась к разговорам в очередях, чтобы узнать общественное мнение. В глуши Тверской губернии эти разговоры создавали у нее впечатление, что всех жителей полностью занимал экономический кризис. Как она писала в письме от 1 декабря 1917 года: «Разговоров о войне или политике не услышать, только хлеб, хлеб, хлеб!» Пять месяцев спустя она записала подслушанный разговор, в котором крестьяне, в свете продовольственного кризиса, выражали сожаление о развалившемся молочном хозяйстве ее семьи [Там же: 140, 148–149][60]60
Мемуары, в которых цитируются услышанные в очередях народные мнения: [Beatty 1918: 316–320; Dukes 1922: 45].
[Закрыть]. Склонность Понафидиной и других иностранцев оценивать общественные настроения по очередям разделяли и органы безопасности России начиная с Первой мировой войны и по крайней мере до 1960-х годов: в отсутствие более надежных индикаторов общественного мнения очереди в целом и хлебные очереди в частности оставались ключевым источником информации для советской власти.
Точность их выводов относительно влияния потребительских трудностей на общественное мнение невозможно оценить даже приблизительно. Мнения историков в основном разделились по двум вопросам: какова была степень усвоения советским обществом «иждивенческой» психологии и каким было действительное отношение граждан к мешочникам и мелкой торговле. Что касается второго вопроса, то после прочтения исторических свидетельств мне кажется более реалистичной точка зрения А. Ю. Давыдова и М. А. Фейгельсона (в отличие от М. Маколи и Л. Т. Лиха) о том, что простые обыватели не поддерживали объявленную государством войну рынку. Общественную симпатию к мешочникам можно проследить в нескольких выступлениях и публикациях того периода. Один из представителей Компрода писал в 1920 году, что крестьяне были возмущены притеснениями, которым подвергались мешочники, поскольку многие из них были движимы голодом и отчаянием. Другой сообщал, что рабочие открыто симпатизируют мешочникам, исходя из того, что мешочничество – единственный способ сводить концы с концами. Сам Ленин выражал досаду по поводу того, что интеллигенция защищает мелких торговцев: «Все чаще приходится слышать [эту критику] от интеллигенции: вот мешочники оказывают нам услугу, именно они кормят каждого»[61]61
См. [Фейгельсон 1940:73–75; Давыдов 1994:49–50; Lih 1990:169–171; McAuley 1991: 299–304]. См. также [Васильев 1918: 7–8; Владимиров 1920: 12; Ленин 1958–1965, 36: 407; Орлов 1918: 68–69; Орлов 1920; Brower 1989: 77].
[Закрыть].
Свидетельства общественной солидарности с мешочниками прослеживаются и в архивах Наркомата внутренних дел. По словам информаторов этого ведомства, в вооруженных формированиях, которым было поручено контролировать мешочников (заградительных отрядах или транспортных ЧК), постоянно обнаруживались проблемы с моральным духом. В Тульской губернии, например, в ходе проверки мешочников было установлено, что основной причиной роста незаконного оборота товаров являлось неподчинение работников милиции. Летом 1918 года железнодорожный отряд административного центра губернии, насчитывавший 250 человек, бежал, «потому что не хотел принимать мер по борьбе с мешочничеством». На другой станции железнодорожная бригада сообщила своему комиссару, что «наша задача – не реквизировать зерно, а охранять мосты и станции и защищать служащих». Аналогичные сообщения поступали из Орловской губернии, где один отряд из 200 человек фактически сел выпивать с прибывшими мешочниками, не давая ни железнодорожникам, ни другим милицейским подразделениям их побеспокоить[62]62
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 55. Л. 4–6, 31; Д. 56. Л. 1.
[Закрыть]. Это только одна сторона медали – Комиссариат также сообщал о многочисленных столкновениях мешочников с железнодорожной охраной, в ходе которых конфискации приобретали «черты вооруженного грабежа», а «вакханалия стрельбы» или «неорганизованный, ненужный террор» были почти обычным делом[63]63
Там же. Л. 5. Д. 63. Л. 21; Д. 83. Л. 4-11.
[Закрыть]. Тем не менее количество сообщений о сопротивлении борьбе с мешочничеством говорит о том, что солидарность с мешочниками действительно препятствовала соблюдению законов на местах.
Без достаточного количества субъективных свидетельств так же трудно судить, привил ли военный коммунизм психологию зависимости от материальных потребностей, как это предполагают некоторые историки [McAuley 1991:304]. Мемуаристы Бабин и Готье не демонстрировали такого отношения; хотя оба пользовались теми неденежными выплатами, которые им предоставляла государственная система распределения, оба рассматривали продовольственные пайки по фиксированной цене как позорный символ обнищания как их самих, так и всей страны, а также как символ режима, который они презирали. Однако Бабин и Готье были интеллектуалами-антикоммунистами средних лет, и их опыт отличался от опыта других социальных групп. Д. X. Ибрагимова, изучавшая письма, приходившие в «Крестьянскую газету» в 1923–1924 годах, пришла к выводу, что значительная группа крестьян действительно выказывала иждивенческую психологию, но столь же большое число корреспондентов проявляло самостоятельность и ориентацию на рынок [Ибрагимова 1997]. Показательно также исследование мнений детей, проведенное в течение десятилетия после революции. Когда у детей, выросших в годы Гражданской войны, просили описать их любимые занятия, те придумывали такие ответы: «есть и пить чай с сахаром» и «стоять в очереди, когда женщины ругаются», но также упоминались «барышничать» и «продавать вещи на рынке» [Золотарев 1926: 82][64]64
Дети и молодежь играли активную роль на черном рынке, если судить по количеству арестов несовершеннолетних за спекуляцию, карманные кражи и преступления с продовольственными карточками. Ср. с [Труды ЦСУ 8 (2): 95].
[Закрыть].
Единственный вывод, который мы можем сделать с уверенностью, заключается в том, что психология зависимости никак не сдерживала граждан. При всей важности очередей для народного потребления, в революционный период дефицит товаров не приводил к пассивности – скорее, он заставлял граждан проявлять инициативу и самостоятельно добывать себе продовольствие неформальными путями. Советские люди не только покупали продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости у мешочников на нелегальном рынке, но и принимали непосредственные меры, чтобы обеспечить себя необходимыми потребительскими товарами. Так, сельские жители и в меньшей степени горожане реагировали на галопирующую инфляцию и нехватку промышленных товаров расширением своего домашнего производства: они выращивали овощи на огородах, ткали на ручных ткацких станках, изготавливали сбрую, мебель и сельскохозяйственные орудия в импровизированных домашних мастерских[65]65
См. [Дихтяр 1961: 131; Brower 1989; Figes 1996: 608–609].
[Закрыть]. Они также участвовали в широко распространенном тогда воровстве, которое, наряду с кустарным производством и поездками в сельскую местность, было основным методом самопомощи, используемым городским населением. Например, обзор экономических тенденций в Харьковской губернии показал, что в 1920 году 40 % всего выпуска текстильной промышленности и 50 % пищевой продукции разворовывалось. Введение в апреле 1921 года вознаграждений в натуральной форме привело к снижению этих показателей, но до тех пор ни пропаганда, ни наказания не имели какого-либо видимого эффекта. Как отмечалось в докладе, «в условиях, когда 99 % рабочих занимались воровством, решения Дисциплинарных судов не производили большого морального впечатления» [Отчет Харьковского губэкосо 1921: 91].
Топливный кризис, углублявшийся весь революционный период, породил особенно яркие проявления «самоснабжения». Удивителен тот факт, что отопительные материалы не были включены в государственную монополию, при том что другие товары первой необходимости были национализированы еще летом и осенью 1918 года. До февраля 1920 года муниципальные топливные комитеты заключали договоры непосредственно с поставщиками и распределяли топливо (обычно это были дрова) между учреждениями и индивидуальными потребителями по своему усмотрению [Систематический сборник декретов 1919:202; Орлов 1918:213–221; Malle, 1985:221–222]. Учреждения имели приоритет при распределении, но в период Гражданской войны официальные поставки едва могли обеспечивать каждый класс потребителей «голодным пайком»[66]66
Ср. Красная газета. 1920. 15 мая.
[Закрыть]. Мемуарист Готье потратил огромное количество времени на заготовку дров для московского Румянцевского музея, которым он руководил. Даже в тех редких случаях, когда на железнодорожную станцию все-таки прибывал официальный груз, поставка не начиналась до тех пор, пока музей не выдавал перевозчикам «некоторое, и притом сравнительно небольшое, количество табаку, соли, спичек и папирос» или, в другом случае, до тех пор, пока музейные служащие сами не выгружали дрова. Важным источником топлива для музея был некий спекулянт, который одновременно являлся членом железнодорожного отдела ЧК [Готье 1997: 321, 325].