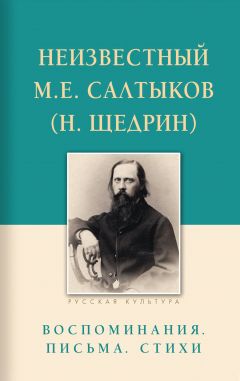
Автор книги: Е. Строганова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Молчание прервал отец, задав посетителю вопрос о том, сколько шагов имеет длина Невского пр‹оспекта› от Аничкова моста до угла Б‹ольшой› Морской улицы. Озадаченный странным, по его мнению, вопросом, С. не нашел, что ответить. Тяжелую для него сцену прервал вход в кабинет моей матери. Он долго, однако, не мог сообразить причину, побудившую моего отца задать ему непонятный для него вопрос. На самом же деле суть его уразуметь было легко. Дело в том, что в описываемое время не желавшие работать молодые люди из богатых семей Петербурга ежедневно после завтрака «гранили» тротуар солнечной стороны Невского, т. е., другими словами, прогуливались именно между указанными выше пунктами главной улицы столицы, проходя расстояние взад и вперед. Вот отец и желал иносказательно дать понять С, что он его причисляет к тем бездельникам, которые в то время от часу до трех украшали своими персонами Невский и знали эту улицу так хорошо, что им должно было быть известно даже число шагов между двумя ее пунктами – пределами их ежедневного гулянья.
В Лидине, в честь пребывания в нем отца, его фамилией была названа дорога, по которой он ежедневно совершал в коляске прогулки. Вся вообще светская публика была не по нраву папе. Он над ней едко и зло трунил, давая тем из ее представителей, которые имели несчастье попасться ему на глаза, меткие, но чрезвычайно обидные для самолюбия прозвища.
Будучи в то время занят «Пошехонской стариной», он ничего не успел о ней, этой публике, написать, так как смерть, уже давно его сторожившая, не дала ему на это времени.
Надо сказать, что дачная жизнь вовсе не нравилась отцу, привыкшему или иметь свой клочок земли, вроде Витенева под Москвой[231]231
Витенево было приобретено в 1862 г., продано в 1877 г.; последний раз Салтыков отдыхал там летом 1874 г. См. об этом: Макашин С. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов. Биография. М.: Худож. лит., 1972. С. 472–475; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Середина пути. С. 491–97; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. С. 71–75.
[Закрыть] или Лебяжьего недалеко от Ораниенбаума[232]232
Мыза Лебяжье под Ораниенбаумом была приобретена Салтыковым в апреле-мае 1877 г., сразу же после продажи Витенева. Здесь он проводит с семьей лето 1877–1879 гг. Вот одно из первых впечатлений: «Не проученный подмосковным опытом, я опять надел на себя ярмо собственности и скажу откровенно, что безалабернее едва ли что может быть» (письмо к А. Н. Островскому от 28 июня 1877 г.: 19–1, с. 61). И одно из последних впечатлений: «А я со своим новым имением точно так же бедствую, как и прежде. В год не меньше 15000 р. на него трачу. Видно, мне не на этом, а на том свете хозяйничать. Одно только хорошо, что имение у меня в порядке, т. е. сад и дом, не так, как в Витеневе было. А рабочие здесь еще дороже, нежели у Вас. Садовнику 30 р. в месяц плачу, приказчику 27, мельнику 22 р. и так далее в той же соразмерности. Постоянных 2 работника и скотница, да летом одной поденщины сколько. На мельнице работы еще меньше, нежели в Витеневе, только здесь за помол мукой берут ½ пуда с четверти, так что выходит на одно. Огород у нас большой, но капуста маленькая. Огурцы морозом оба года побило. 7 ульев пчел есть, да оба года меду не было» (19–1, с. 97–98). См. также: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. С. 75–77.
[Закрыть], расположенного почти при семафоре Красная горка, или же странствовать за границей, причем любимым его городом был Париж, уличная жизнь которого, бойкая и задорная, доставляла ему несказанное удовольствие. Полечившись в Германии, папа обыкновенно ездил в Париж и, насколько хватало сил, жил его уличной и театральной жизнью, забрасывая временно всякую работу. Сам водил нас смотреть в Елисейские поля Guignol (Петрушку)[233]233
Гиньоль – персонаж французского народного кукольного театра, сменивший Полишинеля (Петрушку), которого превзошел по своей популярности.
[Закрыть], причем от души смеялся, когда этот последний дубиной колотил жандарма и полицейского комиссара; ходил с нами кормить лебедей в Тюльерийском саду, ездил с нами на grandes eaux[234]234
Буквально: большие (великие) воды (фр.)
[Закрыть], т. е. смотреть на фонтаны в Сен-Клу и в Версале. А один часами гулял по бульварам, приходя домой усталый, но довольный. Все удивлялись той перемене, которая происходила в нем, когда он ощущал под ногами асфальт парижских бульваров. Он становился жизнерадостным, и обычная суровость неизвестно куда исчезала.
– Я, – как-то сказал он кому-то при мне, – тут перерождаюсь. Ну, а там… – махнул рукой, очевидно, намекая на Россию, – я старая, разбитая рабочая кляча. И все же, – без нее (т. е. без России) я обойтись не могу… И умру с радостью, служа ей…
Как любил мой отец Россию, как он скорбел ее скорбью, как болел ее болезнями – видно из всех его произведений. Особенно же ярко выразилась эта бескорыстная, честная любовь к родине, нищей, темной, но все же сердцу милой, в заключительной главе к «Убежищу Монрепо» и в сказке «Пропала совесть».
Поэтому понятно, как скорбел он, видя, что такие люди, как Тургенев, доктор Белоголовый, критик Анненков[235]235
Анненков Павел Васильевич (1813 или 1812–1887), литературный критики мемуарист, автор статьи «Современная беллетристика. Г-н Щедрин» (1863), близкий знакомый Салтыкова. С середины 1860-х гг. подолгу жил за границей; умер и похоронен в Дрездене, хотя надеялся, что его прах будет перевезен в Россию. Дочь Вера (1867–1956), в замужестве Нагель.
[Закрыть], добровольно покидают Россию и даже, как, например, последний из названных лиц, роднятся с иностранцами: дочь Анненкова Вера вышла замуж за какого-то германского обер-лейтенанта.

Павел Васильевич Анненков
Касаясь Анненкова, я не могу не привести одного комического эпизода, к нему относящегося. Отец как-то приехал в Висбаден и нанял квартиру на улице, ведущей от Таунус-штрассе к русской церкви. Утром он сидел на балконе, выходящем на улицу, и пил кофе. В это время мимо дома проходил Анненков. Отец его окликнул. Тот остановился и вопросительно взглянул на папу. Этот последний звал его к себе, но Анненков продолжал стоять на улице.
– Разве вы меня не узнаете? – спросил его наконец отец, начиная раздражаться.
– Узнать-то узнаю, – ответил тот, – да как это мне священник ничего про ваш приезд не говорил, – недоуменно пожал он плечами.
– Да на что вам священник, – удивился папа, – я ведь в курлисте записан.
– Ну ее, – махнул рукой Анненков. – А я все-таки лучше у священника о вашем приезде справлюсь. Так вернее будет…
И, оставив озадаченного происшествием отца, стал подниматься в гору по направлению к блестевшей на солнце золоченым куполом церкви, которая, как известно всем бывшим в Висбадене русским, расположена на холме, так что ее видно на далеком от городка расстоянии.
– Ну и чудак же, – разводил потом руками отец, рассказывая о происшествии в то время проживавшему в Висбадене доктору Белоголовому[236]236
Рассказы о поездке П. В. Анненкова в Висбаден Салтыков обставлял анекдотическими эпизодами. Во-первых, он пропустил свой поезд, уехавший из Майнца с его багажом, и приехал в Висбаден на извозчике. Во-вторых, он долго не мог найти номер, занимаемый Салтыковым, который так рассказывал об этом в письме к М. М. Стасюлевичу: «Вышел я на балкон и вижу кого-то бродящим против нашей гостиницы. Вглядываюсь – Анненков. Окликаю. Отзывается: я Вас ищу в 9-м №. Говорю: да я Вам писал, что в 8-м; так идите же сюда. – Нет, я к попу иду; мне в 9-ом № сказали, что Ваш адрес следует узнать у попа. Можете себе представить мое изумление! Не говоря худого слова, сбегаю вниз и овладеваю дорогим гостем» (20, с. 211). Во втором анекдоте очевидно сходство с рассказом, который приводит K. M. Салтыков. См. также: Белоголовый H. A. Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове // М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 258; Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. С. 364–365.
[Закрыть].
Да, отец пылал к своей родине самой чистой, святой любовью, несмотря на то что его постигали лишь одни разочарования. Он вечно чего-то боялся, к чему-то нехорошему подготовлялся.
Приближаясь при возвращении домой из-за границы к Вержболову, он как-то сразу увядал, нервничал, не отвечал на вопросы, курил папиросу за папиросой, вынимая их из большой, коричневой кожи английской работы папиросницы, которую носил на ремне через плечо.
А между тем приезд в Вержболово и пребывание на этом пограничном пункте не представляли из себя ничего страшного. В то время начальником станции Вержболово был симпатичный старик, бывший офицер, по фамилии Маркович. Его знали положительно все петербуржцы, которые обычно ежегодно ездили за рубеж, кто – просто так прогуляться, кто сбавить жира, кто – по делам службы или коммерческим. Знали его также все так называемые «высокие особы» русские и иностранные, которым приходилось проезжать через вверенную его попечениям станцию. Грудь его парадного мундира была увешана как русскими, так и иностранными знаками отличия.
Так вот, возвращаясь домой, моя мать обыкновенно из Берлина предупреждала об этом Марковича, который и встречал нас со своим обычным радушием. Обыкновенно на платформу вместе с начальником станции выходили нам навстречу начальник таможни и жандармский ротмистр. Маркович отбирал у нас паспорта, начальник таможни – багажную квитанцию, а ротмистр провожал нас в станционный буфет, куда вслед за тем те же должностные лица приносили нам отобранные документы, причем, вероятно, никто в наших вещах не рылся. Такое внимательное отношение со стороны пограничных властей несколько успокаивало отца, и он приглашал их к столу и заставлял слушать повествование о своих болезнях, что было одной из любимых тем его разговоров. Марковича заменил не менее предупредительный Христианович. То же внимательное отношение к нам повторялось каждый раз, как мы проезжали границу, и все-таки, несмотря на это, каждый раз как поезд покидал Эйдкунен, последнюю прусскую станцию, отец видимо чрезвычайно волновался, как бы боясь, что его возьмут да арестуют.
Но этого ни разу не случилось, несмотря на то, что наш петербургский сосед К. П. Победоносцев[237]237
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор Синода (1880–1905), казенная квартира которого находилась рядом с домом Скребицких.
[Закрыть] не переставал рекомендовать в так называемых «сферах» отца как человека совершенно нежелательного, вредного даже, которому следует запретить писать. Особенно настаивал он на этом перед министром внутренних дел гр. Дм. Толстым, который был однокашником отца по лицею. К чести этого сановника надобно сказать, что он наотрез отказал Победоносцеву в его просьбе, заявив, что, пока он министр, его старого товарища не тронут[238]238
Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889), министр внутренних дел с 1882 г. В этом рассуждении K. M. Салтыкова отражено, видимо, мнение самого писателя, который, по словам H. A. Белоголового, «почему-то предполагал, что Толстой не переставал хранить к школьному своему приятелю чувство некоторого расположения и допускал ему бóльшую безнаказанность в литературной деятельности, чем позволил бы это кому другому на его месте». Правда, далее мемуарист писал: «Но едва ли эти догадки справедливы, особенно если принять во внимание, что окончательное запрещение „Отечественных записок“ произошло в 1884 году, то есть как ‹раз› в апогее полновластия гр. Толстого» (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 266). Между тем Е. М. Феоктистов (За кулисами политики и литературы. Л.: Прибой, 1929. С. 242) свидетельствовал, что Д. А. Толстой «колебался» покончить с «Отечественными записками» «отчасти потому, что Салтыков был некогда его товарищем». Кроме того в 1882 г., когда по поводу одной из глав «Современной идиллии» журналу было предъявлено цензурное обвинение «в оскорблении его величества», «министр изволил приказать оставить без принятия каких-либо мер» (помета Е. М. Феоктистова на письме к В. К. Плеве по этому поводу: Евгеньев-Максимов В. Е. В тисках реакции. К столетию рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 98). Эту же версию Е. М. Феоктистов сообщил и самому писателю, о чем Салтыков писал Н. К. Михайловскому: «…гр. Толстой при докладе ему „Сказок“ выразился, что он не желал бы принимать против меня меры и приказал войти в соглашение со мной, которое, конечно, и кончилось вырезкою „Сказок“» (19–2, с. 291). Ср. аналогичное мнение в письме Салтыкова к A. A. Краевскому: «…гр. Толстой не желает предпринимать что-либо лично против меня, по старому товариществу» (19–2, с. 290). Таким образом, K. M. Салтыков передает здесь точку зрения своего отца.
[Закрыть].
Интересно отметить по этому поводу, что Толстой скончался за день-два до смерти папы. В то время как этот последний агонизировал, тело его заступника предавалось земле.
V
Отец всегда стоял за то, чтобы я и моя сестра хорошо знали иностранные языки. Как известно из письма к нам, опубликованного в биографии отца К. К. Арсеньевым, он писал, чтобы мы получше изучали немецкий язык, чтобы в будущем служить переводчиками ему и маме[239]239
См. письмо Салтыкова к Е. М. и K. M. Салтыковым от 22 мая 1881 г.: «Гуляйте и пользуйтесь случаем, чтобы по-немецки научиться. Научитесь – будете родителей за границей выручать, потому что родители ваши по-немецки не мастера говорить» (19–1, с. 224).
[Закрыть]. В целях сделать из нас хороших языковедов он приглашал к нам то француженок, то немку, то, наконец, англичанку[240]240
Ср. в воспоминаниях С. А. Унковской (фрагмент не вошел в свод «М. Е. Салтыков в воспоминаниях современников»): в квартире Салтыковых «была комната, где жили часто менявшиеся Елизаветой Аполлоновной гувернантки – либо француженка, либо немка, либо англичанка» (цит. по: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. С. 410).
[Закрыть]. Усилия его в этом отношении увенчались успехом: я и моя сестра Лиза свободно изъясняемся на этих трех языках.
Из француженок, которые у нас были, стоит упомянуть про безобразнейшую по внешности Мари Одуль[241]241
Ср.: «…при них была крошечная, миниатюрная француженка, мадемуазель Мари, дети говорили с ней исключительно по-французски» (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 326).
[Закрыть]. Она мнила себя весьма привлекательной особой, жеманилась и кокетничала с отцом к великой его потехе. Кончила она жизнь трагически – в доме умалишенных, безнадежно влюбившись в кого-то.
Другая француженка m-me Ситок донельзя боялась папы, который, однако, никаких неприятностей ей не делал, и не знала, куда деваться в его присутствии. Немка М. П. Петерсон рекомендованная, как и Одуль, Унковскими, сделалась скоро чем-то вроде члена нашей семьи и помогала даже ухаживать за отцом, который ее очень ценил.
Но не только о знании нами иностранных языков заботился папа. Он желал сделать меня и сестру людьми вполне грамотными и, кроме того, музыкантами. Были приглашены учителя. Я музыкантом не стал, зато сестра очень недурно играла на фортепиано, а впоследствии из нее выработалась недюжинная певица. Игре на фортепиано обучал нас – меня безуспешно – известный в то время в Петербурге пианист, аккомпаниатор моей двоюродной сестры, певицы Веревкиной[242]242
Веревкина Прасковья Николаевна, урожд. Зилова (1854–1892), дочь сестры Салтыкова Любови Евграфовны Зиловой, оперная и концертная певица. Окончила Петербургскую консерваторию, солировала в Киевской опере, в Мариинском театре, гастролировала в Европе. Подробнее о ней см.: Культепина O. A. Веревкина // М. Е. Салтыков-Щедрин и его современники. Энциклопедический словарь. С. 71–72.
[Закрыть], Кившенко, а хоровому пению – в семье Гогель[243]243
Эта семья упоминается в письме Е. А. Салтыковой к Е. П. Елисеевой: «Так как князья Абашидзе уехали все в Италию на зиму, то дети учатся танцевать у Игнатьева и собираются у Гогель» (цит. по: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. С. 414.
[Закрыть] – небезызвестный Рубец[244]244
Рубец Александр Иванович (1837–1913), музыковед, музыкальный педагог.
[Закрыть]. В дальнейшем пению сестра обучалась у итальянки М. Мази, создательницы партии Джиоконды в опере того же названия[245]245
Мариани-Мази (Маси) Маддалена (1850–1916), певица, исполнительница заглавной роли в четырехактной опере «Джоконда» (1876) итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (либретто Арриго Бойто по пьесе «Анджело, тиран Падуанский» В. Гюго). В России была представлена миланской труппой с участием Мази в 1883 г.
[Закрыть].
Попав в гимназию – в петербургскую казенную шестую, затем в частную Гуревича, где был полупансионером, я учился не особенно хорошо, не лучше моего одноклассника сына Достоевского Федора[246]246
Достоевский Федор Федорович (1871–1921).
[Закрыть]. Мне совершенно не давался греческий язык. Отец всячески урезонивал меня получше учиться этому языку, угрожая, что, в случае если меня исключат за незнание его, он меня отдаст пасти свиней. Но несмотря на все желание постичь греческую премудрость, она мне никак не давалась, и меня пришлось перевести в alma mater моего отца – лицей, где обходилось без греческого. Там дело учебы пошло получше. Неприятно, однако, было то, что мне в лицее пришлось быть полным пансионером, вследствие чего я мог бывать дома только в праздничные дни и в каникулярное время. Мое обучение в вышеназванном закрытом учебном заведении давало родителям возможность сберечь немалые деньги. Дело в том, что при переходе из малого лицея, так называемых приготовительных классов, в большой (т. е. из 5-го в 6-й гимназический класс) существовал для детей гражданских чинов 4-го класса и гвардии полковников или генерал-майоров армии конкурс для занятия казеннокоштных вакансий. Мой отец был отставным действительным статским советником, а потому я имел право участвовать в конкурсе[247]247
Ср. в письме Салтыкова к H. A. Белоголовому от 9 мая 1888 г.: «…у Кости первый экзамен – завтра. Боюсь за него: он переходит из приготовительного класса в Лицей, и ежели не выдержит, то оставаться еще на год нельзя, потому что возраст велик. К тому же мне желалось бы, чтоб он перешел на казенный счет, а вакансий мало, конкуренция же большая. Теперь он выпросился домой готовиться к экзаменам, а вместо этого шляется по знакомым и гуляньям» (20, с. 418).
[Закрыть]. Годовая плата за учение в лицее на всем готовом составляла 800 рублей, что в то время было деньгой немалой. Помню, что отец, как всегда, очень волновался перед и во время экзаменов и все просил меня его «не подвести». Я оказался добрым сыном и «не подвел» родителя, выдержав конкурсное испытание первым. В награду за выказанное геройство мне, кроме полагавшегося казенного мундира, сшили и собственный, которым я очень гордился, и купили форменную треуголку. Повеселевший отец вспоминал, как он, будучи лицеистом, школьничал, причем как-то однажды катался верхом на французе-воспитателе. Мой отец тоже прошел курс наук в лицее казеннокоштным воспитанником, будучи стипендиатом московского дворянского пансиона. Но о своем пребывании в этом привилегированном учебном заведении не любил говорить и о нем не писал, ограничив воспоминания о своей школьной жизни несколькими строками в эскизе «Скука»[248]248
Не вполне точно. Сводку данных об обучении Салтыкова в Лицее (1838–1844) и его высказываний об этом см.: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. I. С. 102–143. «Скука» (1856) – рассказ из цикла «Губернские очерки», действительно наполненный автобиографическими мотивами (см. комментарий С. А. Макашина: 2, с. 532–533).
[Закрыть].
Моя сестра училась в известной в то время женской петербургской частной гимназии кн. Оболенской, где, между прочим, ее подругами были дочери известного петербургского же адвоката С. А. Андреевского[249]249
Сергей Аркадьевич Андреевский (1847/1848–1918), судебный оратор, поэт и критик.
[Закрыть] и дочь A. M. Унковского Софья[250]250
Воспоминания С. А. Унковской о Салтыкове см. в этой книге. В целом сведения K. M. Салтыкова о мемуаристке достоверны, хотя он ошибается, считая ее умершей к моменту выхода его книги: С. А. Унковская умерла в 1954 г. В 1927 г., когда K. M. Салтыков жил в Твери, они не встречались, хотя в 1926 г. Унковская активно участвовала в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения Салтыкова. Но даже если она читала воспоминания K. M. Салтыкова и узнала о своей «смерти», это едва ли может объяснить, почему в своих воспоминаниях С. А. Унковская столь недоброжелательно отзывается о нем.
[Закрыть], впоследствии удалившаяся в родное имение отца, находившееся в Тверском уезде при сельце Дмитрюкове, где она открыла на свой счет школу для крестьянских детей, каковому делу и отдалась всей своей душой. Учительствовала С. М. до самой смерти. Таким образом, два члена семьи Унковских принесли существенную пользу местному крестьянству: отец, как я писал выше, раздал часть своей земли безвозмездно крестьянам, а дочь бескорыстно, единственно из любви к темному народу, сделала что могла, чтобы пролить в невежественную массу свет учения.
Во время пребывания сестры в гимназии произошел инцидент, о котором много говорили в свое время в Петербурге. Сестре задала учительница русского языка Л. М. Авилова написать на дом какое-то сочинение. Она засела за работу, но дело, видимо, не клеилось, и она заплакала. С заплаканными глазами вышла она к вечернему чаю и на вопрос отца о причине горя сказала ему, что так и так – не может выполнить заданной ей письменной работы. Отец, шутя, пожурил ее за то, что она, будучи дочерью писателя, не в состоянии сама сочинять. Затем позвал ее к себе в кабинет, заставил рассказать тему заданного письменного упражнения, нашел, что она для детского понимания действительно не особенно подходящая. Однако как-никак, а сочинение нужно было представить написанным на следующий день. И вот отец, вооружившись пером, сам его написал, приноравливаясь к детскому пониманию темы. Моя сестра все написанное отцом переписала и на следующий день, не без гордости, подала «свое» сочинение Авиловой, ожидая за таковое не менее пятерки, быть может, даже с плюсом. Каково же было ее разочарование, когда, получив свою тетрадку обратно, она увидала под своей рукописью начертанную цветным карандашом жирную двойку с минусом. Горю ее не было пределов, и она, вернувшись домой, упрекала отца в том, что он ей испортил четверть. Папа же много хохотал над инцидентом и рассказывал всем знакомым о том, как ему была за сочинение поставлена двойка с минусом, показывая им при этом тетрадь. Конечно, Авилова узнала про случившееся и в свое оправдание говорила, что она потому поставила Лизе такой низкий балл, что подозревала, что сочинение писала не она. Впрочем, кажется, эта двойка не испортила сестриной четверти[251]251
Ср. этот эпизод в воспоминаниях С. А. Унковской.
[Закрыть].
Мне кажется теперь уместным коснуться тех вообще отношений, которые существовали между отцом и нами – детьми, и между ним и мамой.
Из опубликованных К. К. Арсеньевым[252]252
Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), юрист, публицист, литературный критик; с 1880 г. вел разделы в «Вестнике Европы», автор статей и книг о Салтыкове.
[Закрыть] писем отца к нам уже видно, что он относился к нам очень любовно. И действительно, когда заботы и работа не поглощали отца целиком и когда физические недуги не так сильно давали себя чувствовать, он обращался с нами с несказанной нежностью. Как я уже писал выше, во время нашего пребывания в Париже, где он чувствовал себя великолепно, отец почти постоянно гулял с нами по городу, ездил с нами в окрестности и кормил нас до отвалу конфектами и теми sucre d’orge[253]253
Ячменный сахар (фр.), сахарная карамель.
[Закрыть], которые палочками продавались и, полагаю, теперь продаются в лавчонках на Елисейских Полях. Когда мы жили в его имении Лебяжье близ Ораниенбаума, то, приезжая туда раз в неделю на воскресенье из Петербурга, он привозил нам всегда всякого рода лакомства[254]254
Речь идет о лете 1879 г., так как два предыдущих летних сезона Салтыков постоянно проживал в Лебяжьем.
[Закрыть]. Когда я болел скарлатиной, он был сам не свой. И вообще старался всегда доказывать нам свою действительно искреннюю любовь. Но, к сожалению, страдания, которые он испытывал, неприятности, которые ему приходилось переносить, слишком часто напоминали о себе, а потому мало светлых минут мы видели от него. Но все же его непрестанные заботы о нас, его всегдашнее желание угодить нам – все это было нам хорошо известно, и мы всегда с любовью, несмотря даже на иногда не совсем справедливые окрики его, к нему относились.
В последние месяцы своей жизни, когда папа совершенно уединился в своем рабочем кабинете, невыносимо страдая от физической боли, он не мог заснуть спокойно, если я и моя сестра не приходили его поцеловать на сон грядущий. Он тоже нас целовал, и я всегда буду помнить его худое лицо с длинной седой бородой, которое так ласково глядело на нас во время этих прощаний. Я не знаю, прав ли я, но мне кажется, что отец потому требовал от нас выполнения этой церемонии, что, ложась спать, не был уверен в том, что на утро проснется, и ему было необходимо с нами прощаться, быть может, последним целованием, отходя ко сну.
Мои родители были долго бездетны, а между тем отцу очень хотелось иметь наследника, для которого ему было бы интересно работать. Желание его осуществилось, когда он уже был в отставке и имел 45 лет от роду. Как мне передавала моя мать, мое появление на свет Божий привело его в восторг. Он, как говорится, не знал, куда деваться от радости, и целыми днями пропадал из дома, разъезжая по знакомым, которым объявлял о приятном для него происшествии, говоря, что теперь он будет еще больше предаваться своему труду, чтобы я в будущем ни в чем не нуждался и не должен был бы в свою очередь заниматься тяжелой литературной работой.
Через одиннадцать месяцев родилась моя сестра[255]255
Салтыкова Елизавета Михайловна (1873–1927), в первом браке баронесса Дистерло, во втором – маркиза да Пассано. О ней см. в статье E. H. Строгановой «Две Елизаветы».
[Закрыть]. Ее рождение уже не было встречено моим отцом с той же экзальтацией, хотя и оно доставило ему радость. Он наконец был отцом, да еще вдобавок двоих детей, что ему и во сне раньше не грезилось.
Переходя к отношениям, существовавшим между отцом и его женой, а моей матерью, я должен отметить, что многие совершенно неправильно утверждали, что эти отношения были плохие. Некоторые лица утверждали также, что моя мать – холодная кокетка, не интересующаяся литературным трудом своего мужа, что она только нарядами интересуется. Были инсинуации и похуже[256]256
См. об этом в книгах С. А. Макашина.
[Закрыть]. Все это – выдумки досужих людей. Брак между отцом и матерью, дочерью вятского вице-губернатора А. П. Болтина, был заключен по любви. Это видно хотя бы из очерка отца «Скука»[257]257
См. комментарий С. А. Макашина: 2, с. 532–533.
[Закрыть], в котором мама фигурирует под именем Бетси, и каждый из нас, читавший этот очерк, конечно, заметил, с какой любовной страстностью описывает писатель свою маленькую Бетси. И в дальнейшем отец относился к матери с той же любовью. В посмертной записке, оставленной мне, он завещал и мне любить мать. Из этого видно, что даже в последние минуты жизни он думал о той, кто когда-то была его маленькой Бетси в коротеньком платьице, и уж из могилы напоминал мне о том, что я должен прежде всего любить ту, которая была его верной подругой в течение его многострадальной, скитальческой жизни[258]258
См. в предсмертном письме Салтыкова к K. M. Салтыкову: «…вот тебе мой завет: люби мать и береги ее; внушай то же и сестре. Помни, что ежели вы не сбережете ее, то вся семья распадется, потому что до совершеннолетия вашего еще очень-очень далеко» (20, с. 477).
[Закрыть]. И моя мать была достойна его любви. Правда, что, будучи замечательно красивой женщиной, она любила хорошо приодеться, причесаться по-модному, любила также разные дорогие украшения, но не требовала от мужа того, чего он дать ей не мог. Безропотно следовала она за ним из Вятки в Тулу, из Тулы в Рязань и т. д., не имея нигде постоянной оседлости, безропотно сносила все его капризы, зная, что они являются результатом его болезненного состояния. А когда он падал духом, ободряла и утешала его. И он бодрился и с новыми силами принимался за свой труд.
Да, много было ею сделано, чтобы сохранить России великого писателя, не раз с отчаяния решавшегося навсегда покончить с литературой. Затем мало кто знает, какой старательною сотрудницей она являлась в его литературных трудах. Дело в том, что отец писал какими-то иероглифами, совершенно непонятными для большинства не только малограмотных наборщиков того времени, но и для интеллигентных людей. Кроме того, он беспрерывно делал выноски на полях листа бумаги, связь которых с текстом было найти довольно замысловато. Вообще рукописи его для человека, не освоившегося с его рукой, с его методом писания, представляли нечто крайне неразборчивое. И вот мама терпеливо занималась перепиской мужниных рукописей, которые в переделанном ею виде и попадали в наборные типографий. Этот труд стоил ей почти полной потери зрения.
Из изложенного ясно, что моя мать не была той пустой женщиной, о которой зря болтали досужие языки, а что она была всем своим существом предана тому делу, которому служил ее муж[259]259
Более подробно см. в статье E. H. Строгановой «Две Елизаветы».
[Закрыть].
Добавлю, что, будучи женихом, мой отец не только ухаживал за моей матерью, но вместе с тем взял на себя обязанность пополнить ее и ее сестры Анны[260]260
Сестра-близнец Е. А. Салтыковой Болтина Анна Аполлоновна, в замуж. Турнье (род. 1838, по др. свед 1836). Подробнее о ней см.: Саламатова М. А. Болтина // М. Е. Салтыков-Щедрин и его современники. Энциклопедический словарь. С. 51–53.
[Закрыть] знания как в русской словесности, так и в истории. Он, между прочим, составил для них курс истории, до сего времени нигде не напечатанный, в котором он высказал весьма оригинальные взгляды на исторический ход развития России[261]261
Сводку данных об этом курсе см.: Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. I. С. 345, 485. Сам текст опубликован лишь в отрывках (18–2, с. 317–319).
[Закрыть]. Рукопись была в руках моей сестры, ныне находящейся за границей, а почему она не опубликовала ее – мне неизвестно. Факт, мною приводимый, лучше всего доказывает, какие глубокие чувства питал отец к моей матери, когда собирался сделать ее своей женой и подругой всей жизни.
Кстати, мало кому известно, отчего отец избрал себе псевдонимом фамилию Щедрин.
Дело обстояло так. Ему, когда он состоял еще на государственной службе, намекнули на то, что неудобно подписывать труды своей фамилией. И вот папе пришлось подыскивать себе псевдоним, причем ничего подходящего подобрать не мог.
Как-то раз, прислонившись спиной к топленой печке, он жаловался матери на это обстоятельство. Выслушав отца, моя мать и предложила ему избрать псевдонимом что-либо подходящее к слову щедрый, так как он в своих писаниях был чрезвычайно щедр на всякого рода сарказмы. Отцу понравилась идея жены, и он с тех пор стал именоваться Щедриным. Буква н взята им из его же произведений, где он часто фигурирует под именем и отчеством Николая Ивановича. Как известно, в алфавите буква н следует за м, a и за е, каковые буквы – м и е – заглавные его личных имени и отчества.
Сообщаю это со слов матери, которой не доверять не могу, так как в то время меня еще не было на свете[262]262
С. А. Макашин сообщает о том, что в родовой вотчине Салтыковых жили крестьяне по фамилии Щедрины, и считает, что именно отсюда писатель должен был заимствовать свой псевдоним (Макашин С. Салтыков-Щедрин. Биография. I. С. 61–62). Версию же, сообщаемую K. M. Салтыковым «со слов матери», исследователь называет «не заслуживающей никакого доверия» (там же. С. 433).
[Закрыть].
VI
Мой отец в общежитии был чрезвычайно доверчивым человеком. Эту особенность его характера многие эксплуатировали в свою пользу. Я уже писал о некоторых сотрудниках «Отечественных записок», которые всячески выманивали у него денежные авансы под затем зачастую не выполнявшуюся ими работу для журнала. Эти господа «учили» его не раз, но он продолжал все-таки доверять им и, в конце концов, поплатился за это довольно крупной денежной суммой.
Доверчивость, с которой он относился к людям, – свойство, к сожалению, перешедшее ко мне, сыграла с ним немало плохих шуток.
Так, например, когда он захотел иметь свой собственный клочок земли и купил под Ораниенбаумом (С‹анкт›-Петербургской губ.) у некоего Дуббельта мызу Лебяжье[263]263
Ныне Лебяжье – поселок городского типа в Ломоносовском районе Ленинградской области. Среди владельцев мызы во второй половине XIX в. Дуббельтов не значится. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лебяжье_(Ломоносовский_район).
[Закрыть], то ему управляющий этого самого Дуббельта без ведома, конечно, своего доверителя, показывая именьице, указал как на входящий в состав такового лес с прекрасными деревьями. Лес этот, однако, оказался чужим, и когда папе понадобился на что-то лесной материал и он послал туда рабочих, то их оттуда, понятно, спровадили. Моя мать тоже не была подготовлена к роли помещицы. В результате их обоих не обманывал только ленивый. Крестьяне за работу брали втридорога, фрукты из построенного отцом грунтового сарая куда-то исчезали.
То же происходило и с парниковыми овощами. На скотном дворе были вечные недоразумения. И таким образом, про моего отца в качестве помещика можно сказать, что не он пил кровь местного населения, а что, наоборот, оно выпускало из него всеми доступными способами соки[264]264
Здесь в большей мере проявились рассказы о жизни в Витеневе.
[Закрыть].
Свои невзгоды отец описал в «Убежище Монрепо»[265]265
«Убежище Монрепо» было написано в 1878–1879 гг.
[Закрыть]. Доверчивость эта происходила оттого, что папа в жизни был честнейшим человеком, не имевшим никогда ни копейки долгу, никогда никого материально не обидевшим. Он и других мерил этой меркой, к сожалению, довольно неудачно.
О том, как он высоко ставил звание честного человека, явствует из его предсмертного ко мне письма, в котором он завещал мне быть честным человеком в жизни.
За несколько лет перед смертью, папа, ранее уже разделавшийся с Лебяжьим, не без убытку продав его петербургскому оптику Мильку[266]266
Магазин торговой фирмы Иоганна Э. Милька (основан в 1848) размещался в Петербурге на Невском проспекте напротив Гостиного двора, дом 46.
[Закрыть], еще раз захотел стать собственником. Ему приглядели землю в Тверской, родной ему губернии по линии вновь в то время выстроенной Осташковской (ныне Лихославль-Вяземской) железной дороги. Знакомые с его характером лица отговаривали его от затеи, утверждая, что его опять начнут обманывать. Однако он стоял на своем, желая, как он говорил, быть ближе к народу и перестать странствовать по заграницам да дачным местностям. Затее не суждено было осуществиться по вине тверского земства, которое, узнав про намерение отца поселиться в родных палестинах (хотя и другого уезда), собиралось чествовать его приезд особенно торжественно на узловой станции. Когда об этом сообщили отцу, думая его порадовать, он страшно вспылил, обозвал тверичан людьми неразумными, подводящими себя под репрессии администрации своим желанием чествовать его, «вредного» человека, и отказался от мысли приобрести землю. Это было, пожалуй, лучшее, что он мог сделать[267]267
В 1884 г. Салтыков «нашел дачу в Ржевском уезде по линии Новоторжской ‹железной› дороги» (письмо к Н. К. Михайловскому от 25 апреля 1884: 20, с. 12) и хотел было приобрести ее. Дачу ездила смотреть Елизавета Аполлоновна, которой она «не понравилась» (письмо Г. З. Елисееву от 5 мая 1884: 20, 17; ср. письма к Н. К. Михайловскому от 11 мая; H. A. Белоголовому от 27 июля: 20, с. 21, 61). Обида на тверитян может быть объяснена историей с выдворением из тверского музея бюста Салтыкова – гипсовой копии с бронзового бюста работы П. П. Забелло (свод данных см.: М. Е. Салтыков-Щедрин и Тверь / Сост. E. H. Строганова // М. Е. Салтыков-Щедрин. Тверские страницы жизни. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1996. С. 264, 266–267; Строганова E. H. М. Е. Салтыков и Тверская ученая архивная комиссия // На взгляд неравнодушного потомка. Талдом: [Б. и.], 1998).
[Закрыть].
Когда отец разочаровывался в людях, то он возгорался особой любовью к жившей у нас собаке домовладельца, которую он вообще жаловал, находя, что Сбогар – так звали этого пса из породы сенбернаров, привезенного Красовским[268]268
Имеется в виду А. И. Скребицкий, жена которого в первом браке носила фамилию Красовская.
[Закрыть] из Швейцарии, где у них под Лозанной было прекрасное имение, – честнее всех людей в мире. Сбогар был действительно верным псом. Он почти не отходил от отца, ласково глядя на него своими умными глазами. За обедом и завтраком он сидел рядом с папой и не без достоинства принимал из его рук подачки. Мы его возили с собой на дачу, причем на Сиверской, переезжая на плоту через неширокую, но быструю речку Оредеж, он чуть было нас не утопил, вскочив на плот неожиданно посреди самой реки. Сбогар болел ушами, был уже немолодой собакой. Как-то раз он пропал, и больше мы его не видали. Папе это доставило большое огорчение. Говорили, что пес, предчувствуя смерть, не желая нас огорчать ею, ушел умирать на сторону в одиночестве.
VII
В частной своей жизни отец был человеком нетребовательным. Правда, он любил известный комфорт, который мог себе позволять, зарабатывая довольно крупные по тому времени деньги. Но это был лишь комфорт, а отнюдь не роскошь.
В ящике письменного стола у него были разложены пачки кредиток, предназначенные: одна – на уплату денег за квартиру, другая – извозчику за поставляемую пару лошадей, третья прислуге и т. д. И никакая сила не заставила бы его изъять из них хоть один несчастный рубль для другого назначения.
Любил отец хороший стол, опять-таки не роскошный, но сытный. Сам мастерил к селедке очень вкусный соус из томат, причем гордился этим самым соусом. Иногда, когда еще был здоров, устраивал ужины для близких друзей, которых приглашал повинтить. Играл он охотно по маленькой и обижался, когда проигрывал. Винтил он, по словам М. М. Ковалевского, бездарно, но мнил себя и в этом деле знатоком, утверждая, что виновниками проигрыша являются его партнеры. Для этих ужинов отец лично ездил выбирать закуску в магазин братьев Елисеевых на Невском проспекте у Полицейского моста, где его хорошо знали приказчики. Там он обыкновенно пробовал понемножку всего, чему никто не препятствовал, ибо в то время все завсегдатаи этого магазина проделывали то же самое, и, выбрав подходящие яства, покидал магазин. Одевался отец изящно, избегая, однако, слишком дорогих и модных портных… Матери и нам открывал на этот предмет кредит на известную сумму, не очень, однако, большую. Впрочем, нужды ни в чем мы не чувствовали. Единственной роскошью, которую по необходимости допускали, были поездки за границу. Но и там мы никогда не останавливались в первоклассных гостиницах. В немецких курортах нанимали комнаты в какой-либо вилле, меблированной для приезжающих, а в Париже жили по большей части в недорогих меблированных комнатах на площади Св. Магдалины (Place de la Madelaine, № 31)[269]269
См. в письме Салтыкова к П. В. Анненкову от 19/31 августа 1880 г. из Парижа: «…поместился довольно дешево (12 фр. в день), но, по обыкновению, скверно» (19–2, с. 166).
[Закрыть], где даже, надо сознаться, прескверно обедали[270]270
Возможное объяснение находим в письме Салтыкова к H. A. Белоголовому от 16 июня 1885 г.: «Но я думаю, что Елиз‹авета› Аполл‹оновна› будет чересчур экономить ради того, чтоб потом в Париже сделать несколько платьев. Представьте себе, она только 2 раза в неделю дает детям ужинать, а между тем поехала в Франценсбад и купила Лизе платье в 90 марок. И заметьте, что она перед отъездом только что сделала Лизе два новых платья» (20, с. 190).
[Закрыть]. Площадь, на которой мы жили, занята, кроме красивой церкви Св. Магдалины, еще цветочным рынком, представляющим из себя летом, когда он наполнен цветами всевозможных видов, изумительно красивое зрелище. Мой отец подолгу любовался эффектной картиной из окна квартиры. Кроме того, под нами находился рынок крытый, в котором папа любил лично покупать знаменитый фонтенблоский виноград шасля[271]271
Виноград шасла имеет множество разновидностей, самыми известными считаются белый, розовый и мускатный.
[Закрыть], персики и грецкие орехи в их зеленой оболочке.
Только в одном Баден-Бадене мы жили в первоклассной гостинице Holländicsher Hof, так как почти напротив, на Софиен-аллэ, обитал известный врач Хеллигенталь, долго лечивший отца, который к нему питал большое доверие как лицу, рекомендованному Боткиным. Этот немецкий врач имел большую практику среди русских и даже говорил немного по-русски. Герр доктор любил играть на чувствительной струнке своих русских пациентов, титулуя их превосходительствами да сиятельствами, восторгаясь их иногда пренесносными детьми, находя всех дам восхитительными, и вообще, по мнению отца, был нравственно «продувной шельмой». Врач же он был талантливый, и когда мой отец, если можно так выразиться, обезножел, весьма ему помог. За это папа ему был очень благодарен и, бывая в Баден-Бадене, который ему нравился вследствие живописного положения, дарил ему сигары, которые тот принимал с знаками величайшего восторга.
Путешествия за границу доставляли отцу иногда неприятные сюрпризы. Так, например, в Берлине имелся магазин, торговавший якобы запрещенными в России произведениями наших писателей-классиков. Не могу сказать чего-либо относительно других писателей, но достоверно могу сообщить, что мой отец впервые узнал, прочитав их, что им был написан ряд сказок, причем очень безграмотных. Взбешенный бесцеремонным обращением с своим писательским именем, которым он очень дорожил, папа пошел объясниться с издателем этой «литературы». Из этих объяснений, однако, ровно ничего не вышло, так как немец-издатель, весьма корректный господин, утверждал категорически, что эти сказки написаны именно тем автором, фамилия и псевдоним которого значились на обложке. И с этой позиции его никак нельзя было сбить. Жаловаться было некому, и мой отец на бесцеремонное обращение с его именем принужден был махнуть рукой[272]272
Ср. другую версию этого эпизода из рукописных воспоминаний K. M. Салтыкова. В 1883 г. Салтыков с сыном 20 августа выехал из Парижа в Россию (19–2, с. 226), а 27 августа был уже в Петербурге (19–2, с. 227). В дороге предполагалась пересадка в Берлине (19–2, с. 226): «В Берлине на Фридрихштрассе в доме центральной гостиницы помещалось какое-то издательство, издававшее между прочим якобы подпольные, запрещенные цензурой сочинения русских писателей. Тут можно было приобрести и неприличные стихотворения, написанные якобы Пушкиным, и сочинения других русских писателей, на самом деле написанные какими-то нередко даже безграмотными сочинителями, проживавшими за границей. Такого рода ремесло давало издательству, а возможно – и его сотрудникам большую прибыль, так как русские, проезжавшие в большом числе через Берлин, обычно покупали эту макулатуру. Отец всегда с любопытством рассматривал выставленные в окне магазина книжки, но не покупал их, будучи в курсе дела. И вдруг однажды среди книжечек этого сорта он узрел одну, на которой красовалась его фамилия и псевдоним. Книжка была, как теперь помню, озаглавлена „Сказка о том, как высекли действительного статского советника“. Такой сказки мой отец никогда не сочинял. Вне себя от раздражения вошел он (я был с ним вместе и был, таким образом, очевидцем этого прискорбного случая) в магазин и на своем плохом немецком языке вступил в пререкание с хозяином такового, доказывая ему, что он – настоящий Щедрин – никогда не писал той, вероятно, пошлости, которая ему приписывается, требуя удаления книжки с витрины.
Толстый немец в учтивой форме с своей стороны уверял, что в том, что „Сказка“ написана самим Щедриным несомненно, так как ему приносили подлинник, написанный рукой Щедрина, которому он и заплатил следуемый гонорар.
Сцена длилась довольно долго. Отец кипятился, требовал, чтоб ему показали подлинник, и грозил судебным преследованием как против издательства, так и против анонимного автора. Немец же упрямо стоял на своем. В конце концов отец выругался по-русски, на что он был мастером большим, – и ушел, хлопнув дверью так, что стекла задребезжали. Я до сих пор уверен, что немец принял отца за сумасшедшего человека и что он, возможно, был уверен в том, что купил у кого-то подлинное сочинение Щедрина.
Эти два случая ‹второй, как Салтыков, помогая дочери, написал за нее сочинение, а учительница Лизы поставила за него двойку с минусом› показывают, как ревниво, даже до болезненности ревниво относился к своей работе мой покойный отец» (ΓΑΤΟ. Л. 4–5). Этот эпизод крайне любопытен. Такого рода издание напоминает выходившие в России в середине XIX в. т. н. книжки для народа, рассчитанные на малообразованных читателей: издатели-коммерсанты печатали переделки произведений известных авторов под привлекательными для нетребовательной публики названиями. Другие подобного рода заграничные издания Салтыкова нам неизвестны, а бесцензурные издания сказок Салтыкова в русской эмигрантской печати, судя по имеющимся данным, начались только с сентября 1883 г.
[Закрыть].
VIII
Трудовой день отца в то время, когда он был редактором «Отечественных записок», протекал, насколько помню, следующим образом: напившись чаю, он отправлялся в редакцию, где и находился почти вплоть до обеда. После обеда он немного отдыхал. Затем являлся с корректурными листами из той же редакции некто Гаспер[273]273
Гаспер Александр Карлович, заведующий конторой и типографией «Отечественных записок».
[Закрыть]. И вот папа возился с этими корректурами, пил вечерний чай, после чего до поздней ночи опять возился с корректурами и находил еще время писать свои собственные произведения. Когда не ездил летом за границу, ввиду отъезда из Петербурга соредакторов, всю неделю проводил в душном, пыльном городе без обычной прислуги, которую заменяла швейцарова жена, питался кое-как по ресторанам, обычно у Палкина на Невском проспекте. И только по субботам ездил нас навещать, возвращаясь в понедельник утром в Петербург. Когда же мы ездили за границу без него, то он и воскресенья проводил в городе. Кроме того, его всегда делегировали объясняться с властями, когда происходили какие-либо недоразумения с журналом, и он умел отстаивать его.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































