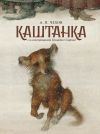Текст книги "За честь культуры фехтовальщик"

Автор книги: Елена Гушанская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Каштанка – одна из самых знаменитых героинь русской литературы, наравне с Муму.
Муму – символ безвинной жертвы, своего рода «слезинка ребенка» в квадрате. Англичане полагают, что если вам надо обогреть и накормить ребенка и собаку, то о животном надо позаботиться в первую очередь, так как оно беспомощнее. Муму – жертва. Она попала в трагические для нее обстоятельства случайно, ее судьба лишь иллюстрация жестокости нравов и жестокости судьбы. Собачка здесь второстепенный, назидательный образ, затмивший своей ангельской кротостью всех прочих обитателей тургеневского рассказа. Но вообще-то рассказ не о ней.
Иное – Каштанка. Она главное действующее лицо, смыслообразующая доминанта рассказа, в ее поступках – смысл и суть нравственной коллизии. И вместе с тем Каштанка тоже символ, символ естественности, натуральности чувства, полноценности переживания.
Концепция образа героини и нравственной коллизии рассказа имеет в отечественном литературоведении свою историю. Так В. В. Голубков в пособии для учителей (1954) интерпретировал образ Каштанки в строгом соответствии с естественно-научными взглядами того времени, согласно которым среда, внешние условия, вырабатывающие условные рефлексы, являются доминирующим фактором, который определяет развитие личности. Поэтому основные черты Каштанки, по мнению В. В. Голубкова, это – «ее привязанность, любовь к людям, преданность хозяевам, у которых она сравнительно долго жила. Привычные люди, привычная обстановка (курсив мой. – Е. Г.) создали у нее такие прочные ассоциации, такую крепкую связь, что ни вкусные обеды у клоуна, ни успех на сцене, ни новые приятели – ничто не могло искоренить старой привязанности»[40]40
Голубков В. В. Изучение рассказа А. П. Чехова в 5 классе. М., 1954. С. 21.
[Закрыть].
B. В. Голубков видит в Каштанке своего рода объект естественнонаучного эксперимента. По его рассуждению следует предположить, что если бы собака прожила у своего нового хозяина дольше, то новые рефлексы вытеснили бы собой прежние, – все дело в настойчивости экспериментатора и активности окружающей среды.
Позднее о «Каштанке» писали в русле идей своего времени разные отечественные исследователи[41]41
См. об этом: Катаев В. Б. «„Каштанка“ в XX веке: из истории интерпретаций» // В. Б. Катаев. Чехов плюс…: Предшественники, современники, преемники. M., 2004. С. 302–310.
[Закрыть]. Однако настоящая метаморфоза восприятия главной героини рассказа произошла в 1990-е годы, когда особенно активно стали пересматривать давно сложившиеся историко-культурные репутации.
C. Сендерович[42]42
Сендерович С. Чехов с глазу на глаз: История одной одержимости А. П. Чехова. СПб., 1994.
[Закрыть], вооружившись методологией В. Я. Проппа, обнаружил в «Каштанке» фабулу волшебной сказки (Каштанка нарушает запрет и переходит в другой мир) и увидел в жизни героини «бестиарно-эротическую» составляющую (любовь к Федюшке), отсутствие каковой в мире дрессировщика, где человек отводит ей бесполую роль – «Т/тетки», заставило Каштанку вернуться в свой прежний мир.
Оригинальным и глубоким было прочтение «Каштанки» режиссером Сергеем Параджановым в середине 1970-х[43]43
Параджанов С. Исповедь. СПб., 2001. С. 422–425.
[Закрыть].
Роману Балаяну готовившемуся к съемкам фильма, в основу сценария которого был положен рассказ, С. Параджанов писал: «Рома – „Каштанка“ действительно может стать гениальным фильмом. В случае если не утратиться главное. Это мир, человек и животное. Человечность и животность. Слияние одного с другим. <…>
Эпизод.
Дрессировщик держал в руках сдохшего гуся. <…> Дрессировщик бесцельно открывал крыло сдохшего гуся… Крыло само по себе закрывалось, и почему-то дрессировщик сам по себе открывал его… Потом неожиданно стал общипывать пух на груди сдохшего гуся… Пушинки летели по комнате, падали на ковры… Дрессировщик общипывал пух на груди сдохшего гуся и собирал его в темный мешок… Дрессировщик расправил мешок с пухом и зашил его, потом простегал и вышел в комнату, где жили животные… Дрессировщик положил в угол сделанную им подстилку и окликнул Каштанку. Он погладил Каштанку по голове и уложил на подстилку. <…> Каштанка обнюхала подстилку и заскулила. <…> Незримые сквозняки колыхали забытый пух и прятали его под шкаф.
Эпизод № 2.
Плотник с племянником пробирались в толпе с надеждой найти Каштанку… Они подкрадывались к каждому продавцу собак и, разочарованные, извинялись и кланялись. Собаки скулили и кусали хозяев, желающих от них отделаться…
Эпизод № 3.
Каштанка шла с плотником, как бы забыв все происшедшее. Это было понятно и естественно. Снова из-за угла появился квадрат солдат. <…> Падал пух с неба на кивера и эполеты… Каштанка сидела на руках у плотника…<…> Белый холодный пух падал на ее воспаленные глаза и нос таял. Каштанка завыла.
Конец фильма».
Сергей Параджанов, писавший эту свою режиссерскую экспликацию в тюрьме, в чудовищных обстоятельствах, уловил в поэтике рассказа очень важный момент: мир рассказа делится не на «хозяев» и «заказчиков», а на мир человечный, где героиня – существо равное среди равных, близкое и дорогое, и мир, жестокий до безумия, где героиня – подвижная часть звучащего циркового реквизита, такая же заменимая, как несчастный Иван Иванович или ко всему равнодушный Федор Тимофеевич. Ощущение этого мира, весь его ужас и должны были стать важной составляющей фильма.
Открывающееся и автоматически закрывающееся в руках дрессировщика крыло мертвого гуся, как створка пришедшего в негодность инструмента, подушечка из останков сотоварища, белый мертвый пух, который теперь чудится Каштанке повсюду, – все это знаки того жестокого мира, в котором ее воспринимали как вещь.
Основной нравственный конфликт рассказа состоит в размежевании на своих и чужих, но где проходит эта граница – каждое поколение читателей определяет по-своему. Хотя совершенно ясно, что граница эта проходит не по факту наличия/отсутствия хвоста и крыльев, не по числу ног, а по характеру взаимоотношений, по способности воспринимать другого.
Рассказ «Каштанка» – произведение неожиданно для такой простенькой истории протеистичное. Рассказ не сказочен, но притчеобразен. В нем, в его конструкции много оснований для обобщений более важных, чем история о потерявшейся собачке. Кстати, сам Чехов в быту (в переписке) нередко называл рассказ повестью, что соответствует объему событий и насыщенности сюжетного ряда, а что касается детской литературы, то считал, что «детям надо давать только то, что годится для взрослых, <…> надо уметь выбирать лекарство и дозировать его – это целесообразнее и прямее, чем стараться выдумать для больного какое-то особенное лекарство только потому, что он ребенок» (из письма к Г. Россолимо 21 января 1900).
В высшей степени интересную концепцию выдвинул в уже упоминавшейся работе В. П. Руднев. Он увидел в «Каштанке» «роман воспитания»[44]44
Руднев В. П. Указ. соч.
[Закрыть]. В. П. Руднев пишет: «Смысл сюжета о Каштанке в самой идее эксцесса, произошедшего с собакой, и в неудавшемся диалоге с чужим человеком. Потому что чужой человек при всей своей доброте не захотел увидеть в Каштанке чувственно-равноценное сознание, в то время как и пьяный столяр, <..> и жестокий Федюша воспринимают ее как чувственно-равноценное сознание, с которым можно вести диалог, как с другим, не пытаясь поднять до себя, окультурить, выдрессировать. <…> Чехов на стороне столяра и Федюшки не потому, что дрессировщик несимпатичен, потому что он дрессировщик. <…> Дрессировщик приглашает Каштанку еще раз смоделировать противопоставление между высшим и низшим, животным и человеческой толпой. Он хочет ее заставить победоносно, за кусок сахара, протанцевать по другую сторону на глазах у изумленных столяра и Федюшки. Но этот культурный танец оказывается органически не присущ Каштанке, которая относится к жизни слишком по-старомодному серьезно и простодушно».
Каштанка оказалась в ситуации, когда ей необходимо сделать выбор, и выбор непростой.
Она оставляет мир, где ее ждут довольство успех и богатство. У столяра было голодновато, он ее и ругал, и поколачивал. Федюшка играл с ней в весьма жестокие игры: проделывал с ней такие фокусы, что у нее «зеленело в глазах и болело во всех суставах». Однако в момент выбора Каштанка, руководствуясь нравственным инстинктом, выбирает свой прежний мир.
Как замечательно охарактеризовал эту ситуацию В. П. Руднев: «Она согласна, чтобы ей давали проглотить кусочек мяса, а потом на веревочке тянули из желудка обратно, но чтобы делать это эмоционально на равных. <…> родной запах стружек, голос крови домашнего очага, где коты и гуси заняты своим обычным делом, заставляет ее без колебаний покинуть чуждый культурный мир».
Пусть в мире людей она систематизируется как низшее существо: «ты, Каштанка, недоразумение супротив человека все равно, что плотник супротив столяра». Но своим позволяется делать с Каштанкой что угодно: трепать за уши, вытаскивать за ниточку проглоченное мясо. С Федюшкой они в сновидениях героини бегут, обнюхивая друг друга. Свой Лука Александрович понятен настолько, что когда он ведет себя по ее представлениям неадекватно, это шокирует Каштанку: «К ее великому удивлению, столяр вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка взвыла».
Каштанка делает свой нравственный выбор с решительностью, естественностью и грацией, которые не снились ни одному двуногому герою русской литературы. Не сомневаясь ни на секунду, Каштанка совершает выбор между богатством/сытостью, славой, успехом и бедностью/страданиями в пользу страданий и бедности. И не потому, что страдания и бедность в культуре имеют высшую ценность, а сытость и богатство порицаются. Она выбирает между миром своим и миром чужим.
Долго ли, коротко ли, но и эта парадигма оказалась отрефлектированной в XX и XXI веках. Много еще таких прозрений мы найдем у Чехова.
Маленькие околочеховские сюжеты
Дочь финикаБыл такой знаменитый актер МХТа (тогда еще МХАТа) Николай Павлович Хмелев (1901–1945), из младших мхатовцев, или, по-другому исчислению, – старшее советское поколение мхатовцев. Большой трагический талант. Умер довольно молодым, сорокачетырехлетним, как говорится, прямо на сцене, во время генеральной репетиции спектакля «Трудные годы» по пьесе А. Н. Толстого. Лучшие роли его: царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии А. К. Толстого (возобновление знаменитого первого спектакля МХТа), Тузенбах, Каренин, полковник Алексей Турбин, в кино – Беликов («Человек в футляре»).
Женат он был на Ляле Черной (в миру Надежда Сергеевна Киселева) – актрисе знаменитого театра «Ромэн», красавице-цыганке. Мать Ляли – Мария Георгиевна – тоже певица-плясунья происходила из легендарной цыганской семьи Поляковых («поляковский хор у „Яра“», см. также «Живой труп» главного Толстого). А отцом девочки был некто Сергей Алексеевич Киселев – дворянин, и это – все, что о нем известно.
Бешеного темперамента была эта Ляля Черная. Как говаривал Чехов о цыганском пении – с лязгом, грохотом и похоже на крушение поезда. Театрально-цыганскую жизнь Ляля Черная вела и дома: двери всегда настежь, самовар кипит… А Николай Павлович Хмелев, являвшийся к тому же и депутатом Верховного Совета, и худруком двух театров (сначала имени М. Н. Ермоловой, а потом и МХАТа, в 1943–1945 годах), и орденоносцем, и лауреатом Сталинских премий, был человеком негромким, замкнутым, интровертом по натуре. А туг на дому – цыганский табор. Словом, прямо на сцене в гриме Ивана Грозного его и прихватило, потому что был ипохондриком и гипертоником, от цыганского своего счастья.
Это одна история. Есть и другая.
Была у Антона Павловича Чехова приятельница – Мария Владимировна Киселева, владелица имения Бабкино, где Чеховы снимали дачу и жили с большим удовольствием, как обычно сделавшись сердечными друзьями с хозяевами усадьбы.
А. П. Чехов немногим авторам протежировал, но женщинам-писательницам, если видел в них хоть каплю таланта, – иногда старался помочь. Литературную работу Марьи Владимировны ценил и время от времени рекомендовал, хлопотал, замолвливал словечко о ней в журналах – денежные обстоятельства семейства складывались – хуже некуда.
Мария Владимировна была дочерью директора императорских театров в Москве Владимира Петровича Бегичева, а по материнской линии то ли внучкой, то ли правнучкой Николая Ивановича Новикова, знаменитого просветителя XVIII века. Мать ее умерла, и вторая жена Бегичева, из актрис, певица М. В. Шиловская (кажется, бабушка нынешнего актера Евгения Шиловского) приходилась его взрослой дочери, соответственно, мачехой. Две молодые женщины-красавицы в одном доме.
Как-то за обедом, при гостях, от колкости мачехи девушка вспыхнула, выбежала из-за стола и бросилась в свою комнату, а за ней влетел и один из гостей, молодой помещик Алексей Киселев, племянник русского посла в Париже, графа П. Д. Киселева, и сделал ей предложение. Мария Владимировна тут же дала согласие. А через минуту появился Петр Ильич Чайковский, тоже присутствовавший на обеде и тоже с предложением руки и сердца. Но опоздал – барышни тогда строго к своему слову относились. Да и кто знает, что лучше бы было: так без любви и так без любви. Чайковский все равно был бы несчастлив, а винили бы Марию Владимировну.
Так вот, к тому времени, когда Чеховы снимали дачу в Бабкине («милого Бабкина звездочка ясная…» – о дочери Киселевых Саше, это из двух-трех считанных стихотворных строк, написанных Чеховым в жизни), имение было заложено-перезаложено, ждали, что тетушка заплатит проценты по векселям. Все это, ну просто слово в слово, описано в «Вишневом саде». Предпринимать что-нибудь, колотиться как-то никто из них не умел. (Ty r бы и Чайковский не помог.)
Имение требовало хлопот, переезжать в город – денег нет. А сыночку их, Сереже, как раз осенью идти в школу, поступать в гимназию. Что делать – ума не приложить…
И Чехов предложил забрать мальчика с собой в Москву, в свою квартиру на Садово-Кудринской. Пусть он поживет у них в семье нахлебником, на антресолях, заботиться о нем будет горничная Ольга за небольшую плату. Вполне обычное дело. Мальчик будет в знакомой семье, под присмотром. Пускай поживет, народу в доме много… А там, глядишь, все и устроится.
Сережу этого – он же Финик, он же Грип, Коклюш, Котофей Котофеевич, Коклен Младший, он же Необыкновенный Ум – все любили. Прожил Финик у Чеховых до весны, до начала третьей четверти (если по современному учебному процессу) и прожил не без пользы для русской литературы. Чехов много чего с него посрисовывал, много чего из наблюдений над мальчиком почерпнул. Известно это потому, что Чехов добросовестно и часто отписывал с ума сходящей мамаше, как там ее деточка: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине (ранцем. – Е. Г.), улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит…»(письмо М. В. Киселевой от 2 ноября 1888). Описывал, как по утрам Сережа выпивает две большие чашки чая с французской булкой… Как иногда к Сереже приходит товарищ по гимназии, человек сумрачный и суровый, – руки не подает, и по всему сразу видно, что нигилист. Словом, Сережа с Ольгой отправились прямиком в рассказ «Душечка», а Сережа со своим суровым товарищем – в рассказ «Мальчики».
Кстати, Ольга спустя время вышла замуж и получила от Чеховых хорошее приданое.
Так вот, чудесный этот Финик – Необыкновенный Ум – Сережа Киселев был отцом Надежды Сергеевны Киселевой – «Ляли Черной», которая являлась, в свою очередь, внучкой детской писательницы М. В. Киселевой, правнучкой директора императорских театров Бегичева (которого считают прообразом Шабельского в «Иванове» и Гаева в «Вишневом саде») и в каком-то колене потомкой Н. И. Новикова.
Умерла Надежда Сергеевна Киселева – Ляля Черная в 1982 году заслуженной артисткой РСФСР.
Жена – это женаОльга Леонардовна Книппер – одна из самых ненавидимых вдов русской литературы.
Окончательно размазал ее по стенке, втоптал в грязь, конечно, циничный, но знающий свое дело и свободный от наших табу Дональд Рейфилд, ничтоже сумняшеся объяснив читателю, и чьей Ольга была любовницей до Антона Чехова, и чьей – будучи его женой, и от кого она была беременна, когда приезжала в Ялту, «натуролизовать» будущего ребенка, чтобы с чистой совестью подарить Антонке маленького полунемца[45]45
Слово – честная вещь. Ни разу в письмах Чехова, утешающего супругу, не встречается конструкций, с упоминанием их общего ребенка, вроде «будут еще у нас дети». Он пишет Книппер: «И мне ужасно теперь хочется, чтобы у тебя родился маленький полунемец, который бы развлекал тебя, наполнял твою жизнь. Надо бы, дусик мой! Ты как думаешь?» (2 ноября, 1901, Ялта). «Мне кажется, что ты бы очень любила полунемчика, любила бы, пожалуй, больше всего на свете, а это именно и нужно» (21 ноября, 1901, Ялта).
[Закрыть]… Из сострадания и уважения к Чехову этого, пожалуй, и не стоило бы обнародовать, но дело сделано… И оказалось в масть.
Надо сказать, что первым аттестовал и припечатал Ольгу Леонардовну брат Чехова Александр: «Говорят, что ты женишься на женщине с усами». Все. Разговор исчерпан.
Написано это чуть ли не до того, как роман Чехова и Книппер вообще обрел реальные очертания. Чего здесь больше: средневековой мистики, когда весть о новонайденной ведьме достигала соседней деревни быстрее лошадиного скока (то есть со скоростью, превышающей реальные возможности распространения информации), или умения вылавливать суть из клубящихся вокруг Антона сплетен и слухов, – все равно. Ненависть к женщине с усами возникла у Александра мгновенно, спонтанно и навсегда. (А между тем поклонницы, обожавшие Чехова, восхищались и этой особенностью его избранницы: «Мне даже хотелось иметь такие маленькие усики, как у нее», – вспоминала художница Мария Дроздова.) И никогда, несмотря ни на какие просительные намеки Антона, не встречался Александр с милой «бельсор», ни в Москве, ни в Петербурге, – обязательно не заставал дома и всегда забывал визитки в другом пиджаке.
Среди ненавистников Ольги Леонардовны Иван Бунин, который так любил Антона Павловича Чехова, так был пленен атмосферой его дома, что сделал… предложение Марии Павловне. Но у обоих хватило ума спустить это сватовство на тормозах. Иван Бунин, сердце которого просто разрывалось от зрелища чеховской супружеской идиллии, описал незабываемую картину: «Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она, в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами: «Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо…» <…> Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. <…> Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…
– Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну, конечно, он с вами и не скучал»[46]46
Бунин И. А. О Чехове // Собр. соч. в 9 т. М., 1967. С. 213, 215.
[Закрыть].
Среди ненавистников Ольги Леонардовны оказался и великий филолог Владимир Яковлевич Пропп: «Есть две женщины, которых я ненавижу острой звериной ненавистью, – признавался он в своем дневнике. – Одна – Наталья Николаевна Гончарова. Другая – Ольга Леонардовна Книппер»[47]47
Сб. Неизвестный В. Я. Пропп. СПб., 2002. С. 331.
[Закрыть].
А Максим Горький утверждал, что перед смертью Чехов выразился не умиротворенно по-немецки: «их штербе», а грубо по-русски: «ты стерва».
Много можно собрать подобных негативных высказываний в адрес вдовы, благополучно и со вкусом дожившей до второй половины XX века. Но до сплетен, будто Книппер-Чехова намекала молодым людям во МХАТе, дескать, если они будут милы, она сможет защитить их от НКВД, – опускаться не станем. Чудовищно компрометантным выглядит само допущение, сама возможность таких слухов.
Достаточно того, что гражданским мужем О. Л. Книппер в конце 1920-х и в 1930-е годы был литератор-либреттист Н. Д. Волков (моложе ее на двадцать пять лет), в те годы – сотрудник и биограф В. С. Мейерхольда, автор первого исследования о его театре и режиссерских принципах (1929). О. Л. Книппер увела Н. Д. Волкова от молодой жены, ослепительно красивой актрисы мейерхольдовского театра Бэлы Казарозы (двоюродной бабушки писателя Леонида Юзефовича, выпустившего в наши дни книгу о ней). Молодая женщина в результате покончила самоубийством. Обстоятельство, никак не смутившее Ольгу Леонардовну и не потревожившее ее покоя.
А чтобы закрыть эту неприятную тему, приведем одно свидетельство, малоизвестное, так как обнародовано оно в «непрофильном» издании – в воспоминаниях некоего Дмитрия Николаевича Голубкова, в 1950-1960-х годах успешного московского литератора и редактора издательства «Советский писатель». В историю литературы Д. Н. Голубков, хотя он и написал немало интересного, вошел как прототип одного из персонажей рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал».
Рассказ, исполненный томительного, почти мистического предчувствия беды, – это рассказ о самом авторе и его крошечном сыне… Мучительным лейтмотивом повествования является история соседа Ю. Казакова по Абрамцеву. Молодой человек, спортивный, подтянутый, деятельный и целеустремленный, купавшийся в местной речушке до глубокой осени и коривший автора за отсутствие в его жизни бодрости, внезапно покончил с собой.
Причиной была безысходная, как он считал, семейная ситуация: женщина, ставшая его женой, оказалась совсем другого человеческого вещества. Хорошее охотничье ружье и казаковские патроны стали для него единственным выходом из положения, которое для большинства людей, даже и тогда, было бы не более чем вопросом размена квартиры.
Есть у Дмитрия Николаевича Голубкова в дневнике одна запись:
«Был с мамой в музее Чехова на Садовой…
Лицо молодой Книппер – некрасивое, ширококостное, жесткое и хитрое лицо жмот-бабы, делающей карьеру на имени пренебреженного ее царственной лаской мужа. (Помню рассказ В. Ф. Тарховой-Ремизовой, когда она начинающей актрисой-студенткой-филармоничкой пришла к матери Книппер – преподавательнице пения. Ее не заметили, молодая Книпперша со злым отчаянием сетовала maman: „Ох, как мне надоел этот вонючка! Хоть бы скорей помирал в этом Крыму!“ – О Чехове!)»[48]48
Голубков Д. Н. Это было совсем не в Италии… Изборник. М., 2013. С. 336.
[Закрыть]. Запись сделана мимоходом, в скобках, вскользь, как простое и обыденное подтверждение того, что видно невооруженным глазом.
Вокалистка Вера Федоровна Тархова-Ремизова, учившаяся тогда в Филармоническом обществе, была сестрой Дмитрия Федоровича Тархова – певца (заслуженного артиста РСФСР), поэта и переводчика, наставника и старшего друга Голубкова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?