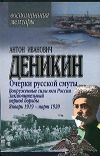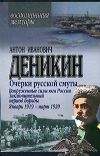Текст книги "Записки. 1917–1955"

Автор книги: Эммануил Беннигсен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Красный Крест проработал на фронте и в Эстонии до ликвидации Северо-Западной армии, когда помимо его ведома и вопреки всем международным конвенциям все его имущество было передано Юденичем эстонскому правительству. Никакие протесты в Международный Кр. Крест, организацию, вообще, как показала практика, бессильную, не помогли, и старый русский Кр. Крест всего своего имущества лишился.
Уже сряду по приезде в Ревель я убедился, по ознакомлении с обстановкой работы Кр. Креста, что дела мне в нем там будет слишком мало, и решил предложить свои услуги для работы по гражданскому управлению освобожденных от большевиков местностей. В то время в Ревеле, кроме Отдела снабжения армии, находился Отдел внешних сношений. Во главе его состоял подполковник генштаба К.А. Крузенштерн, с которым меня соединяла работа по Гос. Думе и по Кр. Кресту еще с 1907-го года. Будучи избран в Гос. Думу, я застал в ней Крузенштерна еще молодым человеком, сперва как помощника делопроизводителя Комиссии Гос. Обороны, в которой я все время до революции был членом, а потом и делопроизводителем ее. В 1915 г., будучи назначен главноуполномоченным Кр. Креста Западного фронта, я встретил здесь К.А. особоуполномоченным при 10-й армии. Вскоре он, однако, оставил Кр. Крест и ушел в Генштаб, к службе в котором был ранее признан негодным по слабости зрения и здоровья. В 1917 г. я и встретил его вновь уже в штабе фронта. В Северо-Западной армии ему были поручены сношения с союзниками и, главное, с эстонцами. В армии он пользовался репутацией одного из самых способных ее деятелей. И, действительно, будучи, кстати, человеком очень симпатичным, он обладал живым находчивым умом. К сожалению, подчас он слишком увлекался своими идеями, не считаясь с реальной обстановкой. Так, например, вскоре после моего приезда, Родзянко по его совету признал независимость Эстонии, исходя из соображения, что эстонцы сряду дадут армии все ей необходимое, она сможет сряду взять Петроград, а затем месяца через два Колчак сообщит, что он с Родзянкой не согласен. Увы, все эти мечты не оправдались и эстонцы армии ничего не дали. ‹…›
С начальником Отдела снабжений полковником генштаба Поляковым я познакомился в Ревеле впервые, произвел он на меня очень благоприятное впечатление, которое сохранилось и позднее, несмотря на то, что, в общем, в армии создалось к нему скорее враждебное отношение. Это был человек, несомненно, умный и энергичный. Стремление бороться со злоупотреблениями, которых было немало, у него несомненно было, но не всегда из его попыток что-либо выходило. Мне пришлось видеть у него, например, переписку по жалобе корпусного контролера на того же Пермикина, о котором я упоминал выше в связи с рассказом об уходе Вандама. Получив требование контролера о представлении отчета в израсходовании полученного им аванса, Пермикин явился к нему и заявил: «Если, такой-сякой, ты еще раз позволишь себе писать мне такие бумаги, то вот что получишь», – и показал ему револьвер, которым все время играл. Родзянко, которому эта жалоба была доложена Поляковым и при котором Пермикин в это время состоял, только посмеялся, и никаких последствий она не имела. Наоборот, за зиму он из полуэсаулов попал в войсковые старшины. Позднее мне пришлось прочитать, что в Польше этого Пермикина тяжело ранил какой-то офицер. Меня это не удивило. Еще в Ревеле мне рассказал полковник Валь, что был случай, что Пермикин, подойдя к группе пленных красноармейцев, уже обобранных и стоявших в одном белье на холоду, поднял у одного из них рубашку и без всякого повода выстрелил ему из револьвера в живот.
Несмотря на его трусость, его не следует смешивать с его братом, храбрым командиром Талабского полка: он пользовался популярностью среди офицеров, особенно молодых, ибо спаивал их на деньги, полученные самыми своеобразными способами. При таком отношении к делу высшего начальства задача Полякова очень затруднялась, и если принять во внимание, что ему приходилось все время заботиться о снабжении корпуса, а затем и армии, при полном почти отсутствии денег, то не удивительно, что нарекания на его деятельность были и постоянны, и многочисленны. Поляков был один из немногих военных чинов армии, интересовавшихся общественными настроениями, с которыми он ближе познакомился в одной из московских тюрем, где судьба свела его с руководителями белого движения в центре России. К сожалению, при всем своем интересе к общественным вопросам, именно он никакого отношения к вопросам гражданского устроения края не имел.
Из разговоров с Крузенштерном и Поляковым, а также и с другими лицами, я составил себе общее впечатление об отношении эстонцев к Северо-Западной армии. Еще недавно мысль о полной независимости Эстонии была чужда не только массам эстонского народа, но и его интеллигенции. Но Октябрьский переворот и его национальные идеи породили и здесь это движение, и потом оно стало распространяться и пускать корни. Во всяком случае, я боюсь, однако, сказать, насколько оно было освоено всем народом. Необходимо, однако, отметить, что враждебного отношения к русским, как к таковым, я в массах не наблюдал. Несколько иным было отношение к Северо-Западной армии. Причин этого было две: с одной стороны красная пропаганда, распространявшая убеждение, что лишь благодаря армии продолжается война, совершенно Эстонии не нужная, ибо победа белых имела бы последствием лишь восстановление в России старого режима, враждебного независимости края. С другой стороны, эстонцы опасались тех, хоть и слабых, но несомненных связей, которые установилась между армией и местными немецкими помещичьими кругами. Следует сказать, что распространению этих последних опасений способствовали отчасти и наши же соотечественники.
Еще в начале 1919 г. оказалась в русской среде в Ревеле определенная кружковщина. В ней выделился тогда присяжный поверенный Иванов, как говорили, инициатор пропагандировавшихся во время войны «Вечерним Временем» общественных заводов. По-видимому, человек с чрезмерным честолюбием (лично я его совершенно не знал, почему и могу судить о нем лишь по общему впечатлению, основанному, впрочем, на удивительно единодушных о нем рассказах), он попытался играть в русских кругах Ревеля руководящую роль. Это ему с самого начала не удалось. Тогда он перешел на сторону Балаховича, бывшему все время, не переставая, в оппозиции командованию – сперва корпуса, а затем армии. Началось рекламирование сего последнего, и этой цели стала служить основанная в Ревеле русская газетка, видное участие в которой принимал бывший член Гос. Думы князь Мансырев. Достигалось это, главным образом, именно обвинениями противников Балаховича в германских симпатиях и в антидемократизме. Уже в Думе Мансырев ушел из кадетской фракции из-за своего болезненного германофобства, теперь же это чувство обострилось у него еще более и выражалось в постоянных обвинениях в германофильстве высшего командного состава армии. Несомненно, что среди него было много носящих немецкие фамилии, также несомненно, что среди них были и совершенные немцы, но громадное большинство этих носителей немецких фамилий душою и всеми связями были вполне русскими. Кроме того, а это было главное, все великолепно сознавали в армии (и я категорически утверждаю, что ни разу не слышал ни одного противного мнения), что иная ориентация, кроме союзнической, для нее невозможна.
При таком положении работа Иванова и Мансырева была и несправедлива по существу, и крайне вредна для взаимоотношений армии с эстонцами. Далее, восхваляя Балаховича, необходимо было опорочивать и социальные тенденции армии. Здесь Иванов и Мансырев сошлись в воззрениях с русской социалистической группой. Официально эта последняя тогда себя не проявляла, и поэтому я знаю о ней больше со слов бывшего позднее министром почт и телеграфов в правительстве Лианозова М.М. Филиппео. Он сам называл себя только симпатизирующим социалистам, но уверял, что бывал на всех их собраниях и что знает, поэтому, хорошо их деятельность. Больше 10 человек их якобы не собиралось, причем руководящую роль играл среди них Дюшен. Называл он еще среди них директора Ревельского реального училища Пешкова, позднее тоже министра при Лианозове, впрочем, кажется социалиста по недоразумению. Однако, несмотря на несочувствие политической ориентации армии, деятельность этой группы вовне не сказывалась, и работе армии сознательно никогда не вредила. Много говорили про близость Иванова эстонским официальным кругам, которые тоже симпатизировали Балаховичу.
После отхода от Пскова, в конце 1918 г. корпус заключил соглашение с эстонским правительством, согласно коему последнее принимало на себя полное его содержание. Теперь срок этого соглашения истекал, и надо было установить modus vivendi и на дальнейшее время. Я как раз и застал командование армии за разрешением этого вопроса. Те лица, с которыми я говорил, были настроены очень оптимистично: «Завтра Родзянко напишет письмо эстонцам, в котором признает независимость Эстонии, в ответ мы получим заявление об их готовности нам помогать и впредь; сряду будет установлен план общего движения на Петроград, и успех нам обеспечен», – говорил мне К.Крузенштерн. У меня этот оптимизм вызвал большое недоумение. Я задал вопрос, какое будет отношение к признанию независимости Эстонии со стороны Юденича и Колчака? «Юденич сам ответа не даст и запросит Колчака, а если этот после и дезавуирует нас, то это будет не раньше месяца, а пока соглашение с эстонцами будет подписано», – отвечали мне.
Мои сомнения оказались, однако, правильными – эстонцы показали себя совсем не такими глупенькими, какими рисовали их себе деятели штаба армии, и соглашение не было подписано ни сразу после письма Родзянко, оказавшегося, таким образом, холостым зарядом, ни позднее. Переговоры тянулись еще в октябре по самым разнообразным вопросам и ни к какому разрешению не привели. Мне не пришлось иметь дела лично с представителями эстонской власти этого периода. В большинстве это были люди очень умеренные и осторожные. В своих внешних выступлениях они руководились тогда указаниями, по-видимому, главным образом английских представителей. Не обходилось, однако, благодаря скоропалительности сформирования всего государственного аппарата, без большого количества курьезов. Например, летом 1919 г., когда эстонская полиция усиленно разыскивала и арестовывала коммунистических вожаков, в парламенте был предъявлен запрос о действиях министра внутренних дел, который в своей квартире укрывал главного руководителя коммунистического движения, если память мне не изменяет, то того самого Кингисеппа, который года через два был всё-таки повешен по приговору эстонского суда, и в честь коего был переименован Ямбург. Министру пришлось уйти.
Много насмешек среди самих эстонцев вызывал их морской министр, ранее штурман дальнего плавания, а ныне «адмирал». Уверяли, что фамилия его дважды фигурировала в Ревельских справках о судимости по делам о покупке заведомо краденого, ибо он, якобы, занимался скупкой у матросов пропиваемого ими казенного имущества. Посмеивались и над его званием адмирала, ибо весь эстонский флот состоял в то время из двух миноносцев типа «Новик», захваченных англичанами у большевиков при их набеге на Ревель предшествующей зимой и переданных ими эстонцам. Команды на этих судах были эстонские, офицеры же были русского военного флота. Команды им, по словам наших морских офицеров, не доверяли, и все время держали их под наблюдением. В числе взятых на этих миноносцах в плен офицеров был известный большевик мичман Раскольников, которого, впрочем, англичане обменяли на какого-то интересовавшего их узника.
Ознакомившись, насколько я мог, с обстановкой в Красном Кресте, я убедился, что работа моя там не понадобится, ибо и так всюду было чрезмерное количество служащих, и решил ехать в Нарву. Переезд в эту последнюю совершался тогда с полными удобствами, за 10 часов. Железная дорога была приведена в порядок, были даже вновь открыты буфеты везде, где они ранее существовали. Следы войны были заметны только около самой Нарвы. Эта последняя пострадала особенно сильно за время тянувшейся несколько месяцев бомбардировки ее красными из тяжелых орудий. Сгорела станция железной дороги и весь квартал между нею и Наровой. Железнодорожный мост был взорван и восстановлен только к концу июля. Кроме того, во всем городе виднелись следы бомбардировки: где пробита стена, где крыша, а где и отдельный сгоревший дом. Вообще, у города был очень унылый вид. Мало оживляли его и солдаты, в большом количестве бродившие по улицам: эстонские, одетые получше, русские – похуже, но и те, и другие довольно распущенные. Устроиться в городе было нелегко, ибо весь он был переполнен разными учреждениями. Первую ночь по приезде мне пришлось провести на бильярде. Единственный плюс этого ночлега было отсутствие клопов, которых, вообще, в обеих местных гостиницах был большой запас. Первое время все русские учреждения разместились в Нарве очень просторно, но позднее, когда в нее перешли сперва штаб Юденича, а затем и штаб эстонской дивизии, им пришлось сильно потесниться. Достать в городе было возможно уже почти все, и с каждым днем количество товаров в магазинах заметно увеличивалось, но цены для громадного большинства населения были еще недоступны, да и товар был второсортный. Единственное, что поражало, это великолепные кондитерские, всегда заполненные офицерами, для коих они были главным развлечением. Вино открыто не продавалось, но пьяные попадались постоянно.
В Нарве я познакомился впервые с Родзянко и Крузенштерном и со штабом армии. В довоенное время Родзянко, тогда еще ротмистр, был известен, как один из лучших наших скакунов. Человек скорее безвредный по своим природным качествам, хотя и не умный, он, кроме лошади, мало чем интересовался. Война мало дала ему опыта, ибо собственно в боевых операциях он, кажется, принимал очень малое участие. Став командующим армией, он сохранил свои качества хорошего рядового кавалериста, и всегда немедленно переносился в те места, где положение представлялось наиболее серьезным. Бывали случаи, что в тяжелые минуты Родзянко схватывал первую попавшуюся роту или батальон и сам вел ее затыкать образовавшийся прорыв. Войска привыкли видеть его в своей среде и поэтому любили его. Однако такие поездки его на фронт при неналаженности сообщений отвлекали его от штаба часто на два, а подчас и на три дня.
В это время управление армией переходило к «Полевому штабу», ибо Крузенштерн, начальник нормального штаба, ведал исключительно тылом и гражданским управлением, и в оперативную часть не вмешивался. Полевой штаб находился под начальством милого человека полковника фон Зейдлица, во время войны эскадронного командира Лейб-гвардии Драгунского полка, а до нее служившего по коннозаводству, большого знатока и любителя лошади и охоты. Его специально военные познания вызывали, однако, у большинства сильные сомнения. Оперативным отделением ведал ротмистр Костанда, произведенный в офицеры в самом начале войны. Молодой человек, очень симпатичный, горячо относящийся к своему делу и уже поработавший в деле организации крестьянских восстаний в Новгородской губернии, он был душою Полевого штаба. Насколько у него было достаточно опыта для такого ответственного дела, я побоялся бы ответить.
Как я уже упомянул, Крузенштерн ведал только вопросами, не касающимися оперативной части. С ним мне и пришлось больше всего иметь в дальнейшем дело. У меня осталось о нем приятное впечатление как о человеке, но я должен сказать прямо, что у него был очень большой, особенно для военного, недостаток – это его нерешительность. Во время Великой войны он был начальником штаба 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии, но славы не приобрел. Вопросы гражданского строя ему, как и вообще нашим военным, были весьма мало знакомы, и посему в них его нерешительность сказывалась особенно сильно. Из числа его ближайших помощников упомяну полковника барона Людингхаузен-Вольфа, занимавшего пост дежурного генерала армии. Положение его при тех несколько мексиканских нравах, которые царили в армии, было довольно трудным, но он сумел с ним справляться, благодаря своему такту и порядочности, а когда в сентябре его заменил юный птенец армии полковник Видякин, то многие пожалели о его уходе.
Сам Вольф смотрел на свою деятельность, по-видимому, довольно иронически. Как-то, прочитав какой-то довольно неожиданный приказ о производстве или награждении, я спросил его, до каких пределов в этом отношении идут полномочия армии, и получил ответ: «Как вам сказать, я думаю, что до Белого Орла мы пойдем. Вот хотите, например, получить Владимира 2-й степени?». По-видимому, часто награждения от того и зависели, кто что себе попросит. В 1925 г. бедный Вольф сошел в Париже с ума и вскоре умер.
Видную роль играл еще начальник Военных Сообщений полк. Третьяков, ибо в его ведении находились железные дороги армии. Основной и почти постоянной его заботой было приведение в порядок мостов, которые взрывались то на одном, то на другом участке нашего неустойчивого фронта. Я уже упоминал, что еще в начале июля не был восстановлен мост через Нарову, и только в начале июля был исправлен мост через Плюссу, в 7 верстах от Нарвы. Был взорван и чинился также мост чрез реку Великую в Пскове. Исправленный довольно быстро мост через Лугу в Ямбурге, был вновь взорван при оставлении белыми этого города в конце июля, и на этот раз по скоропалительному приказанию Родзянко, – взорван столь основательно, что первоначально даже считали быстрое его восстановление невозможным. Между тем, срочное его восстановление являлось необходимым для успеха движения на Петроград. Понятен рассказ, что Юденич якобы плакал, узнав про распоряжение Родзянко, и хотел его будто бы отдать под суд. Началось придумывание, как помочь беде, привлекли специалистов этого дела, бывшего управляющего Либаво-Роменской дороги фон Зеля и знатока мостового дела инженера Шелавина. В результате, на Плюссе срубили и собрали деревянный мост, который потом, после взятия Ямбурга был перевезен и поставлен на место, что, однако, потребовало около месяца, и мост был закончен только ко времени нашего отхода.
Вторым серьезным вопросом для нашего управления Военных Сообщений был вопрос подвижного состава. В его распоряжении все лето было не больше 17 паровозов, да и то частью слабосильных. Между тем, приходилось обслуживать всю линию от Нарвы до Пскова (около 200 верст) и участок от Нарвы до Ямбурга-Волосова, а временами и головные участки от Пскова к Луге, Старой Руссе и Острову. Кроме того, иногда приходилось направлять подвижной состав на эстонские линии, которые могли уделять армии очень ограниченное количество вагонов и в периоды усиленных военных перевозок и наплыва военных грузов не справлялись с этой задачей. Наконец, часть вагонов почти всегда была занята под жилье, а позднее беженцами. Наконец, немало забот доставлял Третьякову вопрос об обеспечении железнодорожных служащих. Денег у армии хронически не было, и поэтому кроме пайка, они не получали ничего.
Вскоре после моего приезда я услышал про недовольство и брожение среди них. Ни в чем внешнем оно тогда не выявилось, но, в общем, благодаря ему на них было обращено особое внимание, и жалованье за май им было выплачено уже в середине и в конце июня, тогда как чинам Министерства внутренних дел оно выплачивалось только в конце июля. Много разговоров вызывало чрезмерное количество железнодорожников, особенно в Псковском уезде. По расчетам там было необходимо не более 1000 человек, тогда как их было свыше 4000. Уволить излишек – значит обречь их и их семьи на голодную смерть, ибо найти другой заработок в Пскове было невозможно, почему их и продолжали числить на службе. Разрешен этот вопрос был только в конце августа обратным переходом Пскова к большевикам. Должен оговориться, что несмотря на все льготы, положение железнодорожников было крайне тяжелое, и, например, в Пскове мне рассказывали, что еще в июне в железнодорожном поселке были случаи смерти детей от истощения. Не облегчало их положение и отношение к ним многих военных, позволявших себе подчас совершенно недопустимые выходки, на которые высшее начальство должным образом не реагировало, один Пермикин чего стоил.
Все заведование гражданской частью было сосредоточено в Военно-Гражданском Управлении, во главе которого стоял полковник Измайловского полка Хомутов, совершенно еще молодой человек, пошедший на войну не то поручиком, не то подпоручиком. Управление было сформировано в несколько дней, ибо вопрос об устройстве освобожденных от большевиков местностей был в армии совершенно не разработан. Вполне естественно, что брались не те люди, кого следовало бы, а те, кто подвертывался. Мне несколько раз говорили, что штаб армии очень хотел привлечь к делу гражданского управления члена Гос. Думы Л.А. Зиновьева (сына главноуполномоченного Кр. Креста), но он от этого уклонился, других же заметных общественных деятелей в Ревеле в то время не нашлось.
При Хомутове состояло очень многочисленное управление, с массой офицеров, ожидавших назначения на разные должности и с небольшим числом бывших полицейских чиновников Эстляндской губернии. Непосредственно Хомутову были подчинены уездные коменданты, в то время два – Ямбургский и Гдовский, должности которых занимали полковники Бибиков и Саломанов. Первый из них был типичный барин, не особенно любящий работать, но очень добродушный и порядочный человек, которого население Ямбурга в массе быстро полюбило. Бибиков стремился действовать закономерно, но понятие о пределах его власти было у него весьма неясное. В отдельных случаях он отдавал, благодаря этому, распоряжения весьма удачные, вроде, например, приказа о производстве выборов в уездное и волостные земства, по особой системе, правда, подсказанной ему членом Гос. Думы Евсеевым, в других же, поступал совершенно неправомерно, что и вызвало в конце концов вмешательство военно-прокурорского надзора.
Полковник Саломанов был в совершенно ином роде. Человек крайне выдержанный, спокойный, он не боялся ответственных решений, но принимал их только в случае необходимости и всегда только в пределах своих прав. Георгиевский кавалер, он любил военное дело и вскоре, сформировав в Гдове особый полк, ушел во главе его обратно в строй. Он сумел быть и хорошим администратором, вполне понимающим необходимость считаться с условиями революционного времени и, конечно, с условной законностью.
В подчинении уездным комендантам находились волостные. Это было самое больное место так называемого гражданского управления. Эти должности были замещены большей частью офицерами младших чинов, производства почти сплошь послереволюционного времени, и в большинстве без всякого образовательного ценза. В нескольких случаях это были бывшие прежние низшие полицейские чины. По характеру их деятельности они должны быть ближе всего походить на прежних урядников, но условия военного времени и слабость надзора за ними значительно расширили пределы их власти, между тем, как и для успешного-то несения просто уряднических обязанностей большинство этих комендантов было непригодно. В подчинении волостных комендантов была полицейская стража – по пяти человек на волость. При том состоянии брожения и неустойчивости фронта, которая все время наблюдалась и при легкости прорыва его, для сопротивления большевистским отрядам это было недостаточно, с другой же стороны, для поддержания порядка их было даже слишком много, ибо население держалось все время удивительно спокойно. Кроме того, при уездных комендантах были особые полицейские команды.
Ознакомившись наскоро с порядками и организацией Штаба, я обратился к Крузенштерну с предложением моих услуг. Принял он меня очень любезно и почти сряду предложил мне занять должность главноуполномоченного по продовольственной части. С делом этим я был знаком по прежней работе в Новгородской губернии и поэтому не отказался от его предложения, причем попросил его только дать мне, по возможности, более скромное название. Это вызвало искреннее изумление генерала: «Знаете, Вы первый у нас не гонитесь за громким званием». После этого я был наименован состоящим в распоряжении Командующего армией по продовольственной части, и мне же было поручено составить себе инструкцию. Нужно сказать, что распоряжением Полякова была уже создана целая продовольственная организация, и я отнюдь не хотел ей мешать. Моей задачей должно было явиться преимущественно рассмотрение жалоб, поступавших по продовольственной части в штаб армии, в котором до сего времени никого, кто бы ведал этим делом, не было. Однако, еще раньше, чем инструкция мне была утверждена, вся организация гражданского управления была подвергнута пересмотру, и в связи с этим и мне в продовольственной части делать ничего не пришлось. В связи с этими предположениями мне пришлось, однако, познакомиться с продовольственным положением района, к которому я теперь и перейду.
Как и весь Север России, район деятельности армии принадлежал к местностям, потребляющим привозной хлеб. За годы войны и революции это положение только обострилось, ибо, с одной стороны, сильно уменьшилось количество лошадей и рогатого скота, а в связи с этим и навоза (в Ямбургском уезде на 60 и 80 % их), а с другой стороны увеличилось население, вследствие переселения обывателей из голодающего Петрограда в соседние уезды и губернии. В Гдовском уезде, например, население увеличилось за время с 1916 по 1919 г. почти на 10.000 человек. Так как уменьшение скота не дало возможности увеличить запашки и поднять урожайность, то нужда населения в хлебе могла только увеличиться, тогда как подвоз его совершенно прекратился. Приход белых улучшил это положение, ибо армии удалось получить для населения освобожденного района муку от американцев. Вот для распределения ее и была создана особая организация. В центре, в управлении Полякова, ею ведал приват-доцент Корсаков, а на местах имелись уполномоченные: в Нарве (управляющий машиностроительным заводом Зиновьева Вирх) и в Пскове (член Окружного суда, фамилию которого я забыл). Ими по соглашению с Земскими и Городскими управами устанавливалось необходимое населению количество муки, которое доставлялось на железнодорожные станции.
Дальнейшее распределение муки производилось распоряжением управ. Большие споры вызвало установление продажной цены на муку. Себестоимость ее определялась от 2 до 2,40 руб. за фунт. Так как, однако, у армии денег совершенно не было, то Поляков решил значительно повысить ее цену, дабы доходами от нее покрыть другие расходы армии. Скачек был, однако сделан очень резкий, а именно: до 10 руб. за фунт, что вызвало положительно всеобщий вопль. После довольно продолжительных переговоров, в коих Поляков упорно не хотел уступать, цена эта была понижена до 5 рублей, что внесло сряду значительное успокоение, а уборка нового урожая освободила совсем армию от забот о снабжении хлебом деревни, что значительно облегчило и ее финансовые трудности, хотя и временно. Тем не менее, на довольствии осталось после отхода от Пскова и Ямбурга около 54.000 человек, тогда как собственно в армии было всего 18.000. Объяснялось это тем, что, не имея возможности выплачивать своим служащим жалованье деньгами, армия была вынуждена хотя бы только кормить их и их семьи. Паек, состоявший обычно из хлеба или муки и бекона, получали и железнодорожники, и гражданские служащие.
Отмечу также, что, благодаря нахождению армии в чужом крае, где найти работу было крайне трудно даже здоровому, громадное большинство инвалидов и слабосильных по выписке из госпиталей возвращалось в свои части, невероятно увеличивая их обозы. Мне указывали, например, полк, в коем на 200 бойцов приходилось 800 нестроевых едоков. Условий первоначального поступления продовольствия от американцев я не знаю. Позднее же, в предвидении взятия Петрограда, генералом Гермониусом был заключен в Париже с американским правительством особый договор, согласно которому и получалось продовольствие для населения, из запасов коего, находившихся в Финляндии, в случае нужды производились позаимствования и для нужд армии. Расплата за эту муку была отсрочена на очень отдаленные сроки. Американцы же производили и дополнительное усиленное питание детей. Мне пришлось видеть их столовую в Гдове, работавшую уже в то время, когда, например, у городского головы еще угощали гостей одним кипятком, за неимением чая. Нечего и говорить о том громадном значении, которая эта американская помощь имела.
Я уже не раз упоминал про недостаток средств, с которым армии все время приходилось бороться. К этому вопросу я и перейду. Платежным средством были царские рубли, керенки и эстонские марки. Последние принимались всюду и всеми, царские рубли тоже принимались, керенки же шли очень туго. Последним повредила сама же армия, издавшая приказ о приеме их во все казенные платежи в половинной против царских рублей стоимости. Балахович этого приказа долго не признавал, и наоборот, сажал в тюрьму тех, кто не принимал керенок в полной стоимости. Большевистские рубли, Пятаковские и другие, были объявлены не имеющими ценности, что тоже следует признать крупной ошибкой, ибо вызвало недовольство населения, у которого эти деньги главным образом и были. Кроме того, во время осеннего движения на Петроград, вновь освобожденные города, особенно Луга, оказались в крайне тяжелом положении, ибо только большевистские деньги и оставались у населения, и с их аннулированием не на что стало покупать у крестьян их продукты. Естественно, возник вопрос о выпуске армией своих денег. Еще когда начальником штаба был Валь, он предлагал начать печатание армией керенок. Эту идею, по-видимому, дал захват в одном из большевистских поездов типографского станка для их печатания. За это говорила легкость распространения их среди населения и невозможность для большевиков, в случае отхода белых, карать за их принятие.
Были сделаны все приготовления (еще летом 1919 г. в штабе хранилась краска для их печатания), но по «моральным» соображениям осуществлено не было. Мне кажется, что прав был скорее Валь, ибо, если говорить о моральной стороне вопроса, то еще можно спросить, что лучше – давать ли населению бумажки одного сорта с большевистскими или же такие, за которые может грозить наказание. Кстати, в Пскове Балахович и тут поступил по-своему, и стал печатать керенки, и, по-видимому, не ощущал того денежного голода, который наблюдался в армии, в которой было решено выпустить свои деньги. В Нарве в июле и появились десятирублевые бумажки за подписью Родзянко. Принимали их более или менее всюду, брали их и эстонцы, но так как уже в это время было известно, что вскоре должны появиться деньги, печатаемые по распоряжению Юденича в Стокгольме (про которые ходил слух, что они будут гарантированы английскими фунтами), то бумажки Родзянко, которых и выпущено было немного, имели лишь весьма ограниченное обращение.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?