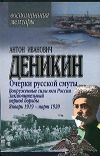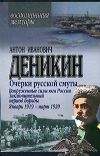Текст книги "Записки. 1917–1955"

Автор книги: Эммануил Беннигсен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Из Гдова я направился на станцию Гостицы, где по телеграмме коменданта мне были приготовлены «лошади». Говоря проще, это были простые крестьянские клячи, запряженные в одноколые, или как их у нас в Новгородской губернии называли, «навозные» телеги. Лошади только под горку бежали рысцой, а то шли шагом, и в результате, нигде не задерживаясь и получая лошадей вне очереди, мне удалось развить среднюю скорость в 4 версты в час – обычно ездили по уезду еще медленнее. До штаба и обратно, до станции Пола, мне пришлось проехать около 120 верст, причем везли меня, сменяясь, более 10 крестьян, разных темпераментов и возрастов. Первый из них определил меня как земского доктора, против чего я не протестовал, ибо как такового меня меньше остерегались, и я мог проверить, таким образом, свои прежние наблюдения.
Скажу, что я ехал по довольно богатым в мирное время местам. Много крестьян уходило отсюда на заработки в Петроград, где очень многие из них работали, а то и имели лавки на Сенной. По деревням часто попадались каменные дома Петроградских торговцев, теперь большей частью вернувшихся на родину. В это время все имело, однако, уже довольно опустившийся вид. Постоялые дворы были частью закрыты, а в открытых давали один кипяток. Кое-где с трудом удавалось получить хлеб и яйца, так что я и мой спутник, состоявший при мне лейтенант Волков, питались только нашими Нарвскими запасами. Много говорили тогда про обогащение крестьян при большевиках. Это оказалось тогда верным на Севере только в отношении тех немногих из них, у которых хватало своего хлеба, да и то, было ли обогащением накопление мешков разных бумажек. У большинства же и их не было, ибо все, что удавалось зарабатывать, сразу уходило на покупку муки. В обстановке изб никакого улучшения тоже мне видеть не пришлось. Зато лошади и частью рогатый скот – это главное богатство крестьян, были в очень печальном состоянии, и в общем, даже не зависимо от военных действий, население обеднело. Про старые порядки говорили безразлично, раза два упоминали «при Николае». Выражений «при царе» или «при Государе» я не слыхал ни разу. Осторожно относились к белым, ругать их прямо, конечно, боялись, но недовольство проскальзывало очень ясно. Я уже упоминал про главную его причину – подводную повинность. Крестьянам приходилось в среднем из 5 лошадиных дней отдавать армии три, а это было во время уборки ржи и подготовки и производства озимого посева. Было недовольство и самовольством солдат, раздавались жалобы на покражи яблок и картофеля с полей. Более же всего жаловались на кражу табака, который был посажен почти во всех огородах. Качество этого табака было, конечно, очень низкое, но за отсутствием подвоза настоящего, крестьяне очень им дорожили. Этот же недостаток табака особенно приманивал в крестьянские огороды и солдат.
На крупные насилия со стороны солдат и убийства я совершенно жалоб не слышал, не находили ничего чрезвычайного и в расстрелах. Наоборот, когда под вечер стали раздаваться отдельные выстрелы, то мой возница с явным недовольством объяснил мне, что солдаты глушат рыбу в озерах, приставив дуло ружья к воде: «Сколько зря мелочи перепортят», – прибавил он. Меня интересовал вопрос об отношении крестьян к распоряжению штаба армии о возвращении разграбленного частного имущества его собственникам и относительно земельного вопроса. Выяснилось, однако, что в этом районе и то, и другое применения почти не имело, а посему тыловые наши споры по этому вопросу имели чисто теоретический характер. Недовольства им я, во всяком случае, не почувствовал, как в разговорах с Ямбургскими крестьянами о возврате движимости. Наоборот, эти приказы служили, как я упоминал, наиболее важным предметом нападок на армию для левых кругов, и чем дальше от фронта, тем больше.
В штабе корпуса Пален принял меня очень любезно. Я его раньше лично не знал. Адя его любил как хорошего товарища по полку и человека, но не особенно высоко ставил его ум. Во время войны он вернулся в строй, и в конце ее командовал пехотным полком, выделенным из 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Я сделал ему доклад о текущих делах и о моих предположениях, на что он выразил пожелание, чтобы я по возможности чаще бывал в штабе и по возможности приблизил бы к нему мое Управление. Он отлично сознавал непорядки гражданского управления и свое бессилие с ними справиться и поэтому и дорожил постоянной связью с моим Управлением. До сих пор она осуществлялась особыми офицерами для связи, но была чисто фиктивной уже хотя бы потому, что эти офицеры никакого понятия о гражданском управлении не имели. Установить связь с Паленом мне, однако, не пришлось, ибо мое подчинение ему прекратилось уже через неделю.
Штаб Палена был очень немногочислен и состоял исключительно из молодежи. Незадолго до моего приезда в нем случилось событие, вызвавшее в армии большие толки. Один из офицеров штаба, некий Щуровский, будучи совершенно пьяным, когда к его кровати подошел начальник корпусной контрразведки лейтенант Ломен, взял свой револьвер и выстрелил Ломену в живот, а сам повернулся на другой бок и заснул. Ломен смог только выйти из комнаты, сказать несколько слов и умер. Пален счел возможным ограничиться наложением на убийцу дисциплинарного взыскания. Однако через некоторое время против виновного было возбуждено военной прокуратурой уголовное преследование. Было известно, что он еще в Пскове судился военно-полевым судом за сношения с большевиками, но был оправдан тогда. Теперь стали утверждать, что у Ломена были новые улики против Щуровского и, чтобы избавиться от нового суда, убийца сперва симулировал опьянение, а затем сознательно застрелил Ломена. Ко времени начала ликвидации армии это дело закончено не было, и к чему оно привело, я не знаю.
Ездил я к Палену безо всякой охраны и без оружия с одним, тоже безоружным, спутником. Нужно отметить, что за все это время общая преступность была исключительно низка. Лишь позднее, в сентябре, имело место убийство с целью грабежа одного из лесничих Ямбургского уезда, но и то убийцами оказались эстонские солдаты.
После разговоров о большевизме и войне меня перенесли в совсем другую эпоху рассказы о том, как в одном из сел, через которые мы проезжали, крестьяне все еще работали «по колоколу». Рано утром по удару колокола начинают работы и по другим ударам прерывают и кончают их. Никто не смеет самостоятельно без других начинать работу в поле, будь то вспашка его, сенокос или уборка хлеба. Объясняли мне, что «боятся мужики друг друга, и не пускают никого одного в поле».
Вернувшись от Палена в Нарву, я нашел здесь напряженное ожидание, чем кончатся в Ревеле переговоры о сформировании Северо-Западного правительства. В эмиграции часто писалось о том, как английский генерал Марч, вызвав группу русских общественных деятелей из Пскова, Гельсингфорса, Ревеля и Нарвы и сказав им небольшую речь о необходимости объединения всех русских организаций и соглашения с эстонцами, прочел список предлагаемых им кандидатов в состав правительства, после чего, дав 40 минут на обсуждение его предложения, удалился. Кто внушил Марчу эту бесцеремонную выходку, неизвестно, но определенно указывали, что за несколько дней до этого он ездил в Псков, где имел разговоры с Балаховичем. Все время вертелся около него Иванов. В числе вызванных не было ни Юденича, ни Родзянко. Приехавший же вместе с другими членами совещания при Юдениче, но Марчем не приглашенный, Кузьмин-Караваев, был им очень резко удален. Созванные Марчем лица знали друг друга очень мало, и вполне естественно в 40 минут столковаться не могли.
Поэтому, по возвращении Марча, от имени собравшихся генерал Суворов заявил ему, что они просят дать им отсрочку. В результате правительство было сформировано через 2 или 3 дня. Решительно отказался войти в него один генерал Суворов. Карташев сперва согласился войти в состав правительства, но сряду отказался, и в работе правительства участия не принимал. Юденич вошел в него в качестве военного министра, но продолжал действовать совершенно самостоятельно и с правительством не считался. Председателем Совета Министров и министром Иностранных дел и финансов оказался Лианозов, крупный нефтепромышленник, политикой раньше не занимавшийся. Это был человек умный и очень осторожный, умело лавировавший между различными течениями и вынесший свое имя чистым из этого неудачного изобретения генерала Марча. В Нарве высказывалось предположение, что он согласился войти в состав правительства только по просьбе остальных членов совещания при Юдениче.
В действительности иностранными делами продолжал ведать К. Крузенштерн, переименованный теперь в товарищи министра. Александров стал министром внутренних дел, но уже через неделю ушел в отставку и уехал в Финляндию. На мой вопрос о причинах его ухода, он ответил мне, что не желает скомпрометировать свое, хотя и маленькое, но до сих пор честное имя (он имел в виду заказы, сделанные Маргулиесом и вызвавшие очень критическое к себе отношение). Его заменил временно министр юстиции Кедрин, пока в конце октября не был назначен министром внутренних дел Евсеев, до того бывший министром исповеданий. Кедрин, несмотря на свои преклонные годы и больное сердце, сведшее его вскоре в могилу, обладал прежней юношеской энергией и удивительной чистотой души. Дел ведомства он совершенно не знал, и поэтому наиболее серьезные вопросы лежали у него без движения, например, об организации полиции и о местном самоуправлении. Не было у Евгения Ивановича, всегда находившегося ранее в Петербургской Городской Думе в оппозиции, административного опыта, а также и знания деревни, почему мне часто приходилось спорить с ним по самым различным вопросам, но по существу дела мне не приходилось обычно расходиться с ним во взглядах. В составе правительства Кедрин чувствовал себя не по себе. Его возмущало отношение к правительству Юденича и вообще военных властей, не сочувствовал он легкомыслию Маргулиеса и побаивался все время, как бы не подвели другие министры-социалисты.
Столь же хорошие отношения продолжали у меня оставаться с Евсеевым. У него было как раз то, чего не было у Кедрина – и знание деревни, и известный административный опыт. Если к этому прибавить его редкую чистоту души, то понятно, что работать с ним было удивительно легко. Евсеев кончил только Учительскую Семинарию и прекрасно сознавал недостаточность своего образования – раза два он мне говорил про это, подчеркивая, что высшее образование облегчает мне быстрое усвоение многих вопросов.
Немало разговоров вызвала деятельность Петроградского гласного присяжного поверенного Маргулиеса, назначенного сразу министром торговли и промышленности, снабжений и народного здравия. Человек весьма экспансивный и весьма легко говорящий, он, по-видимому, часто поступал под влиянием первых импульсов, что вызывало нарекания на него как со стороны его сотоварищей по кабинету, так и вообще русских кругов. Кто-то пустил еще вдобавок слух, что у него были крупные недоразумения в Одессе, в период гражданской войны, и в результате отношение к нему военных кругов было враждебное. Теперь, когда все более или менее выяснилось, по-видимому, можно сказать, что за Одессу с белой стороны ничего вменять Маргулиесу не приходится, но остается обвинение, что его красноречие увлекало его подчас слишком далеко, особенно когда он являлся единоличным представителем правительства.
Из остальных министров особую группу составляли псковичи: министр продовольствия Эйшинский, народного просвещения – Эрн, Государственный контролер – Горн и министр земледелия – Богданов. Первый из них ранее инженер губернского земства, позднее ведал продовольственным отделом Городской управы. Кажется, он был народным социалистом. Роли он, вообще, как и большинство министров, не сыграл, ибо у него и объекта деятельности не было. Эрна, как мне говорили в Пскове, где он был директором не то гимназии, не то реального училища, очень уважали и выбрали председателем Городской Думы. Дела начального народного образования он совершенно не знал, да и вообще, по-видимому, в административных делах терялся, и все делал Тихоницкий, занявший у него место директора канцелярии. Я его видел всего раза два, и он произвел на меня впечатление божьей коровки. Государственный контролер Горн, ранее присяжный поверенный, более, кажется, сотрудничал в официальной газете, все время издававшейся под различными заглавиями под редакцией двух позднейших сменовеховцев – Кирдецова и Дюшена. Прямой работы у него не могло быть, ибо в армии был собственный контроль, который и поверял всю отчетность, и в том числе гражданских учреждений. Последний из министров-псковичей, Богданов, считался специалистом по земельному вопросу, ибо окончил курс землемерного училища, а, кроме того, был эсером. Этот совсем еще молодой человек осенью 1917-го года был выбран председателем сперва волостной управы, а затем, уже после большевистского переворота, и уездной земской управы, а, следовательно, был и общественным деятелем. В Северо-Западном правительстве он изображал крайний левый элемент.
Министр почт и телеграфов Филиппео в одной из ревельских газет был охарактеризован как «ревельский житель». Больше про него, пожалуй, трудно было что-либо сказать. Уже пожилой человек, добродушный и благожелательный ко всем, он был типом провинциального либерального обывателя, всем нам до революции хорошо знакомого. До революции он был подрядчиком по постройке в Ревеле казенных сооружений и многим особого доверия не внушал. Почта и телеграф были в ведении полковника Третьякова, и для Филиппео никакого дела не было. Ввиду этого, его деятельность сводилась к поездкам на фронт, раздаче подарков солдатам, а попутно и официальных газет правительства, которые военное начальство в войска не пропускало.
Наконец, в состав правительства вошел еще пресловутый Иванов, но лишь министром без портфеля. Против него были особенно все псковичи, знакомые с его деятельностью при Балаховиче и не желавшие сидеть с ним вместе. Ввиду настояний Марча, его пришлось оставить в списке, но портфеля он не получил, да и то пробыл министром всего около двух недель – после ареста штаба Балаховича он написал правительству резкое письмо, добавив, что после этого он не считает возможным оставаться в его составе. Прочие министры истолковали эту фразу, как прошение об отставке и постановили считать его уволенным от должности, кажется, к общему удовлетворению. Вскоре после этого в газетах появилось открытое письмо к Иванову полковника Валя, в котором он обвинялся на основании целого ряда фактов в том, что вся его работа была на пользу большевиков. Иванов на это письмо не ответил, а вскоре в газетах появилось сообщение, что он перешел через большевистский фронт.
Первым актом правительства было признать независимость Эстонии, на чем особенно настаивал Марч. Англичане обещали, что после этого сряду будет заключен союз с эстонцами, и они всеми силами примут участие в наступлении на Петроград. Дальнейшее показало, однако, что никакого союза заключено не было, и что в октябрьском наступлении эстонцы приняли очень слабое участие. В конце августа правительство издало декларацию, по которой государственная власть должна была быть создана на началах народовластия, путем созыва Учредительного собрания, избираемого путем четыреххвостки. Земля временно оставлялась за «земледельческим населением», и сделки на внегородские земли запрещались.
Выше я уже говорил по поводу отдельных вопросов, что было сделано правительством. Здесь скажу еще, что отношение к нему, как в военных кругах, так и вообще в русских было отрицательным независимо от его деятельности: в нем видели власть, посаженную англичанами, зависящую от эстонцев, и не хотели видеть в нем свою, хотя бы областную власть. Лично у меня, как я уже говорил, были самые лучшие отношения с некоторыми министрами и вполне корректные с остальными, да и теперь я могу только признать их полное желание сделать все для блага и армии, и родины вообще. Я ни разу не видел ни в ком из них, кроме Богданова, никакой партийности, все это были люди вполне культурные и порядочные, и, тем не менее, их работа никаких положительных результатов не дала. Правда, этому была очень важная причина – все деньги были у Юденича, который, получив их от Колчака, крепко держал их в своих руках, очень неохотно отпуская их на нужды гражданские. Однако все это не устраняет того факта, что за все время своего существования, правительство решительно ничем себя не проявило.
Узнав про условия сформирования министерства, я написал Александрову, что при таком давлении иностранцев я предпочитаю оставить службу, ибо после такого грубого вмешательства в наши дела не исключается возможность и дальнейшего их вмешательства. Александров просил меня временно остаться, затем о том же просил меня и Кедрин, а затем острота вопроса как-то отпала, выяснилась второстепенная роль правительства, и я остался.
Сряду после образования правительства, Александров вызвал в Ревель всех приехавших с ним из Финляндии. Я остался в Ревеле одновременно начальником губернии и исполняющим обязанности начальника гражданской части. Около двух недель я пробыл в таком положении, причем в управлении гражданской частью никого, кроме меня не было, и, тем не менее, с текущими его делами справлялся я вполне успешно, так как их было мало. Невольно возникала мысль, было ли вообще необходимо образование столь громоздкого учреждения как Северо-Западное правительство? По количеству работы, конечно, нет, а для престижа белого движения в Северо-Западном крае нужно было выбрать другие методы для его образования.
В эти же дни, около 10-го августа, началась моя ответственная работа по управлению губернией. Ничего общего с прежними губернскими учреждениями мое управление не имело, в сущности, оно было лишь канцелярией при мне. Помощника у меня первое время сперва и не было, и заменять меня было некому. Уже только к концу сентября им был назначен Н.А. Панов, до революции старший чиновник Собственной Его Величества канцелярии, а после нее выборный уездный комиссар Лужского уезда, где он был ранее помощником уездного предводителя дворянства. Человек очень прямой и честный, он был удивительно скромен в своих требованиях и всем своим поведением внушал к себе самое глубокое уважение. Хотя ему было больше 50 лет, при большевиках он занимался в Петрограде переноской мебели, а после крушения Северо-Западной армии пошел на лесные работы. Старшие его сыновья – еще подростки – служили уже солдатами на фронте. Вся канцелярия Управления держалась на управляющем его Н.А. Беликовском, бывшем правителем дел Ревельского порта, который выполнял фактически почти всю работу, ввиду довольно слабой подготовленности к ней большинства других служащих.
При Управлении состояло несколько десятков офицеров, ожидающих назначения на разные должности. По ближайшем ознакомлении с ними выяснилось, что положительным элементом среди них являются очень немногие – их я откомандировал в распоряжение уездных комендантов для назначения волостными комендантами, а в отношении остальных воспользовался приказом по армии о возвращении в строй из тыловых частей всех здоровых офицеров. Большинство этих офицеров не имело никакого образования, многие были произведены уже после революции без всякого экзамена, относительно двух-трех потом были сомнения, не сами ли они себя произвели, и всех их объединяло лишь одно желание – не идти на фронт. С другой стороны среди них было, однако, небольшое, правда, меньшинство вполне достойных людей, добросовестно несших свои обязанности. Благодаря Беликовскому, именно из этих был составлен собственно штат нашей канцелярии.
Упоминаю про это потому, что Хомутов, от которого я принял по наследству эту канцелярию, относился к выбору людей очень легко, и лично выбора их, по-видимому, совершенно не производил. Один из отделов Управления должен был ведать восстановлением полиции. В составе его я застал двух полицейских чинов: одного из бывших уездных начальников Эстляндской губернии, и другого – из приставов Ревеля. Оба они носили старую полицейскую форму, чем немало смущали сторонников нового строя. Бывший уездный начальник скоро ушел на частную службу в Эстонии, и у меня остался один только пристав, являвшийся полным контрастом большинству наших комендантов по своей выдержанности и по закономерности всего, что он проводил. Должен вообще сказать, что мне не раз приходилось жалеть, что у меня было слишком мало среди моих подчиненных бывших полицейских чинов. В Петроградской губернии их совсем не осталось, а в Эстонии нашлось еще немного из них, не устроившихся там, которых я постарался привлечь к себе на службу. Большинство из них, а именно почти все говорящие по-эстонски, уже находились на эстонский службе, а, кроме того, и условия службы, которые я мог предложить, были слишком уж неприглядны. В волостные коменданты пошли только двое из них. Мне пришлось разрабатывать положение и штаты новой полиции, но все это оказалось напрасным, ибо Северо-Западное правительство переработало их, исходя из совершенно абстрактных соображений, не считаюсь с моим представлением. Впрочем, и его работа оказалась напрасной, ибо она тоже не была осуществлена.
Наконец, нашел я в составе Управления особое «осведомительное отделение». Еще до моего назначения мне пришлось слышать в Нарве рассказы про возмутительные деяния чинов этого отделения. Говорили про то, как они привозили в Нарву арестованных из уездов, затем, после «разбора» их дел, выводили за проволочные заграждения и там пристреливали их. Первым делом по вступлению в должность я и поручил одному из офицеров для поручений, подполковнику Щегловскому, произвести дознание по поводу одного такого дела. Пока я ездил к Палену, подоспело и второе дело об этом отделении, которое тоже представило самую возмутительную картину. В первом случае расстрел был вызван, по-видимому, желанием развязаться с человеком, почему-то мешавшим служащим отделения, во втором же – это было ограбление двумя агентами отделения и убийство при попытке бежать арестованного без всяких мотивов, проживавшего около станции Поля петроградского артельщика. Оба эти дела я сразу передал военной прокуратуре. Так как они ясно указывали на общую неудовлетворительность состава отделения, то я, кроме его второстепенных чинов, тотчас уволил и его начальника – какого-то еще очень молодого железнодорожного техника, не вполне чистого в первом из этих дел.
Уйдя от меня, он поступил в формировавшуюся тогда вновь железнодорожную охрану, и вскоре принял там вместе с целой группой своих сослуживцев участие в ограблении стоявшего отдельно крестьянского двора. Руководители этого ограбления были расстреляны, а мой техник присужден был к каторжным работам. После этого во главе Управления стал штабс-капитан Протопопов, как про него говорили, бывший жандармский офицер, от чего он, впрочем, отрекался. Пользы от его работа было, впрочем, очень мало, а так как за агентов его я все-таки не мог быть вполне спокоен, то вскоре с согласия Кедрина я передал всех чинов этого отделения в ведение Министерства, где первоначально намечалось формирование разведывательного отдела. Впрочем, эта идея осуществлена не была, и Протопопов был вскоре совсем уволен.
Пришлось мне поручить произвести дознание об одном из подчиненных мне офицеров, сыне петербургского часовщика Буре, помещике Лужского уезда, который якобы взяв несколько стражников, отправился в свое бывшее имение, и там без суда расстрелял крестьянина, руководившего разграблением его имения. Об этом с негодованием говорили в Нарве, ибо подобных случаев, по-видимому, не редких на Юге, здесь не называли. К сожалению, расследование не дало результатов – район имения был нами уже оставлен, стражники ушли в войска и исчезли из виду, и пришлось ограничиться отчислением Буре от Управления.
Чтобы покончить с криминальной стороной дела, с которым меня свела здесь судьба, упомяну еще о двух преступлениях, которыми, впрочем, и исчерпывается весь их перечень, прошедший через мои руки. В одном случае волостной комендант, не добившийся взаимности понравившейся ему девицы, выпорол ее, за что Гдовский комендант и предал его суду. В другом случае шла речь о расстреле в Лужском уезде фельдшера штабом Конного полка, коим командовал младший Балахович. Об этом деле я знаю только по рассказу одного из моих сослуживцев, к которому обратилась жена фельдшера с жалобой, что «балаховцы» арестовали ее мужа, потребовали у него 500 рублей, а когда эта сумма не была им внесена, расстреляли его. При всей возмутительности этих случаев, при полной неорганизованности полицейской службы, следует все-таки признать, что в районе собственно армии (я не говорю про отряд Балаховича) их было не так много. А во второй половине лета, когда началась борьба с этими явлениями со стороны как военной, так и гражданской властей, их стало и совсем мало. А это дает мне основание сказать, что, в общем, в армии основы ее были здоровые и что, однако, благодаря некоторому попустительству, первоначально получился известный расцвет преступности, но все-таки по сравнению с тем, что было на Юге, положение было гораздо лучше.
Едва сформировалось правительство, как произошли печальные события в Пскове, вызвавшие его оставление. Как я уже говорил, деятельность Балаховича уже давно вызывала вполне понятные нарекания с самых различных сторон. Считаясь, однако, с его популярностью в его войсках, Юденич первоначально ограничился предъявлением ему требования об увольнении его начальника штаба полковника Стоякина. Балахович от этого уклонился, и тогда было решено направить в Псков, якобы для поддержки войск, выдерживавших около Пскова упорные бои, полки Талабский и Семеновский пехотные, а также и конно-егерский. В действительности командиру Талабского полка Пермикину было поручено арестовать Балаховича, его штаб и конвой. Операция эта была произведена вполне удачно, но Балахович бежал от доверившегося его честному слову вольноопределяющегося графа Шувалова[29]29
Этот Шувалов, молодой человек с хромой ногой, позднее убитый при наступлении на Петроград, пошел на войну в Красный Крест, но уже в первых боях проявил себя истым воином, храбрым и толковым, и ушел позднее в строй. В высшей степени порядочный, он не мог допустить, что Балахович не сдержит данного им слова.
[Закрыть] и скрылся к эстонцам.
Бои на русском участке фронта после ареста Балаховича шли вполне удачно, а население Пскова отнеслось к этому аресту сочувственно, но, тем не менее, через несколько дней, 25-го августа, эстонцы отошли на 20 верст и обнажили правый фланг русских войск, почему и русским пришлось очистить Псков. Причина отхода эстонцев точно неизвестна. Говорили, что он был вызван их недовольством по поводу ареста Балаховича, но, кажется, вернее было, что оно было вызвано самовольным уходом с фронта одного из их пехотных полков, коммунистически настроенного. Несмотря на всю неожиданность этого отхода, удалось эвакуировать из Пскова все учреждения и все казенное имущество. Лишь на станции пришлось бросить один испорченный паровоз. Ушли с армией и несколько тысяч беженцев, которые считали опасным для себя оставаться с большевиками. Часть этих беженцев потом добралась до Нарвы, и после долгих переговоров была пропущена в Эстонию. Первоначально их хотели направить на жительство в Гунгербург, снова разграбленный и запущенный, но затем они расселились по всей Эстонии. Северо-Западное правительство прислало тогда в Нарву особого главноуполномоченного по беженскому делу, земского врача Альбицкого, которому, однако, почти ничего не удалось сделать, ибо главные затруднения, как с этой группой, так и со следующими, сводились к невозможности пройти через прово лочные заграждения в Нарву, а затем свободно избрать себе жительство в Эстонии. Некоторые средства у этой группы еще были.
Отойдя от Пскова наши войска остановились к югу от Пскова, на реке Желче. Командование над ними принял вместо Балаховича, как я уже говорил, князь Долгоруков. Скоро ко мне стали поступать жалобы на солдат этого отряда. Одно время, сейчас же после прихода отряда Ливена, еще в начале августа, ко мне поступило несколько жалоб и на его солдат, но их скоро подтянули, и больше население на них не жаловалось. Наоборот, на «балаховцев» жалобы поступали довольно долго. В числе пострадавших оказался и Дмишевич, рассказавший мне, что у него в усадьбе была растащена и испорчена вся обстановка, поломаны сучья в фруктовом саду, и в доме из озорства побиты яблоками почти все стекла.
Отряду Долгорукова были приданы и первые пришедшие из Англии танки. Их успели доставить в Псков, но перед самой его эвакуацией, поэтому и не успели они принять участие в его защите. Теперь, в сентябре, они были использованы в одной частной операции и с большим успехом. Большевики не верили в их появление, ибо у них рассказывали, что танки у белых сделаны из дерева. Тем более сильно было впечатление, ими произведенное. Рассказывали, что при первом их появлении Долгоруков пошел впереди своей пехоты и своим молодецким поведением сразу приобрел доверие подчиненных.
Вскоре после падения Пскова прочли мы в газетах, что большевики предложили эстонцам заключить мир и что эстонское правительство решило вступить с ними в переговоры. Естественно, что на всех нас это произвело самое тяжелое впечатление: всем было ясно, что заключение мира Эстонией означает конец армии. Одновременно с этим, уже в тесном круге лиц более близких к штабу стало известно, что англичане заявили, что если наступление не начнется до 1-го ноября, то дальнейшая их помощь будет прекращена.
Стало ясно, что необходимо что-нибудь начать, но вместе с тем, все видели, что армия еще не готова. Я уже упоминал, что снаряжение еще не было доставлено в войска, что русские команды для танков еще не были подготовлены, мост на Луге оставался под вопросом, а главное – со дня на день должна была начаться осенняя распутица, при которой всякие военные действия в наших краях крайне затруднятся. Наконец, надо было учесть и то, что в августе и начале сентября была произведена в Гдовском уезде мобилизация, при которой было взято в армию почти все мужское население: брали 16-17-летних мальчишек, брали и полуинвалидов. Когда по поводу поступившей ко мне жалобы на призыв при этой мобилизации какого-то больного крестьянина я заговорил с одним из наших генералов, то получил ответ, что если стоять на моей точке зрения о необходимости соблюдения устава о воинской повинности, то нам никогда не удастся победить большевиков. Этих людей было необходимо хоть немного подучить, и это тоже требовало времени. В итоге нам, гражданскому элементу, как-то не верилось, что наступление сможет начаться столь скоро. Тем не менее, как потом выяснилось, штаб решил начать его, несмотря ни на что, в начале октября, и стал подготовлять к нему армию, которая после мобилизации числила в своем составе около 18.000 человек против приблизительно 55.000 красных.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?