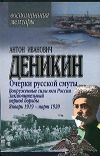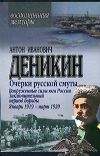Текст книги "Записки. 1917–1955"

Автор книги: Эммануил Беннигсен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Первую речь сказал губернский комиссар Булатов. Обычно очень живой оппозиционный оратор земских собраний, ныне он сказал довольно бледную речь. Ярко и очень лево сказал слово Шабельский. Говорили еще новый городской голова Ушаков, адвокат Боголюбов, раньше крайний правый, а теперь сразу ставший чуть ли не социалистом, 2 солдата, 2 офицера и 4 рабочих. Я в моей речи указывал на то, что мне поручило сказать собрание. Призывал я к спокойствию и дружной работе для укрепления в России начал истинной свободы. В первый раз допустил я возможность водворения в России республики. Говоря, пришлось напрягать голос вовсю, чтобы было слышно возможно дальше, и так как я уже был простужен, то совсем лишился после этого голоса. Почти все речи были покрыты раскатами «ура», знак к которым подавали сами ораторы, заканчивавшие свои речи этим возгласом. Все речи и более правого, и более левого оттенка были проникнуты примирительным настроением, кроме речи одного рабочего, который говорил о классовой борьбе и предвещал грядущие выступления большевиков. Впрочем, ему ответил сразу другой рабочий, указавший, что слова злобы сейчас не у места. Последним говорил мой брат. Его речь, сказанная им, стоя на стременах, голосом, который, казалось, был слышен на всей площади, несомненно, была лучшей из всех сказанных за весь день – в ней он говорил от имени полка о готовности последнего идти на фронт для защиты на нем новоприобретенной свободы. Речь его вызвала восторг толпы, и брата моего хотели качать, от чего он уклонился лишь указанием на то, что он на коне и что снимать его с него нельзя.
Среди курьезов, о которых рассказывали в Новгороде, упомяну про один. Обновление коснулось всех учреждений, и в числе их и совершенно омертвевших тюремных комитетов. И вот в губернский Тюремный Комитет Булатов назначил членом Молочникова, известного новгородского толстовца, неоднократно сидевшего в новгородской тюрьме за пропаганду уклонения от воинской повинности. Как говорили, он оказался очень полезным членом Комитета, ибо практически знал все больные стороны тюремного быта.
Перед «панихидой» у губернского предводителя дворянства Буткевича в его кабинете состоялось Дворянское Депутатское собрание. Поговорили мы о наших дворянских делах, очень печальных, ибо поступления дворянского сбора прекратились, равно как и выплата казенных субсидий на стипендии в учебных заведениях, и положение этих стипендиатов оказалось очень тяжелым. Не было денег и на содержание дворянских канцелярий. Наконец, само положение дворянских обществ с упразднением сословий оказалось очень неопределенным. Ввиду этого мы решили сразу зарегистрироваться как общество лиц, занесенных в родословные книги Новгородской губернии, дабы потом постараться перевести на него и имущество дворянского общества.
Еще в январе я был избран на вновь учрежденную должность попечителя Колмовской больницы для душевнобольных. Теперь мне пришлось заняться этим учреждением, несомненно запущенным во время войны. При этом сразу пришлось посвятить свое внимание ему с трех сторон. Приходилось, во-первых, хлопотать об ассигновании казенных средств на постройку новых зданий для размещения все увеличивающегося числа больных, ибо переполнение больницы было большое. В этом отношении мне не удалось сделать ничего – принца Ольденбургского на посту верховного начальника санитарной и эвакуационной части заменил член Думы, земский врач Алмазов, но от этого выдача ссуд земствам и городам не облегчилась, и посему и Новгородскому земству в ссуде было отказано. Во-вторых, пришлось заняться скорейшим разрешением вопроса об увеличении содержания служащих больницы, действительно, совершенно не отвечавшего той дороговизне, коротая к этому времени начала всюду сказываться, особенно на севере. По этому поводу было несколько совещаний в Земской управе с делегатами служащих, пришлось мне дважды ездить в Колмово, говорить там на собрании служащих, и, в конце концов, удалось уладить дело обещанием скорой прибавки. Наконец, в-третьих, пришлось улаживать ссоры между врачами больницы. Старший врач, занявший этот пост около года тому назад, не поладил с Управой, и был накануне ухода, и этот уход должен был вызвать уход еще одного врача, а это при том недостатке врачей, который всюду наблюдался во время войны, было уже значительно более неприятным. Наоборот, оставление старшего врача вызвало бы уход двух женщин-врачей, что тоже было нежелательно. Кроме того, у Управы не было подходящего кандидата на должность старшего врача. Вот в этом сложном вопросе мне и предстояло разобраться, и Управа просила меня попытаться как-нибудь уладить эти столь перепутавшиеся и вызванные большею частью мелочами, но тем не менее очень неприятные отношения. Провести эти переговоры до конца мне не пришлось, но намечалось назначение в Колмово директором уже занимавшего эту должность д-ра фон Фрикена, оставившего после себя у персонала хорошую память, и посему очень подходящего в эти острые, тяжелые минуты.
По возвращении в Петроград, мне пришлось все больше времени посвящать Красному Кресту, ибо я был одним из немногих работников его прежнего состава, перешедших и в новый состав Главного Управления, одинаково знакомых с условиями работы и в центре, и на фронте. Одним из первых вопросов, которые пришлось здесь решать, был вопрос о замещении должностей главноуполномоченных и особоуполномоченных. Из числа прежних наших главноуполномоченных четверо – Зиновьев, Иваницкий, Голубев и Самарин выдержали экзамен первой революционной вспышки, но двум, Кривошеину и князю Урусову, пришлось уйти. Первый из них, неоднократно выдвигавшийся как кандидат на пост председателя Совета министров, не сумел найти надлежащий тон в первые дни революции, уклонялся от общения с персоналом в наиболее тревожные дни, затем приехал в Петроград и, сознавая, что его возвращение в Минск невозможно, сам отказался от должности. Урусов, выборный член Гос. Совета и Екатеринославский Губернский предводитель дворянства, еще до революции зарекомендовал себя, как главноуполномоченный, очень отрицательно, так что не поддерживай его Государыня Мария Феодоровна, он был бы сменен еще раньше, но идти против воли своей покровительницы Главное Управление не могло, и потому он продержался до революции. Вполне понятно, что теперь он должен был сразу подать в отставку. К этим двум вакансиям присоединилась еще третья, новая, вследствие разделения Северного района на два – фронтовой, где остался Зиновьев, и тыловой, Петроградский.
Вопрос об этом разделении поднимался неоднократно и раньше, теперь же после революции его нельзя было больше откладывать, ибо условия Петрограда и фронта были слишком различны, и требовали при тогдашней напряженности всей жизни постоянного присутствия главноуполномоченного в столице. Замещение этой должности не представило затруднений, ибо естественным на нее кандидатом явился Лопашев, помощник Зиновьева, уже не раз и подолгу исполнявший его обязанности. О его назначении просили и служащие. На место Урусова вскоре был назначен Хомяков, бывший председатель 3-й Гос. Думы. Замещение же Кривошеина пришлось отложить, ибо подходящих кандидатов туда не имелось. Ушло несколько особоуполномоченных, но опять же те, которые и раньше вызывали нарекания и со стороны Главного Управления, и со стороны служащих. Вообще, я должен отметить, что после революции в Кр. Кресте, как и повсеместно в армии, сказалась в вопросе об удалении начальствующих лиц, главным образом, или нетактичность их или чрезмерная строгость. Если начальник был тактичен, то ему прощалось многое. Не лишнее указать, что к денежным злоупотреблениям делегаты служащих относились строго с самого начала, но тогда они в них плохо разбирались, а позднее, когда, быть может, и приобрели опыт в отчетности, то уже бороться с ними не приходилось. Впрочем, в Кр. Кресте отношение к этим злоупотреблениям и при старом Управлении было всегда столь строгим, что что-нибудь новое открыть было невозможно, и кроме одного случая, про такие открытия мне и не пришлось слышать.
После революции на Кр. Крест выпала новая задача – принять в свое заведывание некоторые другие организации, а именно, Императрицы Марии Феодоровны, великой княгини Марии Павловны и Склад Зимнего дворца, совместно со всеми вообще учреждениями Императрицы Александры Феодоровны. Впрочем, последняя организация была затем опять отделена от Кр. Креста и передана в военное ведомство. Сделано это было по распоряжению Керенского, поставившего во главе ее своего приятеля, адвоката Бессарабова, с окладом в 18000 р., что тогда вызвало известное удивление. Особенно об этом в Кр. Кресте не жалели, ибо с самого начала ему пришлось встретить в этой организации упорное пассивное сопротивление, которое осталось бы, вероятно, и в дальнейшем, ибо ее деятели, привыкшие к широкому расходованию казенных денег (частных пожертвований в ней было очень мало), очень косо смотрели на необходимость сообразоваться с гораздо более бережливыми навыками Кр. Креста.
Небольшая организация Императрицы Марии Феодоровны – склад в Аничковском дворце, питательно-перевязочный поезд и 4 госпиталя имени Императрицы, состоявшие уже в Кр. Кресте, содержались на личный счет Государыни, и перешли к нам без всяких затруднений, причем все дела и вся отчетность велись в полном порядке. Хуже обстояло дело с организацией вел. княгини Марии Павловны. Назначенный в нее комиссаром член Думы Киндяков неоднократно плакался в заседаниях Главного Управления, что делопроизводство и отчетность ее заставляют желать лучшего. Впрочем, все немногочисленные учреждения этой, много о себе шумевшей организации, были переданы в Кр. Крест сразу же и без всяких затруднений.
28-го марта умер тесть моего beau-frere[3]3
Шурин, брат жены (фр.).
[Закрыть] Бориса, член Гос. Совета Н.А. Зиновьев, бывший ранее Тульским и Могилевским гу бернатором и товарищем министра внутренних дел и получивший известность своими ревизиями Курского и Тверского земств и Петроградского Общественного самоуправления. Ревизии эти вызвали в свое время целую бурю в нашей либеральной печати, хотя едва ли основательные, ибо Зиновьев сделал свое дело основательно и добросовестно, и весьма вероятно, что и другой на его месте пришел бы к тем же выводам. Тенденциозность была не в производстве ревизий, а в выборе для них наиболее либеральных в то время земств и столицы империи. Недостатки нашего самоуправления были всем известны, и, несомненно, проявились бы и в других более правых земствах и городах, но удар нужно было нанести именно по левому крылу нашей общественности, и это и удалось. Сам по себе Зиновьев был человек неглупый и образованный, но крайне упрямый и сильно одержимый духом противоречия.
В конце марта у моих родителей появилась новая забота с младшей моей сестрой Китти. Уже давно проявлявшая признаки некоторой ненормальности, теперь она, по мнению психиатров, стала форменной психической больной. Целыми днями лежала она у себя в комнате, не желая никого видеть, и стала проявлять резкую ненависть к моей belle-souer[4]4
Невестка (фр.).
[Закрыть] Фанни и к ее малышу Алику, что доставляло много огорчений маме и Оле, Алика страшно любившим. При большевиках, в 1918 г., маме пришлось поместить ее в клинику Бехтерева, ибо ее считали опасной, и после этого она из психиатрических лечебниц уже больше не выходила. Сперва другие мои сестры брали ее по временам домой, но затем пришлось это прекратить, ибо она стала истреблять дома разные вещи, и уследить за этим было невозможно. В 1941 году она погибла с другими больными, умерщвленными немцами под Ленинградом, в лечебнице, кажется имени д-ра Кащенко. В связи с болезнью Китти, на очередь стал опять вопрос о завещании родителей. Уже давно хранилось оно в моем ящике в банке. Теперь родители дали мне по второму своему завещанию. В обоих все оставлялось в пожизненное владение пережившего из них, а затем все оставлялось в равных долях в одном варианте всем 6-м детям, а в другом – 5-м, без Китти. На словах мне было сказано родителями выбрать тот вариант или другой, в зависимости от состояния психики Китти в момент их смерти. Исполнить эту их волю мне так и не пришлось, но уже в беженстве, в Париже, я получил от моей двоюродной сестры Погоржельской через польское Министерство иностранных дел завещание, все оставляющее всем нам, кроме Китти, в равных долях, и обязующее нас составить особый фонд для обеспечения Китти. Очевидно надежду на поправление Китти родители после большевиков окончательно потеряли. Когда, кажется, в 1924 году в Париже мы съехались все трое братьев, мы вскрыли и прочитали присланные мне в пакете Погоржельской завещания, до того известные мне только в общих чертах.
30-го марта, как я уже указывал, я был назначен комиссаром в Попечительство о трудовой помощи. Сразу начал я туда ходить каждый день, дабы ознакомиться с текущими делами и жизнью этого учреждения. В сущности, было всего два вопроса, нуждавшихся в разрешении, если не считать вопроса об ассигновании средств на поддержание текущей деятельности Попечительства. Первый вопрос был об изменении устава и второй – об «оживлении деятельности учреждения». Этот вопрос был тогда модным, ибо оживлять полагалось все учреждения. Впрочем, этот вопрос об оживлении при мне из стадии общих разговоров так и не вышел. Более серьезным и реальным явился вопрос об изменении устава, который был построен на том, что во главе попечительства стоит Государыня, к которой идут на утверждение все постановления Комитета попечительства. Все эти статьи теперь, конечно подлежали изменению, но немало подлежало изменению и в порядке заведования учреждениями попечительства на местах. Первоначально я поставил этот вопрос в Комитете попечительства, который избрал для его разрешения особую комиссию, в которой пришлось особенно активно работать Бобрикову и мне. По поводу этого пересмотра мне пришлось потом не раз бывать первоначально в Министерстве внутренних дел у Щепкина, а затем у другого товарища министра Авинова. Оба они этого дела совершенно не знали, по своей ничтожности оно мало их интересовало, и мне приходилось прямо выжимать из них те или иные указания.
Позднее было образовано особое Министерство общественного призрения с князем Д.И. Шаховским во главе. Старый либерал, твердо веривший в скорое торжество добра, он и теперь еще был настроен оптимистично. Еще 11-го мая, когда я приехал к нему на Морскую в дом, где жили раньше товарищи министра внутренних дел и где он теперь поселился, он мне сказал, между прочим, что «анархия побеждена». Так как теперь Попечительство должно было перейти в его ведение, то я приглашал его в Управление попечительства на Надеждинскую, куда он приехал на следующий день. Вполне понятно, что все эти перемены руководителей ведомства, тормозили утверждение нового Устава, и когда 14-го мая я уезжая из Петрограда, то его все еще у Попечительства не было.
Еще до революции, как я упоминал, был поднят вопрос о военнопленных, но размеры помощи им был в то время довольно ограничены. Теперь, в обновленном Кр. Кресте было сразу же решено расширить эту помощь, в чем немалую роль сыграл Родзянко, давно уже настаивавший на этом. Было решено образовать под флагом Кр. Креста особое полуправительственное учреждение с чрезвычайно широкими полномочиями под названием «Центрального Комитета о военнопленных». Если никто из входивших в него представителей всех ведомств не оставался при особом мнении, то постановление Комитета должно было приводиться в исполнение наравне с распоряжениями Временного правительства, даже самая смета Комитета утверждалась окончательно им самим. Лишь в случае особого мнения кого-либо из представителей ведомств дело переходило во Временное правительство. Председателем Комитета состоял по должности председатель Главного Управления Красного Креста, от которого в Комитет входили еще два члена, одним из коих был избран я. Двумя товарищами председателя были избраны М.М. Федоров и сенатор Арбузов, уже давно работавший в Кр. Кресте по делам военнопленных. Управляющим делами был назначен Навашин, о котором я уже говорил раньше. Зная его подвижность и способности, думали, что он сумеет отлично поставить это дело. Однако, деловитости в нем отнюдь не оказалось. Наладить канцелярское дело он не сумел, тратя все время на бесконечные разговоры, без которых в то время совершенно обходиться было невозможно. В виду этого, когда непригодность его к заведыванию канцелярией стала всем ясна, в августе его заменили бывшим товарищем министра земледелия Зубовским, выбрав Навашина товарищем председателем на место освободившееся вследствие отказа М.М. Федорова.
С самого начала работы Комитета, устроившегося в чудном дворце сыновей великих князей Михаила Николаевича на Дворцовой набережной, появились в нем представители разных организаций. Представители Совета рабочих и солдатских депутатов вступили в него только позднее, теперь же стали принимать в нем участие представители союзов бежавших из плена и инвалидов, возвращенных из него. У меня осталось благоприятное впечатление о последних, настроенных патриотически и выступавших постоянно на митингах за продолжение войны. Наоборот, бежавшие из плена были другого сорта. Уже вскоре после того, как они водворились в особом, предоставленном им помещении во дворце, здесь произошла покража, подозрение в коей пало на некоторых деятелей этого союза (не знаю только, был ли кто-либо из них уличен). Позднее про этот союз стали определенно говорить, что в нем принимали участие многие пленные, нарочно выпущенные немцами, дабы вести в России пораженческую пропаганду.
Работа Комитета в первые недели сводилась главным образом к выяснению всех возможностей увеличения пересылки продовольствия нашим военнопленным, но нужно сказать, что ничего нового и сколько-нибудь большего против дореволюционного периода, сделать не удалось. Отправка продуктов из России все время встречала препятствия в физической невозможности увеличить пропуск грузов через реку Торнео, получать же продовольствие за границей было возможно только от союзников, под контролем которых было все снабжение нейтральных стран, через которые шло снабжение наших военнопленных в лагерях Германии и Австрии. В конце концов, союзники соглашались увеличить несколько контингент этого продовольствия специально для наших военнопленных, но не сразу и очень незначительно. Все продовольствие, шедшее из России, пересылалось через Шведский Красный Крест, а получаемое от союзников шло, главным образом, через бюро Московского Городского Комитета помощи военнопленным в Берне и Гааге. Кроме того, посылалось много индивидуальных посылок. Многие из них шли тоже через эти два бюро, а другие через бюро этого же Комитета в Копенгагене.
В течение апреля в Главном Управлении состоялось несколько совещаний с попечительницами и старшими врачами Петроградских общин по поводу требований санитаров о допущении их к участию в управлении общинами. Для всех членов Главного Управления, да и вообще для всех мужчин, участвовавших в этих заседаниях, было ясно, что необходимо найти временный исход этому брожению, возникшему даже собственно не в общинах, а в открытых при них во время войны временных госпиталях. В самих госпиталях санитаров было мало, да и то большинство из них не были военнообязанными, служили в общинах издавна и никакой перемены не требовали. Для нас было теперь ясно, что упорствовать на сохранении в общинных госпиталях порядка, который был уже изменен во всех других госпиталях, было теперь совершенно невозможно. Поэтому мы считали, что во врачебно-хозяйственные советы общин необходимо включить представителей служащих. Против этого, однако, восстали попечительницы общин, ни на какие уступки не желавшие идти. Только одна попечительница Кронштадтской общины, известная вдова адмирала Макарова, стала на нашу сторону. Насколько я помню, наше мнение все-таки восторжествовало. Наряду с этой комиссией работала и другая, для порядка причисления в санитары отдельных лиц. В этой комиссии я был выбран председателем. Она должна была рассматривать и жалобы, и доносы на неправильное зачисление в санитары. В итоге, работа этой комиссии свелась именно к рассмотрению этих доносов, ибо с развалом армии работа Кр. Креста стала сокращаться, а вместе с тем, не оказалось и нужды для уклоняющихся от фронта искать верного убежища в тылу. Больше всего доносов поступало из общин, почему я объехал их вместе с одним из моих коллег по комиссии, но ничего сколько-нибудь крупного нигде не обнаружилось. Несомненно, общины постарались обеспечить себе свой старый коренной состав и добились этого, но все было сделано в законных формах. Кроме этого, я председательствовал так же в наградной комиссии, где нам пришлось установить новый порядок награждения значком Кр. Креста. Не стало покровительницы общества, утверждавшей эти постановления, почему теперь стали давать их прямо по постановлениям Главного Управления. Вместе с тем, пришлось, сохранив в этом знаке двуглавого орла, снять с него императорскую корону. Конечно, награждение орденами за гражданские заслуги совершенно отпало.
6-го апреля я в последний раз был с дочерью в Мариинском театре на абонементном спектакле. У нас была в нем общая ложа с семьей Мазарович, рядом с левой императорской ложей. Давали «Царя Салтана», и, собственно, ни на сцене, ни в оркестре революция не сказывалась. Не то было в коридорах и в зрительном зале, где все императорские ложи были до отказа переполнены солдатами и матросами. У нас в ложе чувствовался сильный запах махорки, проходивший к нам через дверь из царской ложи.
В марте в Главном Управлении принимали участие только делегаты Петроградских учреждений, в апреле же стали появляться и представители разных фронтовых районов. Первыми появились представители из Минска, где с самого начала дела пошли хуже всего. Я уже упоминал, что Кривошеин никакого активного участия в управлении районом после революции не принимал, его старший помощник Мезенцев ушел на военную службу, и управление районом осталось на Гершельмане, к которому все относились хорошо, но который совершенно не считал возможным идти навстречу требованиям персонала об участии в управлении района, почему всё объединение персонала пошло вне Управления Главноуполномоченного и большинства особоуполномоченных. Только во 2-й армии Пучков взял это движение в свои руки и сумел направить его по умеренному руслу. 10-го апреля первые делегаты от этого фронта появились в Главном Управлении, где мы с ними и переговорили. Настроение их было очень мирным, и в требованиях ничего неприемлемого не было. Насколько мне помнится, это были больше врачи. Вскоре после них появилась из Минска вторая делегация, эта от съезда фармацевтов, требовавших независимости своей от врачей, которых они обвиняли во всевозможных притеснениях. Кое в чем они были правы, однако, в общем, их удалось убедить в неосуществимости остальных их требований.
12-го мне пришлось побывать у Кулыжного, не то товарища министра земледелия, не то главноуполномоченного по мясу, дабы поддержать просьбу нашего земства о повышении цен на реквизируемый в нашей губернии скот. Близость ее к фронту делала эту реквизицию неизбежной, но оставление прежних цен делало ее разорительной для населения. Кстати, отмечу здесь, что, несмотря на накопление у крестьян за время войны денег, благосостояние их, особенно в северных губерниях, было сильно подорвано засухой 1914 года, после которой количество скота в северных уездах наших очень уменьшилось.
13-го апреля у меня был Шабельский, несший в Старой Руссе обязанности уездного комиссара (через несколько дней он их с себя сложил), и рассказал мне, что кроме дома Ванюкова разгромили и дом председателя земской управы Карцова, продолжавшего, впрочем, затем работать в уездном земстве. Это последнее было теперь сильно деморализовано; в управу были выбраны новые члены. В числе их оказался наш Рамушевский церковный сторож Игнат Новожилов, пьяница и вообще неважный человек, основательно подозревавшийся в том, что присваивал часть грошей, клавшихся в церкви на тарелочку около теплоты. В самой Руссе все было в руках солдат Запасного батальона, никакой власти не признававших. По словам Шабельского, в праздники на откосах реки на «Красном Берегу» можно было видеть сцены совокупления солдат с проститутками средь белого дня. Невольно припомнился мне Герберштейн (или Олеарий?), рассказывающий про подобные сцены около Новгородского Кремля, но 400 лет тому назад.
Так как от делегатов из Минска и вообще от всех приезжающих оттуда получались совершенно одинаковые сведения о том, что в Красном Кресте царит полное безвластие, то в Главном Управлении пришли к мысли о необходимости командировать туда одного из членов его, дабы присутствовать на имевшем открыться в Минске 23-го апреля съезде Кр. Креста.
Выбор остановился на мне, ибо у меня остались там хорошие отношения, и многие приезжие оттуда высказывали пожелание о моем возвращении на место главноуполномоченного. Мне это и было предложено Игнатьевым, но я от этого отказался, и тогда на меня возложили поездку в Минск на съезд, от чего уже уклониться было нельзя. В день, когда это решилось, 17-го апреля вечером, мне пришлось быть в заседании в здании учреждений Императрицы Марии на Казанской, где Е.П. Ковалевский, тогда комиссар Думы при этих учреждениях, созвал представителей разных благотворительных учреждений для обсуждения проекта С.К. Гогеля о дальнейшей судьбе всех их. Хотя основная мысль этого проекта об объединении их всех и была вполне правильна, однако выражена она была в столь неудачной форме, что проект Гогеля был единодушно провален. Состав собрания был очень пестрый. Много говорил врач Московского земства Дорф, с которым я оказался, в конечном итоге, единомышленником, хотя и по различным мотивам. Провал проекта Гогеля, главным образом, мы двое и устроили. Так улыбнулась мечта Ковалевского контрабандой проскочить на министерский пост. При всех своих положительных, хотя и не особенно крупных качествах, Евграф Петрович был очень честолюбив, и не мог простить судьбе, что после революции он не оказался министром. Попытка повернуть ее в свою сторону и была им в этот вечер сделана, но неудачно. Видимо, он считал, что за ним обеспечено, во всяком случае, место комиссара надолго, и он даже раз ездил на автомобиле главноуправляющего, чего себе никто другой не позволял.
18-го апреля ст. стиля праздновалось первое мая, в первый раз в России свободно. На Царицыном Лугу стоял ряд трибун, с которых различные ораторы произносили более или менее пламенные речи. Мы с женой пошли в Летний сад, откуда было хорошо видна вся картина этого торжества. Все проходило очень чинно, напоминая толпу, которую мы привыкли видеть здесь раньше на балаганах и других народных гуляньях. На набережной в обоих направлениях шли группы рабочих с плакатами и красными флагами. Было и несколько черных флагов, под которыми шли совсем маленькие кучки анархистов.
Попутно отмечу, что как-то зашли мы с женой на могилу жертв революции на Царицыном лугу. Ничего более заброшенного и гадкого нам не приходилось видеть. Невольно начинало вериться, что здесь были похоронены совсем не жертвы революции, которые якобы были все разобраны родственниками и похоронены по церковному обряду, а разные бездомные и безродные покойники, собранные, как то говорила Петроградская молва, из разных городских больниц. Не верилось, чтобы кто-нибудь мог проявить такое безразличие к близким ему покойникам, какое было проявлено на этой могиле.
20-го я выехал в Минск вместе с делегатом от Петроградских краснокрестных служащих Книжником. Человек вполне интеллигентный и порядочный, он был социалистом, что, впрочем, не помешало нам действовать в Минске вполне дружно. Замечу кстати, что, хотя большинство краснокрестных делегатов в Петрограде были в то время эсерами, Главное Управление, вполне буржуазное, могло с ними прекрасно ладить. Выезжали мы из Петрограда перед самой демонстрацией, вызвавшей уход Милюкова и Гучкова. Впрочем, кроме того, что начинается какая-то манифестация и что она направлена против Милюкова и его «империалистической» политики, в тот момент мы ничего не знали. Ехали мы вполне хорошо, хотя и несколько в тесноте. Припоминается мне мимолетное знакомство с молодым, лет 28-30 подполковником, георгиевским кавалером Пепеляевым, пошедшим на войну, по его словам, подпоручиком одного из сибирских полков. Кажется, именно этот самый Пепеляев командовал потом армией у Колчака.
Под вечер 21-го почти без опоздания пришли мы в Минск, где я еще успел кое с кем переговорить. Начал я с Гершельмана, категорически отказывавшегося идти на какие-либо уступки персоналу, упорно отрицавшего возможность для него работать с каким-нибудь коллегиальным выборным при нем органом. Картина, которую он мне нарисовал, была, несомненно, очень печальна: анархия и хаос были уже всюду. Успел я повидать еще Аматуни, который произвел на меня какое-то странное впечатление, настолько он чего-то не договаривал. Только через день выяснил я, что он рассчитывает быть выбранным на съезде на должность главноуполномоченного, и потому все время после революции бил на популярность. Когда я его спросил, наконец, в упор, к какой он партии принадлежит, то он, немного сконфузившись, ответил мне: «Я примыкаю к эсерам». Как-то во время съезда он и заявил, между прочим, что-то о «товарищах-социалистах». Со стороны лица, ряд лет добивавшегося и добившегося признания за ним княжеского титула, а во время войны как никто в Кр. Кресте дорожившего всякими внешними признаками почтения, это было весьма комично. Наконец, зашел я еще к Вырубову, у которого застал также его помощника Хрипунова, члена Орловской губернской управы. Вырубову удалось удержаться, и попыток его смещения не делалось. Наоборот, уполномоченному Городского союза на фронте, члену Думы Щепкину пришлось уйти по требованию его подчиненных.
Сообщенные мне Вырубовым, и особенно Хрипуновым сведения о состоянии фронта, были очень пессимистичны. Как и Гершельман, они утверждали, что армия беспрерывно разлагается и что остановить этот процесс уже невозможно. На следующее утро я отправился к Главнокомандующему фронтом генералу Гурко. Настроен он был довольно бодро, и уверял меня, что братанья с неприятелем и дезертирство сократились (по-видимому, это была большая иллюзия). Затем в Управлении Кр. Креста у меня был длинный разговор с членами организационного бюро съезда, из которых я помню по фамилиям д-ра Ленского и Донченко, начальника транспорта, о котором я уже упоминал. Ленский был врачом дезинфекционного отряда, а раньше в Кр. Кресте роли не играл. Вообще, теперь выдвинулись сразу все социалистические партийные деятели. Однако, среди них уже чувствовались различные течения: одни готовы были идти на соглашение – это были больше эсеры и народные социалисты, наоборот, другие ни о каких компромиссных решениях слышать не хотели и требовали и в Кр. Кресте передачи всей власти Советам. Эта группа – левые эсеры и большевики – находились под влиянием председателя фронтового Комитета Совета солдатских депутатов Познера.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?