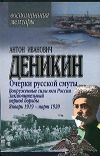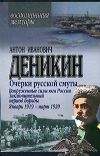Текст книги "Записки. 1917–1955"

Автор книги: Эммануил Беннигсен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Позднее они были заменены деньгами Юденича. Эти последние были выпущены в середине августа: красивого рисунка, с орлом с очень широко распростертыми крыльями, почему их прозвали крылатками, и прекрасной работы. Они, однако, гарантированы ничем не были, если не считать за гарантию напечатанной на них фразы, что за них будет выплачено по одному фунту стерлингов за каждые 40 рублей. Дня два после их выпуска эти бумажки обменивались в Ревеле на эстонские марки, даже с премией. Затем еще дня два они обменивались al pari[26]26
По номиналу.
[Закрыть], а после этого, когда все, получившие ими жалованье сразу за два-три месяца, стали выбрасывать их на рынок, началось острое падение их курса. Образовавшееся в это время правительство Лианозова начало было вести с эстонским правительством переговоры об установлении твердого курса для обмена «крылаток» на марки, но время было упущено, и падение их курса сделало всякие переговоры напрасными. Обесценение их шло столь быстро, что, например, в ноябре, когда при отходе 1-й и 6-й дивизий эстонские войска разграбили обозы этих частей, то они топили печки мелкими купюрами этих денег.
Недостаток денег ощущался, впрочем, главным образом, в тылу. На фронте он замечался гораздо слабее, преимущественно при стоянии на месте или отходе. При наступлении обирание пленных красноармейцев давало войскам недостающие средства. Простота взглядов развивалась при этом чрезвычайная: мне пришлось, например, слышать рассказ одного офицера, ранее бывшим дежурным офицером Пажеского корпуса, как он был совершенно ограблен взявшими его в плен белыми, и как чрез несколько дней, будучи уже белым офицером, он возместил свои потери на следующих пленных. Я далек от мысли, что подобные факты были общим явлением, но и то, что о них мог спокойно рассказывать бывший воспитатель военного юношества, являлся очень характерным.
Чтобы покончить с вопросом о деньгах, упомяну еще о крупной спекуляции, которая имела место в Гельсингфорсе во время осеннего движения на Петроград, хотя, к чести армии, она никакой связи с ней не имела. Царские рубли, упавшие к осени 1917 г. до 13 % своей стоимости, после большевистского переворота стали быстро подниматься в цене, и дошли до 45 % номинала. Помогло этому запрещение большевиками вывоза рублей за границу, а с другой стороны, как я уже говорил, усиленная скупка их немцами, нуждавшимися в них для платежей в занятой части России, особенно в Юго-Западном крае. С заключением перемирия на Западном фронте, рубль немцам стал более не нужен и начал опять падать, и ко времени осеннего наступления Юденича на Петроград стоил в Гельсингфорсе не больше 60 пенни. К этому моменту и была приурочена спекуляция, о которой я упомянул выше. В Гельсингфорс пришла телеграмма из Ревеля о взятии якобы белыми Петрограда. Курс рубля был сряду взвинчен почти до двух марок, и момент был использован спекулянтами для продажи сделанных ими крупных запасов их. Известие о взятии Петрограда, однако, не подтвердилось, и рубль сряду вернулся к своему прежнему уровню. Больше всего, как утверждали, нажился на этой спекуляции Дм. Рубинштейн, петроградский банкир, с громкой, но далеко не идеальной репутацией. Называли громадные цифры его барышей, но что здесь верно, сказать трудно. Источник, откуда была отправлена телеграмма о взятии Петрограда, остался невыясненным, но подозревали, что все это было придумано Рубинштейном. (Любопытно, что сын этого известного всей России мошенника, оказавшийся в Соединенных Штатах тоже с деньгами, был после войны привлечен там к суду за уклонение – по-видимому, за взятку – от военной службы). Летом 1919 г. прошел слух о подделке большевиками иностранных денег. Слух этот обеспокоил особенно Banque de France, и я встретил сперва в поезде, а затем в штабе, в Нарве, двух его представителей, ездивших на фронт в штаб Палена, чтобы проверить справедливость этого слуха. Вернулись они успокоенными, ибо слухи оказались ни на чем не основанными.
По выяснении предстоящего мне назначения и выработке в Ревеле и Нарве проекта инструкции мне, у меня осталось до издания соответствующего приказа несколько свободных дней, и я решил использовать их для поездки в Псков и Гдов, чтобы ознакомиться с положением в них продовольственного вопроса. Ехавший туда же Хомутов предложил мне поместиться в его вагоне, правда, товарном, что значительно облегчило переезд. Перед отъездом мне пришлось, однако, по поручению Крузенштерна ознакомиться, совместно с сенатором К.К. Веймарном, бывшим заведующим продовольственной частью в Империи, с проектом закона по земельному вопросу. Основой этого закона явился известный приказ Колчака о сохранении на 1919 г. фактического владения землей. В проекте приказа Родзянко это фактическое владение признавалось для посевных площадей, луга возвращались сряду в распоряжение их собственников, а леса, независимо от того, чьей собственностью были, передавались в казенное управление.
С Веймарном мы расходились радикально во взглядах на аграрный вопрос. Он находил необходимым восстановление прав прежних собственников хотя бы на минуту, я же считал, что захват земли крестьянами есть факт, от которого уйти невозможно. Исходя, однако, из этих, столь противоположных взглядов, мы сошлись с ним, что текст приказа совершенно неудовлетворителен. Доложили мы наше мнение Крузенштерну, который, не приняв никакого решения, направил нас к Хомутову. Сей последний принял наши замечания с явным неудовольствием и ответил, что переделывать проект поздно, ибо и так с ним потеряно много времени. И действительно, приказ был сряду подписан Родзянкой и опубликован.
Вызвал он очень большие нападки в социалистических кругах, а позднее и уверения, что именно этот приказ вместе с другим – о возврате собственникам захваченной у них движимости, были причиной того, что крестьянские массы отшатнулись от белого движения. У меня этого впечатления не осталось – крестьян гораздо больше тяготили реквизиции, наряды подвод, а подчас и просто грабежи, заставлявшие их мечтать об уходе одинаково и белых, и красных. Не знаю, вернул ли кто из помещиков района свои усадьбы и покосы на основании этого приказа. Кое-кто из них летом 1919 г. жил еще у себя в имениях, если же кто и вернулся с белыми, то без всякого на то приказа и помощи властей. Про недовольство крестьян я слышал лишь в одном случае, когда собственник заливных лугов в низовьях Луги белый офицер (фамилию его я забыл) стал сдавать эти луга крестьянам по чрезвычайно повышенным ценам. В приказе заключалось, однако, одно положение, вызвавшее в августе значительные осложнения – это о передаче в казну всех лесов. Некоторые лесничие, которые к тому времени были восстановлены в должности и которым было поручено заведовать также частновладельческими лесами, стали распоряжаться в числе их и крестьянскими лесами. Почти повсеместно запретили они крестьянам рубку леса в их собственных лесах, и даже более: стали взимать с них плату по казенному, очень высокому тарифу за выпас скота в них. Это распоряжение вызвало у крестьян целую бурю негодования, и мне пришлось срочно просить образовавшееся тогда министерство Лианозова об успокоении ревности господ лесничих.
Уже в конце октября правительством Лианозова был издан новый закон о земле. Составленный Министерством земледелия, во главе которого стоял социал-революционер Богданов, он закреплял на местах фактическое положение, но по редакции вызывал некоторые замечания, ибо совершенно не нужно обострял отношения с еще жившими в усадьбах помещиками. Последним угрожалось, например, уголовным судом за этот «захват» их усадеб. Впрочем, в этот момент армия уже начала свой отход от Петрограда, вследствие чего осуществление он не получил. Я должен, однако, отметить, что на крестьян он произвел весьма благоприятное впечатление: несколько раз слышал я за него выражения благодарности крестьян лицам, которых считали участниками в его издании.
Вернусь теперь к поездке с Хомутовым в Псков. По дороге мы остановились в Гдове, где Хомутова, кроме коменданта уезда, встретил и комендант города, назначенный Балаховичем и долго не желавший прекратить исполнения своих функций. На вид это был добродушный крупный мужчина, капитан или штабс-капитан, бывший борец из цирка. Про него говорили, что он был не столь вреден, как мешал своей недалекостью. Он уже получил тогда распоряжение об отъезде в Псков и готовился к нему. Я ехал с ним со станции в город, при въезде в который он показал мне площадку с двумя мачтами: «Большевики устраивали здесь митинги, а мы их здесь вешали», – пояснил он, добавив, что всего повешено было им 18 человек. В Гдове было небольшое совещание по текущим вопросам у городского головы И.А. Бояринова, сохранившего свой пост при всех режимах, не потеряв общего уважения. Оставил он свой родной город только при эвакуации его в октябре. Угостил он нас, чем мог – белым хлебом и салом, полученными из остававшихся у него американских продуктов, и кипятком, но без чая. Своих запасов в городе никаких не было. На станции железной дороги еще через полтора месяца в буфете подавали один «малороссийский чай» без сахара – настойку каких-то трав.
Псков производил впечатление грязи и запустения, начиная с вокзала, загаженного и с выбитыми стеклами. Около вокзала виднелась разрушенная тюрьма. Далее, на идущем от станции бульваре, стояла в стороне статуя Александра II, снятая с пьедестала, с отбитой головой и с дырой в мантии. Улицы были грязноваты, на рынке пусто – очень немного крестьян и несколько интеллигентов, продающих из нужды разное имущество. Крестьяне дорожились, а интеллигенты продавали свои вещи за гроши. Большинство магазинов было закрыто, а открытые торговали разным случайным товаром. Мосты через Великую были взорваны, и ремонт шоссейного даже не производился. В общем, по сравнению с Псковом, каким я его видел в 1913 г., он представлял жалкую картину. Местный уполномоченный по продовольствию устроил меня в квартире одной своей знакомой. Здесь было чисто, и меня могли накормить. В квартире была почти вся ее обстановка. При большевиках мебель постоянно перемещалась из одного места в другое, однако, после их ухода собственники ее быстро сумели в ней разобраться. Пропало ее сравнительно немного. Гораздо труднее было разобраться в книгах. Все библиотеки, в том числе и частные, были национализированы. Для разборки их была назначена особая комиссия, которая продолжала еще тогда работать. Пришлось мне, между прочим, зайти в дом Дворянского Собрания, кажется в Земскую управу, и здесь я узнал, что, например, вся обстановка квартиры губернского предводителя дворянства осталась совершенно нетронутой, очевидно, для каких-нибудь властей.
Балаховича я не повидал: он был болен испанкой и никого не принимал. Однако наслышался о нем достаточно. С одной стороны его всесторонне восхвалял в своей газетке уже упомянутый мною Иванов. Особенно противополагался «демократизм» Балаховича реакционным тенденциям штаба Родзянко. С другой стороны, однако, в населении, принявшем белых с распростертыми объятиями, раздавались уже громко голоса осуждения по адресу и самого Балаховича, и заведенных им порядков. Негодование многих вызывала особенно жестокость «балаховцев». По вступлении их в Псков, обвиненные в большевизме казнились массами. Вешали их на уличных электрических фонарях, иногда по два сразу. Один мой знакомый, открыв утром уличную дверь, увидел висящего на подъезде большевика. Смертные казни производились постоянно даже и далее: мне советовали пойти днем на конную площадь, где почти ежедневно производились повешения, очень часто в присутствии Балаховича и всегда большой толпы народа. Рассказывали мне (я не последовал совету пойти туда), что обычно казнимый сам надевал петлю, крестился на Св. Троицу и сам прыгал со скамейки. Крестились почти все с тех пор, как Балахович помиловал одного перекрестившегося при нем (значит – совесть есть).
Я возвращался из Пскова с американцами – представителями кинематографической фирмы, страшно довольными, что им удалось снять сцену повешения на конной площади. Не думаю, чтобы этот фильм, который, впрочем, кажется, нигде не разрешили показывать, мог послужить популяризации белого движения. Примеру старших следовали и дети, занимаясь повешением собак и кошек. Огрубение нравов дошло до того, что сельские сходы стали составлять приговоры, прося о повешении того или другого своего порочного односельчанина, подобно тому, как раньше они просили об их ссылке. Уверяли меня даже, что был случай, когда трое сыновей просили штаб отряда повесить их отца.
Если злоупотребления смертной казнью возмущали нравственное чувство сравнительно немногих, то гораздо более широко распространилось недовольство разными поборами «балаховцев». Позднее за них был привлечен к уголовной ответственности псковской комендант. Жаловались на него почти все псковичи, с коими я говорил, выражались же они в старых проявлениях злоупотреблений, но только в более грубых и откровенных формах. Не желавшие платить подвергались аресту. Жаловаться было страшно, ибо было очень легко быть самому в отместку обвиненным в сношениях с большевиками. Рассказывали, что вымогательством у родственников обвиняемых занимался председатель отрядного суда, военный юрист Энгельгардт, также привлеченный за это по приказанию Юденича к суду, но бежавший в Эстонию и там скрывавшийся до ликвидации белого движения. В его оправдание лишь говорили, что у него был прогрессивный паралич. Я уже говорил, что эстонцы особенно благоволили к Балаховичу. Со своей стороны и он всегда помогал им. В Пскове он, например, разрешал им скупать и вывозить лён, которым армия особенно дорожила, ибо это был главный продукт для получения валюты, который эстонцы у нее перехватывали, расплачиваясь с населением за него рублями, а в лучшем случае – своими марками. Лён не вывозился из Псковского района уже два года, и запасы его у крестьян были довольно значительны. Понятно поэтому, какой вред наносился этим вывозом льна финансам армии.
Когда я ехал в Псков, мне в штабе армии много с негодованием говорили про социалистический строй, введенный Балаховичем в подведомственном ему районе, про некое страшилище в виде образованного Ивановым «общественно-гражданского» управления, противополагавшегося им реакционному строю в районе армии. По ближайшем ознакомлении с этим учреждением оказалось, однако, что в нем нет ничего ни социалистического, ни демократического, ни даже общественного. В нем были объединены в одно целое, составляя его отделы, все прежние губернские учреждения, как казенные, так и общественные. Вошли в него, например, казенная и контрольная палаты, земская и городская управы. Продовольственный отдел городской управы оказался выделенным в особый отдел, а сама управа лишилась своего общественного характера, ибо Городская дума восстановлена не была. Руководители всех отделов, в том числе и городского, были назначены Балаховичем. В общем, ничего страшного в детище Иванова не было, но и предметом подражания оно служить не могло.
Одной из задач приезда Хомутова и явилось воссоздание здесь общественных учреждений. В отношении Городской думы это оказалось не трудно, ибо, хотя значительная часть интеллигенции разъехалась из города, однако, все-таки в нем оставалось еще достаточное число гласных. В двух заседаниях, созванных Хомутовым, был составлен список прежних гласных, в который были включены имена избранных и до революции, и после нее. Исключены были только большевики. Гораздо хуже было положение с земством. Собрать достаточное число гласных ни губернского, ни даже уездного земства, было невозможно. В виду этого, совещание составило лишь список земских деятелей, из коих возможно было бы составить земскую управу для поручения ей заведования земскими учреждениями, одинаково, как губернскими, так и уездными. Такая управа и была вскоре назначена. Замечу, что учреждения губернского земства остались очень немногие. На них особенно разрушительно сказалась послереволюционная эпоха. В губернской управе, куда я зашел, чтобы получить некоторые статистические сведения, с грустью слушал я рассказ принявшего меня старого земца. Щемящее впечатление производил, например, рассказ про психиатрическую лечебницу губернского земства, в которой больные вымирали от истощения и чесотки, ибо и негде, и не на что было купить мыла. Из 380 больных осталось всего 115.
Побывал я в Пскове в краснокрестных учреждениях – в общине Красного Креста и 64-м госпитале. Последний, помещенный в бараках около станции железной дороги, производил удручающее впечатление; помещались в нем заразные, большею частью сыпно-и возвратно-тифозные. Изоляции между ними не было. В госпитале не было дезинфекционной камеры, и белье больных просто кипятилось. Поддерживать чистоту в этих грязных бараках было, конечно, очень трудно, но частью повинна в грязи была и прислуга, распустившаяся после революции и с которой врачи, видимо, не умели справиться. Раньше краснокрестным этот госпиталь не был, и был только поручен Красному Кресту после взятия Пскова белыми. Традиций Красного Креста у него и не было. Рядом с этой печальной картиной особенно порадовала меня община Красного Креста. Можно было бы подумать здесь, что не было ни войны, ни революции. Для персонала ее все время существовали только больные. Политические их взгляды были безразличны, и при мне, например, рядом лежали в палатах общины раненые белые и красноармейцы. В результате, как красные, так и белые относились к общине с уважением. Я застал старшего врача и старшую сестру Матвееву, которую знал еще на войне, и на огороде, за обработкой его. Тут же, в котухе, откармливалась свинья: «Вот если удастся продать ее, то покрасим крышу», – объяснили мне. Благодаря такому отношению к делу этих самоотверженных людей, удалось поддержать родное им учреждение на исключительной высоте. Оно сохранило даже свой внешний вид. В коридорах остались, например, пальмы, а про медицинскую часть не стоит и говорить. Что-то теперь сталось с этой общиной?
Обратно ехал я в товарном вагоне с очень милым старшим лейтенантом Ферсманом, ездившим в Псков отобрать там матросов для вновь формируемого Андреевского полка, который, в случае взятия Кронштадта, должен был принять на себя охрану флота и всех казенных сооружений. Позднее я встретился с Ферсманом уже только во Франции. В начале 1920 г. он с группой других офицеров на небольшом тральщике «Китобой» ушел из Ревеля, чтобы не отдавать этого суденышка эстонцам (оно бежало в июне 1919 от большевиков, его приняли англичане и передали Сев. – Западной армии). Сперва прошли они в Либаву, а затем вокруг всей Европы, в Крым, где тогда еще держались белые. «Китобой» был в очень печальном виде, ремонт его был необходим, но не имелось на него ни денег, ни времени. Не было на нем, наконец, и мореходных инструментов, кроме компаса. Тем не менее, Ферсман решил идти. Неоднократно приходилось останавливать машину, чтобы откачивать заливавшую ее воду, малейшая ошибка в курсе могла навести на минные заграждения, но, тем не менее, «Китобой» шел и шел. В Копенгагене, где любили русских, датчане снабдили его мореходными инструментами, но еле удалось отстоять судно от англичан, потребовавших его себе как приз. Во Франции удалось немного подремонтироваться, и, в конце концов, «Китобой» дошел до Севастополя, но уже только в день его эвакуации, в котором принял активное участие, а затем вместе со всей эскадрой вернулся в Бизерту.
Вскоре после поездки в Псков я проехал в Ямбург, где первым делом отправился в уездную земскую управу. Нового председателя ее, моего коллегу по Думе Евсеева, я уже видел в Нарве, где он многое рассказал про уезд. Ямбургское земство сряду после его восстановления начало работать, во всю стремясь вернуться к тому высокому положению, на котором оно стояло раньше. Тем не менее, смету свою оно установило в размере всего около 3.000.000 руб. вместо 90.000.000, установленных при большевиках. Состав земского собрания был почти исключительно крестьянским. Я уже упоминал, что земство в этом уезде было установлено приказом коменданта Бибикова, продиктованным Евсеевым. Уездное земское собрание составлялось по нему из представителей от казны и духовенства, 3 гласных от города, и гласных от волостных земств – по три от каждого. Эти все оказались крестьянами. Волостные земства руководились управами из трех лиц, избираемых собраниями, составленными из гласных, выбираемых всеми сельскими сходами, в коих принимали участие все обыватели района селения. Евсеев и другие земцы, с которыми судьба свела меня здесь, были тогда определенными противниками «четырёххвостки»[27]27
Выборы на основе на основе «всеобщего, гласного, равного, тайного» голосования.
[Закрыть]. Естественно, что созданные таким образом земства, начали свою работу под влиянием условий военного времени. Настроение и их, да и всего населения, оказалось ярко антибольшевистским и столь же определенно патриотическим.
В некоторых волостях, когда большевики перешли в наступление, население само мобилизовало всех способных носить оружие. Ни в Гдовском, ни в Псковском уездах такого настроения не было, там отношение ко всему было гораздо более пассивным. Патриотичность Ямбургских крестьян особенно сказалась в их отношении к так называемому «ингерманландскому» вопросу, по мнению сторонников которого население побережья Финского залива в Петербургской губернии, принадлежавшее к «ингерманландскому» племени, выражало, якобы, желание обособиться и от русских, и от России. Корни этого движения лежали в Финляндии, откуда и явились в армию инициаторы образования особого ингерманландскаго отряда. Эстонцы их горячо поддержали, и вскоре при эстонских войсках образовался ингерманландский отрядик человек в сто, в коем ингерманландцев, впрочем, кажется, совсем не было. Тогда двое представителей его явились к Родзянко, требуя разрешения на вербовку добровольцев в районе армии. Беседа закончилась большим скандалом: уверяли, что Родзянко не ограничился непечатными словами, но самолично спустил их с лестницы. Это задело и эстонцев, очень поддерживавших ингерманландцев, и англичан, усмотревших в этом, насколько искренно – не знаю, посягательство на право самоопределения народностей. После довольно длительных переговоров была назначена особая посредническая комиссия, в которую вошел в числе русских членов Евсеев. Этот последний смог доставить в комиссию единогласное постановление населения этих «ингерманландских волостей» (к которому он принадлежал и сам), принятое на съезде их представителей, в котором они определенно склонялись на русскую сторону. После этого весь этот вопрос заглох.
В состав Ямбургской земской управы вошли еще двое крестьян и один горожанин, частный или присяжный поверенный Иванов, вскоре, впрочем, ее оставивший. Общественное мнение уже тогда винило его в том, что своими демагогическими речами в начале большевизма он вызвал убийство помещиков князя Оболенского и Безобразова.
В августе Евсеев вошел в состав правительства Лианозова, и тогда его заменил член управы Ионов. Редко мне приходилось видеть человека, распоряжавшегося с таким уменьем и спокойствием в трудные октябрьские и ноябрьские дни, как этот простой, но умный русский крестьянин-мельник. Составить городскую управу было в Ямбурге труднее: никто из горожан баллотироваться в нее не захотел, и, насколько мне помнится, она была составлена приказом коменданта в составе 3-х последних городских голов. Впрочем, и хозяйство-то городское в этом мертвом городке было ничтожным, и, кроме содержания самой управы, сводилось только к содержанию одной пожарной команды. Внешне город совсем не пострадал, и следом большевиков остался лишь белый пьедестал памятника Марксу, но бедность и нужда были в Ямбурге такие же, как в Гдове и Пскове.
О политических и социальных взглядах ямбургских крестьян того периода дает представление постановление земского собрания, согласно которому имения отсутствующих помещиков были взяты в управление земства до их возвращения. Кажется, и здесь, как и в Гдовском уезде, усадьбы в общем до 1919 г. уцелели и были большею частью уничтожены лишь во время последующих боев. Отношения к помещикам здесь не имели, как и вообще на Севере, где крестьяне интересовались больше лесом, чем пахотною землею, того враждебного отношения, как в центральной России. В Ямбургском уезде, по подсчетам местных деятелей, было убито до прихода белых около 100 человек, и в числе их помещиков было всего два. Один из них, князь Оболенский, был всеми уважаемым старым либеральным деятелем губернского земства, другой пострадал, кажется, за то, что был раньше земским начальником. Не было в уезде расстрелянных из числа духовенства.
Узнал я в Ямбурге про недовольство эксцессами белых. Оказалось, что в одной деревне перепороли всех девушек, записавшихся после убеждения стоявших у них авиаторов в коммунистки. Недовольны были самовольными реквизициями отдельных частей. Расстрелы, наоборот, массовых жалоб не вызывали, хотя из расспросов коменданта я узнал, что расстреляно было по приговорам военно-полевых судов до 100 человек. «А без суда не расстреливали?», – спросил я Бибикова. «Нет», – был ответ, – «А, впрочем, одного я расстрелял и без суда, но это был китаец, признавшийся, что он получал по 100 руб. за каждое убийство. Не стоило было и тратить времени на суд». Один из этих расстрелов «по суду» привел, однако, самого Бибикова под следствие. Обвинялся управляющий имением графа Сиверса и один из его работников в растрате имущества имения. Собственника имения налицо не было, и никаких жалоб он никому не приносил. Обвиняемые объяснили, что имущество было ими продано для поддержания имения. Ввиду этого суд обвиняемых оправдал за отсутствием состава преступления. На приговоре суда Бибиков положил резолюцию: «С мнением суда не согласен. Повесить обоих», – что и было исполнено. Этот печальный процесс был использован большевиками как средство агитации против белых, но на настроение населения, кажется, не повлиял. В Ямбурге первые смертные приговоры были исполнены публично, но в виду дурного влияния на психику населения позднее исполнялись в тюрьме.
Из Ямбурга я вернулся тогда в Нарву в вагоне Родзянко и на его же автомобиле был довезен домой. Проезд с командующим армией имел значение, ибо и днем, и особенно ночью в Нарве в разных местах проверялись документы, спрашивался и пропуск. Спрашивали его и у Родзянко, но он очень добродушно отправлял спрашивавших к их мамаше и проезжал далее. Этому примеру следовали и состоявшие при Родзянко лица, но без его добродушия, и вызывали против штаба несомненное озлобление, которое и выразилось в конце августа в предъявлении Юденичу высшими чинами армии требования об удалении из армии «безответственных советников» и его, и Родзянко. Первым ушел тогда от Родзянко Пермикин, успевший стать уже «генералом для поручений», хотя и налагал на штаб очень темное пятно.
Еще когда я приехал в Ревель, меня встретили уверениями, что в течение двух недель от англичан будет получено все необходимое снаряжение, и тогда армия перейдет в наступление. «Вы увидите, что Петроград будет взят в несколько дней». То же повторялось и в Нарве. Почти каждый день получались точнейшие сведения о приходе на следующий день в Ревель пароходов то с артиллерией, то с обмундированием, то с танками. Исходили они обычно из английского штаба. Затем проходили назначенные дни, пароходы запаздывали или проходили в Архангельск, а если и приходили в Ревель, то без обещанного снаряжения. В ожидании снаряжения фронт сперва застыл на одном месте; лишь на левом фланге продвинулся он немного со сдачей Красной Горки. Шеститысячный ее гарнизон перебил своих комиссаров и коммунистов (будто бы свыше 300 человек) и частью вошел в состав армии. Ожидалась и сдача Кронштадта, какие-то переговоры с ним велись, но ничего из этого не вышло: наоборот, вскоре началась артиллерийская дуэль между ним и Красной Горкой. Последняя расстреляла имевшиеся у нее 400 снарядов, и после этого была разрушена Кронштадтскими батареями и тяжелыми орудиями флота. Впрочем, все ценное и пригодное для армии было вывезено оттуда и гарнизон выведен заблаговременно. В это время большевики собрали под Петроградом против Северо-Западной армии тройные силы, и перешли в наступление. Белые войска стали понемногу отходить, то в одном, то в другом направлении, стали получаться известия о прорывах, об оставлении сперва Волосова, а потом и Веймарна. Под Псковом Балаховичу пришлось выдержать упорные бои, и лишь ударом в штыки, под личным командованием его удалось решить судьбу сражения. На этот раз Псков удержался.
В чем же заключались причины запоздания англичан? По-видимому, просто потому, что никакого решения о помощи Северо-Западной армии у них и вообще-то не было еще, хотя уже в апреле или начале мая в Гельсингфорс приехал генерал Гоф с поручением выяснить всю обстановку на этом фронте. В Финляндии и состоялись его совещания с русскими вожаками. В то время главой Финляндского государства был Маннергейм, который, как говорили, заявил о своей готовности идти на Петроград. Предварительного требования признания Колчаком независимости Финляндии он не предъявлял, заявив только, что если финляндская армия освободит Петроград и возвратит его России, то это даст ей бóльшие основания требовать признания ее независимости, чем любые обещания Колчака или Юденича. Как мне говорили, он ставил лишь практические условия – предоставление Англией займа Финляндии в 100 миллионов золотых марок и предоставление военного снаряжения взамен имеющего быть израсходованным при движении на Петроград. Эти условия не были, однако, приняты англичанами, высказавшимися за движение на Петроград по южному берегу Финского залива. Одному нашему видному общественному деятелю Гоф заявил, что поддержка Маннергейма и его движения на Петроград – было бы не демократично.
Я думаю, однако, что мысль о движении по южному берегу укрепилась у англичан только после майских успехов Родзянко. Пока правильность ее была подтверждена ознакомлением с Северо-Западной армией на месте, пока соответствующие представления шли в Лондон, время уходило, а в Лондоне решение задержалось еще разногласием между Черчиллем и Ллойд-Джорджем, начавшим сомневаться в правильности поддержки белых (ведь в это время уже решался вопрос об эвакуации англичанами Архангельска). На этот раз Черчилль победил, и было решено помочь Северо-Западной армии, но, по-видимому, только около 10 июля, и первое снаряжение начало поступать в Ревель только в конце этого месяца. Нужно еще добавить, что благодаря агитации левых агентов, а отчасти и благодаря нападкам на армию со стороны газеты Иванова и Мансырева, умело использованными большевиками, у английских представителей осталось впечатление о крайней реакционности армии. В результате, не раз были случаи отказа английских рабочих грузить военным имуществом пароходы для армии, и приходилось погружать его на пароходы, идущие в Архангельск, и по пути, подчас в море, перегружать его на другие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?