Читать книгу "Жизнь Иисуса"
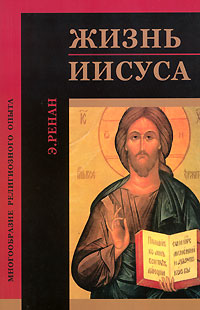
Автор книги: Эрнест Ренан
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава двадцать первая
Происки врагов Иисуса
Иисус провел осень и часть зимы в Иерусалиме – время здесь довольно холодное. Портик Соломона с его закрытыми галереями был местом, где он обыкновенно гулял. Этот портик, единственный остаток древнего храма, состоял из галерей, образованных двумя рядами колонн и стеной, которая возвышалась над Кедронской долиной. Сообщение извне поддерживалось через Суэзские ворота, следы которых еще видны внутри того места, которое теперь носит имя «Золоченых ворот». Другая сторона долины уже имела свое украшение, состоявшее из великолепных гробниц. Некоторые из тех памятников, которые там видны теперь, были, быть может, гробницами, поставленными в честь пророков, о которых думал Иисус, когда, сидя, под портиком, призывал громы против господствующих классов, за этими грандиозными массами приютившими и скрывшими свое лицемерие и тщеславие.
В конце декабря в Иерусалиме справлялся праздник, установленный Иудой Маккавеем в воспоминание об очищении храма после осквернения его Антиохом Епифаном. Его называли «праздником светочей», потому что в течение недели в домах оставались зажженными лампады. Вслед за этим Иисус предпринял путешествие в Перею и на берега Иордана, то есть в те страны, которые он посетил за несколько лет до того, во время, когда он был еще в школе Иоанна, страны, где он получил крещение. Он получил здесь, как видно, некоторое утешение, в особенности в Иерихоне. Этот город оттого ли, что он открывал собою великий торговый путь, или благодаря своим благовонным садам и богатству культуры имел всегда крупную таможню. Начальник таможни, богатый Закхей, захотел увидеть Иисуса. Человек маленького роста он должен был влезть на сикомор близ той дороги, где должно было пройти шествие. Иисуса тронула эта наивность столь значительного официального лица. Он выразил желание остановиться у Закхея, не считаясь с риском возбудить этим неблагоприятную для него сенсацию. Действительно он вызвал этим ропот, воздавая своим пребыванием в доме – честь грешнику. Уходя, Иисус сказал о своем хозяине, что он добрый сын Авраамов, и как бы для того чтоб усилить досаду ортодоксов, Закхей сделался святым: он, говорят, отдал половину своего имущества бедным и сделал вчетверо больше хорошего, чем раньше совершил дурного. Но не этим одним, впрочем, исчерпывалась радость Иисуса. При выходе из города нищий Вартимей доставил ему много удовольствия, назвав его «сыном Давида», хотя его принуждали молчать. Цикл чудес галилейских, казалось, на мгновение снова открывается в этой стране, имевшей много сходства с северными областями. Восхитительный оазис Иерихона, тогда прекрасно орошенный, был, должно быть, одним из самых красивых мест Сирии. Иосиф говорит о нем с таким же восхищением, как и о Галилее, и называет его, как и Галилею, «божественной страной». Иисус, совершив это путешествие с места зарождения своей проповеднической деятельности, вернулся к любимому своему месту – в Вифанию. Что особенно должно было удручать в Иерусалиме преданных галилеян, это то, что там не было совершено ни одного чуда. Устав от того дурного приема, который пришелся на долю Царствия Божия в столице, друзья Иисуса, казалось, иногда ждали и хотели великого чуда, которое сломило бы иерусалимское неверие. Воскресение от смерти должно было им казаться особенно убедительным воздействием. Можно думать, что Мария и Марфа открылись Иисусу в этих своих чаяниях. Слава приписывала уже ему два или три случая такого рода. «Если кто из мертвых, – говорили, несомненно, эти благочестивые сестры, – придет к ним, покаются». «Нет, должно быть, ответил Иисус, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Припомнив тогда историю, которую он рассказывал о бедном нищем, покрытом язвами, который после смерти был отнесен ангелами на лоно Авраамово, возможно, что он прибавил: «Если б Лазарь вернулся, и то не поверили бы». Позже на этом построена была своеобразная путаница. Гипотеза стала фактом. Говорили о воскресшем Лазаре, о непростительной косности, в которой надо костенеть, чтоб противостоять даже этому доказательству. «Язвы» Лазаря и «проказы» Симона Прокаженного смешались вместе, и традицией было допущено, что Марфа и Мария имели брата по имени Лазарь, которого Иисус вызвал из могилы. Когда узнаешь, из каких неточностей, из каких пустяков составляются пересуды восточного города, перестаешь смотреть, как на нечто немыслимое, на тот факт, что такой слух распространился в Иерусалиме при жизни Иисуса и имел для него роковые последствия.
Достаточно серьезные основания заставляют верить, что действительно некоторые причины, имевшие источником своим Вифанию, содействовали ускорению смерти Иисуса. Иногда невольно рождается мысль, что семья в Вифании сделала какой-нибудь неблагоразумный поступок или впала в какую-нибудь слишком усердную крайность. Может быть, горячее желание закрыть рот тем, которые оскорбительно отрицали божественную миссию их друга, увлекла эти страстные натуры перейти границы. Надо вспомнить, что в этом нечистом и невыносимом Иерусалиме Иисус переставал быть самим собой. Сознание его благодаря преступлениям людей, а не по вине его самого потеряло отчасти свою первоначальную прозрачную чистоту. Отчаиваясь, доведенный до крайних пределов испытания, он не принадлежал уже себе больше. Его миссия камнем ложилась на его душу, и он отдался во власть течения. Смерть через несколько дней вернет ему его божественную свободу и исторгнет его из объятий роковой необходимости играть роль, которая с каждым часом становилась все требовательнее, все невыносимее.
Резкое противоречие между его все возрастающей экзальтацией и индифферентизмом евреев обостряется все сильнее и сильнее. В то же время и власти начинают все более и более питать раздражение против него. В феврале или начале марта был созван совет первосвященников, и на одном совете вопрос был поставлен прямо ребром: «Могут ли Иисус и иудаизм жить вместе?» Поставить вопрос значило решить его, и не надо было быть пророком, как этого хочет евангелист, чтобы священник провозгласил свою кровавую несомненную истину: «Пусть лучше один человек умрет во имя всего народа».
«Первосвященником того лета», – употребляя выражение четвертого евангелиста, который ярко рисует этим термином то состояние упадка, до которого дошла власть первосвященника, – был Иосиф Каиафа, поставленный Валерием Гратом и совершенно преданный римлянам. С тех пор как Иерусалим попал под управление прокураторов, должность первосвященника стала сменяемой, глава церкви сменялся почти ежегодно. Однако Каиафа оставался на посту дольше, чем прежние. Он занял это место в 25 году и лишился его только в 36-м. О его характере неизвестно ничего. Много обстоятельств дают основание думать, что власть его была номинальна. Рядом с ним и выше его мы видим всегда другое лицо, пользовавшееся в тот момент, которым мы теперь заняты, решающей властью.
Это лицо – тесть Каиафы Ханан, или Анна, сын Сета, старый низложенный первосвященник, который среди этой беспрерывной смены первосвященников сохранял фактическую власть за собой. Анна получил должность первосвященника в легатство Квириния, в 7 год нашей эры. Он потерял этот пост в 14 году, при восшествии Тиверия, но остался все-таки очень уважаемым. Его продолжали именовать «первосвященником», хотя он и был отставлен от этой должности, и с ним советовались во всех важнейших делах. В течение пятидесяти лет почти без перерыва первосвященничество оставалось в его роде; пять его сыновей последовательно занимали эту должность, не считая Каиафы, который был его зятем. Его род был тем, что называют «священнический род»: должность священника стала в нем как бы наследственной. Высшие должности в храме также почти все принадлежали этому роду. Правда, с ним чередовался другой род, Воетусимов, в занятии должности первосвященника.
Но Воетусимы, обязанные своими материальными средствами причине, мало говорящей в их пользу, были менее уважаемы благочестивой буржуазией, чем Хананы. Ханан и был действительным вождем священнической партии. Каиафа делал все по его указанию; их имена даже привыкли сопоставлять вместе, но имя Ханана ставили на первое место. Легко действительно понять, что при таком режиме ежегодной смены первосвященников и подавляющего значения в этом деле произвола прокуратора – при таком положении старый первосвященник как лицо, хранившее тайну старых преданий, видевшее смену более юных фамилий у власти и сохранившее довольно веса для того, чтобы передать власть лицам, повинующимся ему по их положению в роде, – такой первосвященник должен был быть очень влиятельным человеком. Подобно всей храмовой аристократии, он был саддукеем – «секта, говорит Иосиф, – исключительно жестокая в своих приговорах». Все его сыновья были также ожесточенными фанатиками. Один из них по имени Ханан, как и отец его, велел избить камнями Иакова, брата Господа, при обстоятельствах, весьма сходным с теми, при которых умер Иисус. Дух, царивший в этой семье, отличался надменностью, дерзостью и жестокостью; в нем была особого рода презрительная и скрытная злоба, характеризующая политику евреев. Таким образом, на Ханана и близких его должна пасть вся тяжесть ответственности за все то, что будет здесь рассказано. Именно Анна (если хотите, его партия, которую он представлял) убил Иисуса. Анна был главным действующим лицом этой роковой драмы и гораздо скорее, чем Каиафа или Пилат, должен был бы нести на себе всю тяжесть проклятий человечества.
Смерть Иисуса была, таким образом, решена в феврале или марте. Но Иисус избег ее еще на некоторое время. Он удалился в малоизвестный город Ефраим, или Эфрон, близ Вефиля, на расстоянии около дня пути от Иерусалима, на границе с пустыней. Он прожил там несколько недель с учениками выждал, пока стихнет буря. Приказ о его аресте, как только найдут его близ храма, уже был дан. Приближался праздник Пасхи, и, полагали, что Иисус по своему обыкновению придет провести этот праздник в Иерусалиме.
Глава двадцать вторая
Последняя неделя жизни Иисуса
Вместе с учениками он отправился посетить в последний раз неверный город. Надежды окружающих его становились все более и более радужными. Все полагали, что, войдя в Иерусалим, они узрят Царствие Божие. Нечестивость человеческая достигла высшего предела; это было верным признаком того, что конец мира близок. Уверенность в этом была так сильна, что уже шли споры о праве на первенство в Царствии Божием. Говорят, что именно этот момент Саломея избрала для того, чтобы испросить у Иисуса два места для своих сыновей, по правую и левую стороны Сына человеческого. Учитель, напротив, был погружен в глубокую думу. Иногда он проявлял мрачное озлобление против своих врагов. Он рассказал притчу о благородном человеке, который отправился в далекие страны, чтобы получить себе царство, но едва только он ушел, как сограждане не пожелали его больше. Царь вернулся, приказал привести к нему тех, которые не хотели, чтобы он царствовал над ними, и приговорил их всех к смерти. В другой раз он напрямик разрушает иллюзии своих учеников. Когда они проходили по каменистым дорогам к северу от Иерусалима, Иисус, задумавшись, оказался впереди своих спутников. Все молча смотрели на него, испытывая беспокойство и не осмеливаясь заговорить с ним. Уже неоднократно он говорил им о будущих страданиях, и они слушали его неохотно. Наконец, Иисус заговорил и, не скрывая своих предчувствий, сказал им о своей близкой кончине. Глубокая печаль охватила всех присутствующих. Ученики ожидали, что в облаках скоро появится знамение. Радостные крики священного возгласа уже раздавались в толпе: «Благословен грядый во имя Господне». Кровавая перспектива, предсказываемая Иисусом, смутила их. С каждым шагом рокового пути Царствие Божие то приближалось, то удалялось в их грезах. Иисус же утверждался в мысли, что он должен умереть, но что его смерть спасет мир. Непонимание между ним и его учениками становилось с каждым мгновением все более глубоким.
По обычаю, в Иерусалим приходили за несколько дней до Пасхи, чтобы приготовиться к ней. Иисус пришел позже других, и одно время его враги полагали, что обманулись в своих ожиданиях схватить его. За шесть дней до праздника (в субботу 8 нисана = 28 марта) он достиг наконец Вифании. Обыкновенно он останавливался в доме Марфы и Марии или у Симона Прокаженного. Его приняли с большой торжественностью у Симона Прокаженного – был обед, на который собралось много лиц, привлеченных желанием видеть нового пророка и, как говорили, также Лазаря, о котором за последние дни распространялось много толков. Симон Прокаженный, восседавший за столом, принимался, быть может, некоторыми за лицо, воскрешенное Иисусом, и поэтому привлекал внимание многих. Марфа прислуживала по своему обыкновению. По-видимому, хозяева рассчитывали победить холодность публики усиленным проявлением внешнего почета, подчеркивая этим сильнее высокое достоинство принимаемого гостя. Мария, с целью придать пиршеству характер возможно большей торжественности, внесла во время обеда сосуд с благовониями и помазала ноги Иисуса. Затем она разбила сосуд согласно старинному обычаю уничтожать посуду, которая служила при приеме особенно почетного гостя. Наконец, доходя в своем поклонении Иисусу до крайностей, еще не виданных, она распростерлась у ног Иисуса и вытерла их своими длинными волосами. Комната наполнилась благоуханием ароматов к великому удовольствию всех, кроме скупого Иуды из Кериота. Принимая во внимание скромные привычки христианской общины, это действительно являлось крупной расточительностью. Жадный казначей тотчас же высчитал, за сколько можно было бы продать эти благовония и сколько поступило бы денег в кассу для бедных. Этот нелюбезный поступок вызвал неудовольствие Иисуса: допускалось, значит, что есть что-либо выше Его. Он любил почести, так как они служили его цели, утверждая за ним титул сына Давидова. Поэтому когда с ним заговорили о нищих, он довольно резко возразил: «Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете». Придя в экстаз, он обещал бессмертие женщине, которая дала в этот критический момент доказательство своей к нему любви.
На следующий день (воскресенье, 9 нисана) Иисус спустился из Иерусалима. Когда на повороте дороги на вершине Масличной горы перед ним развернулась панорама города, он, говорят, заплакал и обратился к нему с последним воззванием. На склоне горы, близ предместья, заселенного главным образом священниками и назвавшегося Вифсфагией, Иисус на мгновение еще раз испытал удовлетворение своих человеческих чувств. Слух о его прибытии уже распространился. Галилеяне, пришедшие на праздники, чрезвычайно этому обрадовались и обставили встречу его несколько торжественно. Ему привели по обычаю ослицу с молодым осленком. Галилеяне покрыли спину животного своими лучшими одеждами и посадили на нем Иисуса. В это время другие расстилали свои одежды по дороге и усыпали ее зелеными ветками. Толпа, которая шла впереди и позади него с пальмовыми ветками в руках, восклицала: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядый во имя Господне!» Некоторые даже называли его царем израильским. «Равви, прикажи им замолчать». – «Если они замолчат, то камни возопят», – ответил Иисус и вошел в город. Иерусалимляне, мало знавшие его, спрашивали: «Кто это?» – «Это Иисус, пророк из Назарета в Галилее», – отвечали им. В Иерусалиме было около 50 000 жителей. Обыкновенно весть о сколько-нибудь заметном событим вроде прибытия известного иностранца, или толпы провинциалов, или каких-нибудь народных волнений на площадях города быстро переходило из уст в уста среди населения. Но во время праздников смятение в городе доходило до крайних пределов. В эти дни Иерусалим принадлежал пришельцам. Между ними-то волнение и было особенно сильно. Новообращенные, говорившие по-гречески и пришедшие на праздник, горели любопытством и нетерпением увидеть Иисуса. Они обратились к его ученикам: каковы были результаты этой беседы, достоверно неизвестно, Иисус же отправился по своему обыкновению на ночлег в свою любимую деревню Вифанию. В следующие три дня (понедельник, вторник, среда) он точно так же приходил в Иерусалим; после захода солнца он отправлялся или в Вифанию, или на ферму, лежавшие по западному склону Масличной горы, где у него было много друзей.
В эти последние дни великая печаль наполнила душу Иисуса, обыкновенно такую ясную и радостную. Все рассказы о нем сходятся в том, что перед арестом он испытал минуту смущения, тоскливой тревоги. По рассказам одних, он внезапно воскликнул: «Душа моя теперь возмутилась; Отче, избавь меня от часа сего». Одним казалось, что в ту минуту послышался голос с неба; другие говорили, что приходил ангел утешать его. По одной очень распространенной версии, это происходило в Гефсиманском саду. Иисус, говорят, отошел от своих уснувших учеников на «вержение камня», то есть на расстояние, достаточное для метания камня, взяв с собой только Кифу и двух сыновей Заведеевых. Тут он пал лицом на землю и молился. Душа его исполнена была смертельной скорбью; страшной тоскою томилась она; но покорность воле Божией одержала верх. Инстинктивное чутье, подсказывающее синоптикам подчиняться иногда при редактировании требованиям условности или эффекта, заставляет их относить эту сцену к последней ночи жизни Иисуса и к моменту его ареста. Если бы эта версия была правильна, то нельзя было бы понять, каким образом Иоанн, оказавшийся будто бы близким свидетелем этого столь трогательного факта, он рассказал о нем своим ученикам, и каким образом редактор четвертого Евангелия не отметил этот эпизод в своем чрезвычайно подробном рассказе о вечере четверга. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что в течение последних дней Иисус жестоко томился под бременем огромной принятой им на себя миссии. На мгновение проснулась в нем человеческая природа. Быть может, он усомнился в своем деле. Страх и сомнение владели им и вызвали состояние слабости, которое хуже самой смерти. Человек, пожертвовавший великой идее своим покоем и законными благами жизни, не может не оглянуться печально на самого себя, когда пред ним в первый раз встает смерть и стремится убедить его в том, что всякие надежды тщетны. Быть может, в душе его пробудились в этот момент те трогательные воспоминания, которые сохраняют и самые сильные натуры, и которые острой болью пронизывают сердце в известные минуты. Вспомнились ли ему светлые струи Галилейских источников, освежиться в которых было бы так отрадно; виноградники и смоковницы, под которыми он мог отдохнуть; молодые девушки, которые, быть может, полюбили бы его? Проклинал ли он свою жестокую судьбу, которая заставила его отречься от всех радостей, доступных другим? Сожалел ли он о том, что одарен слишком высокой душой, не плакал ли он, жертва собственного величия, о том, что не остался простым ремесленником в Назарете? Этого мы не знаем. Вся его внутренняя борьба осталась, очевидно, тайной для его учеников. Они ничего не понимали в этом и дополняли своими наивными предположениями то, что было для них загадочного в душе учителя. Несомненно только то, что его божественная сущность скоро одержала в нем верх. Он мог еще избежать смерти, но не хотел. Его увлекла любовь к своему делу. Он решил испить чашу до конца. С этих пор Иисус снова становился цельным, без колебаний. Забыты все ухищрения полемиста, легковерие чудотворца и заклинателя бесов. Остался только несравненный герой страстей, основатель прав свободы совести, высокий образец совершенства, одна мысль о котором приносит силу и утешение всякой страждущей душе.
Торжество в Вифсфагии, эта дерзость провинциалов, празднующих у ворот Иерусалима прибытие своего царя Мессии, окончательно раздражило фарисеев и духовную аристократию. Новый совет состоялся в среду (12 нисана) у Иосифа Каиафы. Решено было немедленно арестовать Иисуса. Все их распоряжения были проникнуты чувством порядка и консерватизмом. Надо было избегнуть шума. Так как праздник Пасхи, начинавшийся в этом году в пятницу вечером, был временем народных сборищ и сильного возбуждения, то арестовать Иисуса решено было до праздника. Иисус был так популярен, что можно было опасаться восстания. По обычаю, народные торжества, на которых присутствовала вся нация, должны были открываться исполнением казней мятежников против авторитета первосвященников, нечто вроде аутодафе, имевшего целью вселить народу религиозный ужас. Тем не менее, совпадение таких зрелищ с праздничными днями было, по-видимому, нежелательно. Поэтому арест был поэтому, назначен на следующее утро, в четверг. Решено было также не арестовывать его в храме, куда он являлся ежедневно, но выследить его привычки и схватить в каком-нибудь тайном месте. Агенты первосвященников выведывали об этом у учеников, надеясь получить нужные сведения, воспользовавшись их бесхарактерностью или простодушием. В Иуде из Кериота они и нашли то, чего искали. По совершенно непонятным мотивам, этот несчастный выдал своего учителя, дал все нужные указания и даже согласился сопровождать отряд, которому был поручен арест. Последняя подробность является такой гнусностью, что едва ли она даже и вероятна. Ужасное воспоминание, сохранившееся в христианском придании о глупости или злобе этого человека, могло привести к некоторым преувеличениям. До тех пор Иуда был таким же учеником, как и остальные, – носил даже звание апостола, творил чудеса и изгонял демонов. Легенда, обыкновенно сгущающая краски, утверждает, что на тайной вечере присутствовало одиннадцать святых и один отверженный. Но в действительности не бывает таких абсолютных категорий. Корыстолюбие, которое синоптики считают причиной преступления, не дает удовлетворительного объяснения. Было бы странно, чтобы человек, который заведовал кассой, и которому грозило потерять все со смертью своего начальника, променял бы выгоды своей должности на крайне незначительную сумму денег. Не было ли причиной самолюбие Иуды, задетое во время обеда в Вифании выговором? Но и этого было бы недостаточно. Четвертый евангелист понимает его как обманщика, как неверующего с самого начала; а это совершенно невероятно. Скорее можно допустить, что им руководило какое-нибудь чувство ревности, какое-нибудь личное разногласие. Особая ненависть к Иуде, замечаемая в Евангелии, приписываемом Иоанну, подтверждает эту догадку. Менее чистый сердцем, чем другие, Иуда, сам того не замечая, мог усвоить себе узкие взгляды своей должности. По странности, весьма обыкновенной у людей, занимающих ответственные должности, он, быть может, готов был ставить интересы кассы выше самого дела, для которого она существовала. Администратор убил в его душе апостола. Ропот, вырвавшийся у Иуды в Вифании, заставляет предполагать, что, по его мнению, учитель обходится слишком дорого своей духовной семье. Без сомнения, такая мелочная бережливость являлась причиной и других недоразумений в маленькой общине.
Не отвергая, что Иуда из Кериота мог содействовать аресту своего учителя, мы, однако, полагаем, что проклятия, которыми его осыпают, не совсем справедливы. Быть может, в его поступке было больше опрометчивости, чем предательства. Взгляды человека из народа в вопросах морали бывают искренни и справедливы, но они также неустойчивы и непоследовательны, подчиняясь влиянию минуты. В тайных обществах республиканской партии было много убежденности и искренности, между тем и среди них было множество доносчиков. Самого мелкого неудовольствия было достаточно, чтобы превратить сектанта в изменника. Но если бы безумное желание получить несколько сребреников и вскружило голову бедному Иуде, – все же он не потерял окончательно нравственного чувства, так как, видев последствия своей вины, он раскаялся и, по преданию, покончил жизнь самоубийством.
С этого момента каждое мгновение полно такого величия, которое равняется целым столетиям в истории человечества. Мы дошли до четверга 13 нисана (2 апреля). На следующий день вечером наступал праздник Пасхи; он начинался пиршеством, на котором ели ягненка. Праздник должен был продолжаться семь дней, в течение которых едят опресноки. Первый и последний дни этого праздника отличаются особой торжественностью. Ученики уже были заняты приготовлениями к празднику. Что касается Иисуса, то можно предполагать, что о предательстве Иуды он знал и не сомневался в том, какая участь его ожидает. Вечером он в последний раз ужинал со своими учениками. Это не был обрядовый пасхальный ужин, как полагали позднее, допуская ошибку на один день. Но для новой Церкви ужин в четверг был настоящей Пасхой, символом нового союза.
У каждого ученика остались о нем самые дорогие воспоминания, и множество трогательных подробностей, сохранившихся об учителе, тоже относится ими к этой трапезе, которая сделалась краеугольным камнем христианского благочестия и исходным пунктом плодотворнейших утверждений.
Нет сомнения в том, что нежная любовь к маленькой церкви наполняла в этот момент все сердце Иисуса. Ясной и сильной душе его было легко под бременем угнетавших ее мрачных предчувствий. Для каждого из друзей у него нашлось доброе слово, – а в отношении двух из них, Петра и Иоанна, он проявил особенную нежность; Иоанн возлежал на скамье рядом с Иисусом, и его голова покоилась на груди учителя. К концу ужина Иисус чуть было не выдал тайны, давившей его сердце. «Истинно говорю вам, – сказал он, – один из вас предаст меня». Такие слова были для этих наивных людей глубоким огорчением. Они смотрели друг на друга, и каждый внутренне допрашивал себя самого. Иуда был тут же; быть может, Иисус, имевший с некоторых пор основание не верить ему, рассчитывал найти этому подтверждение в полном признании или смущенном поведении его. Но неверный ученик не смутился; он даже, говорят, осмелился вместе с другими спросить у него: «Не я ли, равви?»
Между тем горячий, добрый и правдивый Петр также страдал. Он сделал знак Иоанну, чтобы тот попытался узнать у учителя, на кого он намекает. Иоанн, имевший возможность говорить с учителем так, чтобы их никто не слышал, попросил его разъяснить смысл этих слов. Иисус, питавший только подозрения, не хотел называть имени; он только сказал Иоанну, чтобы он обратил внимание на того, кому он подаст кусок хлеба, обмакнув его в соус; в ту же минуту он обмакнул хлеб и подал его Иуде. Только Иоанн и Петр знали об этом. Иисус обратился к Иуде с несколькими словами, в которых заключался горький упрек, но слова эти были непонятны присутствующим. Они думали, что Иисус отдавал ему распоряжения относительно завтрашнего праздника. После этого Иуда вышел.
Тогда, за этим ужином, никто не заметил ничего особенного, за исключением опасений, которые учитель высказал своим ученикам, понявшим его лишь наполовину. Но после смерти Иисуса этому вечеру стали придавать особое торжественное значение, и воображение верующих наложило на него отпечаток нежной таинственности. Последние минуты дорогого человека запоминаются лучше всего. Вследствие неизбежной иллюзии разговорам, которые с ним происходили, приписывают тот смысл, который они могли принять лишь вследствие его смерти. Воспоминания многих лет сводятся к воспоминаниям нескольких часов. Большинство учеников не видело своего учителя после упомянутой вечери. Это был прощальный пир. Во время этой трапезы, как и во время многих других, Иисус совершил свой мистический обряд преломления хлеба. Так как с первых лет возникновения Церкви предполагали, что трапеза эта происходила в самый день Пасхи, и что это была пасхальная трапеза, то, естественно, явилась мысль, что установление евхаристии относится к этому последнему моменту. Исходя из гипотезы, что Иисус знал точно момент своей смерти, ученики должны были бы предположить, что он отложил на свои последние часы самые важные дела. Сверх того, одна из основных идей первых христиан состояла в том, что смерть Иисуса являлась жертвой, заменявшей все жертвы старого Закона. Поэтому Тайная Вечеря, относительно которой раз и навсегда установили, что она происходила накануне «Страстей», была признана жертвой, по преимуществу, основным актом нового единения, знамением крови, пролитой за спасение всех людей.
Хлеб и вино в связи с самой смертью стали образом Нового Завета, который Иисус запечатлел своими страданиями, напоминанием о жертве Иисуса вплоть до его второго пришествия.
Еще в первую эпоху это таинство отразилось в небольшом рассказе, который имеется у нас в четырех очень сходных между собой вариантах. Но рассказ этот не был известен четвертому евангелисту, сильно занятому евхаристическими идеями, рассказывающему так подробно о последней вечере, связывающему с ним столько обстоятельств и поучений. Это доказывает, что секта, преданием которой служит этот рассказ, не считала установление Евхаристии принадлежностью Тайной Вечери. Для четвертого евангелиста обрядом Тайной Вечери является омовение ног. Очень возможно, что в некоторых семьях первых христиан этот обряд имел важное, впоследствии утраченное значение. Чтобы дать своим ученикам урок братского смирения, Иисус, без сомнения, прибегал иногда к этому обряду. Его отнесли к кануну смерти Иисуса вследствие стремления собрать в Тайной Вечере все важнейшие моральные и обрядовые постановления Иисуса.









































