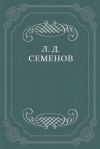Читать книгу "Зверь из бездны"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XV
Хуторок Соломейки стоял на отскочке, вдали от железной дороги и от шоссе; «своя» дорога к нему была, и по ней только туда ездили. Но привлекал поэтому этот хуторок внимания ни «белых», ни «красных». Когда-то Соломейко был станичным писарем, а после стал хозяйничать на купленном хуторке и жил теперь трудами рук своих с огородов и сада. Последний год старик ослаб, потерял былую энергию, колоссальную трудоспособность и самый интерес к труду. Точно увял Соломейко, раньше веселый говорун, любивший и выпить, и пошутить, и песни попеть казацкие. Стал угрюмый, задумчивый, точно всегда разрешал в уме какую-то трудную задачу. Неразрешимая задача! Старший сын, Петр, – у «белых», а младший, Павел, – у «красных». А сердце отцовское не поделишь. Старик не любит и боится больше «красных», да и «белых» недолюбливает. «Белые» делали обыск и увели лошадь; «красные» забрали корову. Одни ругали «товарищем», другие – «буржуем и кадетом», теперь застраховался от всякой опасности: однажды, когда победителями были «белые», приехал повидаться с отцом старший, Петр, и выдал старику «охранный мандат», в другой раз, когда были победителями «красные», приезжал младший, Павел, и тоже выдал «мандат». Можно бы хозяйничать, да нет на душе успокоения: бог знает, когда и как кончится вся эта злоба, и стоит ли трудиться… Для кого? Для которого из сыновей? А сам он уже стар и немного ему надо…
Иногда он заходил в сад – посидеть в сумерках и разогнать хмурь разговором с Борисом и Ладой. Говорил, что пора бы за покойной женой, подальше от этого зла, к Господу Богу на покой, где нет ни «белых», ни «красных», а только одни грешники. А когда Борис с Ладой говорили ему слова утешения и старались поддержать его дух и энергию, то безнадежно махал рукой и говорил:
– Точку в жизни потерял!.. Ногами опереться не во что… И все люди тоже потеряли точку… Не видно, где правда. Сперва думал – она у «белых», потом стал думать, что у «красных». А теперь ничего нет, одна злоба и грабеж, убийства и пьянство. Один разбой везде…
Долго молчал, смотря тупыми глазами в землю, потом, тяжело выбросив из легких воздух, разводил руками и думал вслух:
– Видно, один на свете остался: от Петра давно ни слуху ни духу нет. Ждал, что теперь Павел явится или весточку подаст, – тоже ничего… Может, одного там, другого здесь убили. Помирили… А хорошие оба ребята были… Жить бы да жить, а они… Брат на брата, отец на сына, сын на отца!.. Помирать надо…
Вставал и медленно уходил, смотря в землю.
* * *
Случилось это поздним вечером. Было уже темно – лампу зажгли.
Стала брехать собака внизу, под садом, где стояла баня. Борис взял револьвер и обошел сад. Собака бегала около бани, но, увидя Бориса, замахала хвостом и пошла за ним, лениво позевывая.
– Что ты, дура, разбрехалась?
Постоял, прошелся вдоль изгороди. Все благополучно. Мало ли поводов у собак полаять. Иногда лают для собственного удовольствия, лают и слушают раздающееся в тишине эхо собственного лая. Со скуки и от «нечего делать». Иногда и самому хочется сесть и завыть на луну. Все не налаживается дело с побегом: боятся еще рыбаки, все оглядываются, все еще разъезды и подозрительность к жителям. Вернулся Борис в сторожку и успокоил Ладу. Несчастье у ней: занозила на работе ногу, нарывает и дергает, ступить нельзя, на пятке ходить приходится. Лежит на постели с книгой и не знает, как ногу свою устроить.
– Покажи, что там у тебя с ногой!
– Что-нибудь осталось: колет и дергает. Плакать хочется…
– Ну!
Пристроил лампу на табурет и стал осматривать ногу Лады. Опять зашевелился «зверь», и нужен волевой намордник: такая красивая, точно выточенная из слоновой кости нога…
– Теперь больно и выше, до колена тянется боль… Ой! Тут, тут!
Борис положил ногу на свое колено и осторожно массировал. И опять поднимался бунт вожделения и жег душу и тело Бориса. Уже туман страсти застилал его рассудок и подвел его к краю бездны, когда собака скрипнула дверью и появилась в сторожке. Оба испугались. Испуг вырос, когда в ночной тишине послышались отчетливые шаги по дорожке. Борис инстинктивно схватился за револьвер, запер дверь и стал на страже. Лада подобралась, села в постели и устремила испуганные глаза на дверь. Стихло. Кто-то, несомненно, бродит по саду. Выпустил собаку и стал слушать: не лает, кто-то ласково и тихо говорит с ней. Отлегло от сердца. Значит – «свой». Лада еще дрожала, а потом стала нервно посмеиваться…
– У меня даже болеть нога перестала…
– Дай я подую, поцелую, она и совсем пройдет…
Оба были настроены возвышенно, немного взвинчены испугом, но радостны от того, что тревога оказалась напрасной и никакой опасности опять нет. Сидели с запертой дверью и подшучивали друг над другом…
В этот момент послышался осторожный стук в дверку.
– Кто?
– Я это.
Старик Соломейко. В такой неурочный час…
– Случилось что-нибудь?
– Радость у меня!..
Борис отомкнул дверь: со стариком стоял еще человек, лицо которого показалось знакомым Борису.
– Не узнаешь? Этак ты, пожалуй, мог бы убить меня, если бы заглянул давеча в баню…
– Сын! Петруша! – подсказал старик Соломейко, с нежностью посматривая на рослого красавца.
– Петр? Ты?
Обнялись и расцеловались.
– Попутчик тебе, Борис: тоже пробираюсь в Крым. Эх, Володьки-то нет! Втроем бы опять очутились…
– А он?..
– А ты разве не знаешь? Поймали нас: я убежал, а его расстреляли… Мы…
Дикий нечеловеческий крик оборвал слова Петра, и тут только Борис, растерявшийся от неожиданного визита, вспомнил о Ладе. Но было поздно. Лада схватила смысл страшного разговора и поняла, что говорили об ее Володечке. Все растерялись. Старик сейчас же ушел. За ним, обменявшись глазами и жестами с Борисом, вышел и Петр. А в сторожке настала ночь скорби и стенаний над последней сказкой жизни, в один миг и одним словом так жестоко разбитой страшным вестником… Пришел вестник от пустыни и сказал: «Твой муж был жив и любил тебя, но вот пришел ветер от пустыни, и у тебя нет больше ни мужа, ни любви!» Это было такое исступленное бешеное страдание, такой бунт души, не желавшей примирения со смертью любимого человека, что даже Борис, привыкший ко всевозможным картинам человеческих страданий и отчаяния, растерялся. Он просто не думал, что так безграничны и страшны могут быть эти страдания.
– Нет! Нет! Не хочу! Не верю! – кричала Лада кому-то, трепеща в судорогах. – Володечка, ты жив! Жив! Жив! Это неправда? Бог! Это неправда?
Она билась руками и ногами, словно сама отбивалась от смерти, стенала и кидалась с обезумевшими глазами к Борису, что-то от него требовала, потом начинала рыдать, затихала, и казалось, что она умерла… лежала, откинувшись головой и разбросав руки на коленях Бориса, с порванной на груди одеждой, с полуобнаженной ногой. Как большая сломанная кукла. Но проходило несколько минут, глаза широко открывались, и снова отчаянный крик и бунт души и тела… Нельзя было с ней говорить: кощунственно звучал голос пред таким страданием. И все равно Лада ничего не слышала. Борис положил ее на постель и, сев около, держал ее руки. Стихла и стала жалобно умолять Бориса убить ее или дать ей револьвер. Даже перестала плакать. Говорила вкрадчивым задыхающимся шепотом такое, от чего Борису было жутко и хотелось закричать о помощи: чудилось, что эта женщина потеряла рассудок:
– Ведь ты меня любил и… любишь еще… Если ты отдашь мне револьвер, то я… тебе… отдамся. Хочешь? Возьми меня, а потом… Уйдешь, и я кончу все это… Не хочу! Не хочу! Бог, я не хочу жить!
И так всю ночь. Только к рассвету она потеряла силы и смотрела безмолвно на Бориса потухшими глазами с странной улыбкой на губах… Может быть, она лишилась дара слова: слабым жестом руки велела ему склониться и, когда он это сделал, прижалась к нему всем телом и, крепко уцепившись за его шею правой рукой, закрыла глаза. Редко и ровно дышала в ухо Бориса, моментами вздрагивая всем телом, словно от электрических токов. Казалось, что всё исцеляющий сон погасил наконец ее сознание и ее страдания; Борис пытался осторожно приподняться, чтобы расправить свои члены, одеревеневшие от неловкого напряженного положения. Но всякий раз, не раскрывая глаз, Лада отвечала этим попыткам испуганным судорожным движением руки, не выпускавшей шеи Бориса. Только раз она прошептала в ухо Бориса: «Володечка!.. мой». Странно, что только от этого сказанного шепотом слова Борис вспомнил о брате и о том, что он убит. До сих пор известие об его расстреле словно выпало из сознания его и не оставило никакого следа в его душе и сердце. От этого шепота словно раскрылась душа для несчастия: острая жалость вонзилась в душу, и Борис, упав рядом с Ладой, заплакал о брате. Лада шевельнулась, прильнула еще плотнее к Борису и успокоилась. А он потихоньку плакал… Полуоткрытая горячая грудь Лады ткнулась прямо ему в лицо, и чудилось в дреме, что это летнее жгучее солнышко печет лицо пучком своих лучей. Опомнился, изменил положение, посмотрел на Ладу: глаза то смыкаются, то чуть-чуть приоткрываются, и в них туман и улыбка. Взяла его руку и положила на свою обнаженную грудь. Он стал целовать ее в губы, и она продолжала странно улыбаться. Стал целовать обнаженную грудь – не отталкивала… И вдруг налетел шквалом вихрь проснувшегося вожделения, взметнул все тело, затуманил-закружил сознание и превратил Бориса в «зверя»… Не сопротивлялась. Обхватила шею рукой и, откинув голову набок, разомкнув рот со сверкавшими зубами, смотрела в пространство слегка раскрытыми туманными глазами, а на губах продолжала играть странная полурадостная-полупечальная улыбка…
Заглянуло зелеными золотящимися на стене пятнами солнышко в затененное виноградом окошко. Борис очнулся и вспомнил все, что случилось. Лада была как мертвая: глаза чуть-чуть стекленели в щели глаз, лицо было мертвенно-бледно, губы сухи и крепко сжаты. Строгое сосредоточенное лицо. Борис осторожно снял ее отброшенную руку со своего колена и встал. Она широко раскрыла глаза, удивленно посмотрела на Бориса и отвернулась к стене. Может быть, она снова погрузилась в дремоту. Как вор, что-то драгоценное стащивший, Борис прокрался к двери, тихо приоткрыл ее и, выскользнув, снова притворил ее за собой. Посмотрел подозрительно по сторонам, послушал ухом у двери и стал заискивающе похлопывать собаку и шепотком разговаривать с ней:
– Поздно уж? Проспали мы? Ах, ты… стервочка!..
Пошел к колодцу и умылся холодной водой. На душе оставалось воровское самочувствие, и как будто бы что-то беспокоило, но в молодом теле переливалась радость, особая радость мужчины, утвердившего свое половое превосходство над женщиной. Точно свершил подвиг. Здесь, вдали от сторожки, воровская осанка пропала, шаги на цыпочках сменились твердой поступью, и на губах стала блуждать торжествующая улыбка. Обвеял ветерок мокрую голову и сырое лицо, захотелось расправить члены, разрядить мускульную силу: одной рукой подтянулся, ухватившись за перекладину колодца, покачался всем телом и отпрыгнул. Погулял, что-то вспомнил и направился к окнам хутора: кто-то там мелькнул в раскрытом окне. Это был старик Соломейко. Печально вполголоса поговорили о вчерашнем.
– А ведь я думал, что это ваша супруга… так считал.
– А где Петр?
Старик осмотрелся по сторонам:
– В бане. Надо посвистать перепелом, и он будет знать, что свои. Надо пореже – туда!.. Когда темно, можно, а днем лучше поосторожнее. Вы с ним поговорите: у него налажено дело-то… в Крым-то! Там опять начинается…
Поговорили с оглядкой, Борис пошел прочь. Вернулся к сторожке, и опять у него появилась воровская повадка. Послушал ухом у двери, заглянул в окошко: не спит, лежит на спине и смотрит расширенными глазами в потолок. Помнит или нет, что случилось ночью? Войти боялся. Начал возиться с самоваром, посвистывал, вообще давал понять, что он близко и ничего ужасного не случилось. Ну вот… сама зовет:
– Дай мне пить!..
Дал ей холодной воды из колодца. Приподнялась на локте, жадно выпила воду и, подавая стакан, упала в постель. Закрыла глаза.
– Сейчас будет чай…
Не ответила, точно не слыхала. Подсел в ногах. Встретились глазами. Тоскливая безмолвность и больная улыбочка. Облизала губы и чуть слышно сказала: «Ну вот и все!..» Непонятно, что это означало. Он взял безвольную руку и приложил к своим губам. Не отняла. Нечто хищное сверкнуло в глазах Бориса. Он подумал: «Притворилась, что ничего не помнит». Отлично! Он тоже будет покуда притворяться. Не вставала. Едва коснулась чая. Почти не говорила, редко раскрывала глаза. Он уходил и приходил. Все то же. И так до момента, когда Борис, захватив подушку, хотел идти на свое обычное ночное логово. Лада слабым голосом остановила:
– Не уходи!.. Я боюсь одна…
А ночью опять припадок отчаяния, опять рыдания, стенания, мольбы убить ее. И все случилось так же, как было прошлой ночью. Налетел «зверь» и потопил, точно придушил, слезы стенания и муки. И опять Лада, точно напоенная «мертвой водой», раскинувшись, с обнаженной грудью и ногами, лежала с туманными прищуренными глазами, и опять на губах ее застыла странная улыбка, полурадостная, полугрустная…
И шли дни и ночи: дни молчаливые, тихие, что-то странное затаившие, а ночью – точно убийства, учиняемые зверем-разбойником над больным ребенком. И «зверь» победил больного ребенка: в минуты припадков тоски и отчаяния Лада искала забвения в бурных ласках Бориса…
Глава XVI
Люди науки говорят, что история, как и люди, имеет свою логику. Если это так, то и в истории бывают эпохи, когда она делается «сумасшедшей». Сумасшедшими делаются тогда люди и события. Тогда ничто не происходит, а все только случается. Сама жизнь, кажется, теряет логику, и мы начинаем болтаться, как щепки в море. То волна выкинет на берег, то снова подхватит и унесет в пучину. Человек лишается способности предугадывать, что с ним будет завтра и как он поступит в ближайший момент. Точно кто-то за него думает и делает, овладев его материальной оболочкой и всеми чувствами познания мира. Все начинает зависеть только от всемогущего случая… Так бывает в бурные революционные эпохи. Так – теперь.
Свалилась нежданно-негаданно на старика Соломейку радость: явился старший сын, Петр, долго пропадавший без вести. Так же нежданно-негаданно пришла и вторая радость: приехал младший, Павел, которого отец считал убитым. Две несказанные радости. И с ними вместе пришла пировать на хутор смерть…
Однажды поздним вечером на хуторе произошел переполох: начала злобно лаять у запертых ворот собака. Всех встревожила: за воротами разговаривали люди, пофыркивали кони. Борис, захватив револьвер, пошел осторожно проведать, что случилось. В окне дома показался свет: это проснулся старик Соломейко. Вышла старая баба-кухарка из кухни. Высмотрев через кусты изгороди приезжих, Борис понял, что это – «красные», опрометью кинулся назад, разбудил Ладу, и они, наспех похватав кое-что из вещей и одежды, побежали в баню, к Петру. Разбудили. Тот моментально отрезвел и взвесил обстоятельства. Он никогда не терялся, и это его всегда спасало.
– Не волнуйтесь! Если отец зажжет лампу с зеленым абажуром, тогда надо бежать. Будем наготове, но зря бежать не стоит. Не хочется.
– А если он не успеет или позабудет это сделать?
Петр успокоил. Не торопясь и не волнуясь, он объяснил, что на окне, выходящем в сад, стоит специальная лампа, и около нее всегда спички; отец не может забыть зажечь лампы, если грозит опасность, как не может забыть, что у него есть сын, приговоренный к смерти; не успеть тоже не может: у него – «охранный мандат», и потому всегда найдется время провести дураков. Оделись в путь, осмотрели револьверы, и Петр вышел на дорожку, с которой видно окно. Было слышно, как брякнул засов ворот и люди въехали во двор, как остановились у крыльца дома и вошли. Что это – красные, Петр не сомневался, но ждал… Зеленая лампа не зажигалась. Хлопали двери, бегала баба из кухни в дом и обратно, собака не лаяла. Вообще мир и тишина ничем враждебным не нарушались. Петр постоял еще полчаса и вернулся тихим шагом в баню. Пустяки! Вероятно, завернули случайно знакомые из красных. У старика были такие. Ладу уложили на скамью в предбаннике, одетую и готовую каждую минуту к походу. Сами не ложились: с револьверами наготове сидели у бани в кустиках, тихо говорили.
Изредка Петр отправлялся на разведку и возвращался: лампа не зажжена…
– Однако не спят. Надо думать, едят и пьют. Смеются и говорят.
– Много их, гостей?
– Немного. Двое-трое. Справимся…
Так прошло еще с полчаса. И вдруг шаги и покашливание в саду.
Насторожились, щелкнули затворами… Но тут Петр рассмеялся и сказал:
– Отец идет!.. Этак и убить можно… Ты, папа?
– Петя! Ты с кем тут? А! Не узнал…
Старик был радостен, немного возбужден вином и стал торопливо рассказывать о своей радости:
– Паша приехал! Жив! Не веришь? Клянусь тебе Господом Богом. Точно из мертвых воскрес!.. Ах, Господи, Господи! Все съехались… Только матери нет… Нет матери!..
И старик стал отирать рукой слезы радости и печали. Он был прямо трогателен в этой печали и радости. Петр, однако, оставался холоден и молчал. Старик почувствовал, что одинок он и в своей радости, и в своей печали, и стало ему обидно и досадно.
– Вот ты, Петя, считаешь его подлецом и… а он… Вспомнил я тебя, а он вздохнул. Да! Вздохнул. Думает – убит. Утешать меня стал… Остались вдвоем (он с товарищем приехал), Паша и говорит: а любил, говорит, я Петю! Выпил это, и… душа нараспашку. Хотя, говорит, мы с ним – враги, но по крови мы – братья… И заплакал.
– Даже заплакал? – хмуро и насмешливо произнес Петр.
– И вот что мне хочется, Петя: я Пашу положу в своем кабинете, вместе мы, а товарища уложим на мансарде. Хочется мне, чтобы вы увидались…
Петр помолчал, тихонечко посвистал и ответил:
– Незачем нам…
– Эх, Петя! Ведь братья! Вместе росли, одна мать рожала…
– Ошиблась она! – усмехнувшись, бросил Петр. А Борис заметил мимоходом:
– Опасно это… для всех нас.
– Пора, Петя, бросить это… Вот увидались бы и… того…
– В Красную армию поступили? Или он – в Белую?
– Не надо ничего! Довольно уже крови пролили…
– А ты ему сказал бы это, папа!
– И скажу! Неужели даже на один час нельзя забыть, кто в какой армии, и просто… братьями сделаться?
– Каин с Авелем тоже братьями были, – хмуро ответил Петр.
Старик сидел на бревне у бани. Когда Петр сказал про Каина с Авелем, отец встал. Постоял, подумал и сказал:
– Ты, Петр, жесткий человек. Жесткий! А вот я спросил Пашу, а что, если бы Петя вернулся, как ты? А он говорит: на фронте – враги, а дома – братья. Так и сказал…
– Он вот в доме сидит да винцо с тобой попивает, а я, как бродячая собака, в бане скрываюсь… от братца-то своего и его приятелей.
Старик еще постоял и, ничего не сказавши, медленно побрел и скрылся в темноте.
Долго Борис с Петром сидели молча, в сосредоточенном раздумье.
Вышла Лада. Она пряталась за приотворенной дверью и все слышала. Старик произвел на нее сильное впечатление своей страстной мольбой о примирении. Женское сердце чувствительнее. Оно уловило в этой тщетной попытке отца помирить двух братьев всю трагедию жизни, увидала темную бездну, куда катятся люди в озлоблении. Когда же конец? Нет конца. Значит – злоба до взаимного уничтожения? О, как изустало, изболелось женское сердце по мирной жизни, как устала душа вечно бояться смерти, вечно думать о врагах, о спасении жизни, терзаться скорбями невозвратных потерь, разбивать свое и чужое счастье! Ладе казалось, что если бы Петр не был такой жестокий и черствый, то не мог бы отказать отцу, да и сам не смог бы отказаться от такого редкостного случая – увидать брата, поцеловаться с ним и в поцелуе понять, что они вовсе не враги…
– А мне очень хочется увидать вашего брата и поговорить с ним, – пожимаясь, сказала Лада.
– Что ж, вам не так это опасно, – отозвался Петр.
– Женское любопытство! – произнес недовольный Борис.
– Нет, не то… Не из любопытства, Борис. Ведь и они такие же несчастные люди, как мы…
– А не приходит тебе в голову, что… случай такой… что именно этот человек убил… моего брата Владимира? Погодите! Кто это там?
Все притихли. По дорожке, мелькая темными силуэтами через листву, шли двое. Лада спряталась за дверью. Борис скользнул за стену бани. Петр остался и ждал. Это шли, обнявшись, подвыпившие отец с сыном – мириться с Петром…
– Вы оба в родном отцовском доме. У меня, Паша, никакого фронта нет!..
– Я, папа, тебе сказал, что сейчас я только твой сын и только брат Петра… – слышался в тишине ночи разговор шагавших по аллейке к бане добродушно настроенных, счастливых взаимной радостью свидания родных людей.
Когда Петр услыхал голос брата, все тот же мягкий и ласковый голос, который звучал ему в течение долгих лет взаимной любви и дружбы, – он вспомнил мать, детство, гимназию, в которой они учились и кончили курс, еще какую-то смешную мелочь из далекого детства, и душа его радостно шевельнула крыльями. Точно приотворилась закрытая ставня в окошке, и пучок солнечных лучей ворвался в темноту. Рука, положенная в кармане на рукоятку револьвера, испугалась и вылезла, и за минуту невозможное сделалось вдруг возможным:
– Петя! Мы идем… нечего прятаться.
– Я здесь.
И вот враги сошлись. Несколько мгновений смотрели в глаза друг другу, потом по лицу Павла проскользнула улыбка, и он протянул руку. Не сразу поднялась рука Петра, с запинкой. Но поднялась. Старик Соломейко захныкал от радости, и душа Петра от этого старческого хныканья очистилась вдруг от злобной гордости, как последние тучки по небу после грозы, пробегавшей еще в сознании. Что-то толкнуло врагов друг к другу, и случилось чудо: обнялись и застыли. А старик, продолжая хныкать, поднял голову к звездным небесам и стал креститься и шептать:
– Благодарю Тебя, Господи! Мать! Видишь ли?
И все это было так мелодраматично, что стоявшая за дверкой Лада, вспомнив о том, что вот это, что она видит, никогда уже не может случиться между Борисом и Владимиром, потому что «Володечка убит», – не выдержала и разрыдалась.
– Аделаида Николаевна, выходите, голубушка! Что прятаться? Он не волк… – сквозь смех и слезы громко сказал старик Соломейко. – Боятся друг друга люди!.. Всех ты, Паша, напугал. Выходите оба! Паша все знает, и нечего бояться…
И вот все сошлись около старика. Он был необыкновенно счастлив, точно опьянел еще сильнее. Всех тянул в дом выпить «круговую» и все заставлял братьев поцеловаться.
– Папа! Мы не женщины. Можно и без поцелуев…
– Сделайте для меня эту божескую милость!
– Ну!.. Петя!.. Надо уважить старика…
Остановились. Произошло торжественное лобызание. Около крыльца задержались: Павел остановился первый и тихо сказал:
– А ведь там наверху… еще есть «товарищ»… Пожалуй, лучше бы все-таки…
– Так неужели выдаст? Тебя? Друга? – возмущенным шепотом спросил старик.
– Не знаю, – задумчиво произнес Павел, а Борис тронул Ладу за руку:
– Нам лучше не идти.
– Пустяки! Все мои гости, и больше ничего.
Вышла из кухни баба и удивленно посмотрела и послушала. По голосам узнала Ладу с Борисом и подумала: «Что-то тут не так». Она уже и раньше об этом подумывала. Кое-что заметила уже. Не настоящие это работники и что-то очень людей опасаются. Книжки тоже читают, и разговор между ними не простой, хитрый всегда. И вот тоже: хозяин строгий с ними, никогда не поклонится, а тут ночью в гости привел. И еще третий явился. Недаром старика «кадетом» называют. Тут что-нибудь неспроста. Опять «буржуи» сползаются. За что баба ненавидела «кадет» и «буржуев» и кого она называла этими именами? Под этим собирательным наименованием ей смутно чудились все ее личные недоброжелатели и враги, от которых ей выпала злая доля: пьяница-муж, бедность, побои полюбовника, пожар, от которого сгорела ее хата. Все это от проклятых «буржуев и кадетов»! Слыхала она, что старший-то сынок у хозяина в белогвардейцах. Не верили, что и младший – «красный», прикинулся только. А вот другой, который приехал с сыном, – настоящий. Это сразу видать. «Буржуй, – говорит, – твой хозяин; если бы не сын, Паша, давно бы, – говорит, – к стенке поставили». Выпивши-то люди всегда правду говорят…
Раздумали, не пошли Борис с Ладой в дом. Павел не посоветовал. Один Петр пошел. И совет вполголоса, и то, что Борис с Ладой вернулись и скрылись в саду, – все это было так таинственно и подозрительно, что у бабы не осталось больше сомнения: «Что-нибудь буржуи задумывают», – конечно, враждебное, злое – против того, «настоящего», который ее «товарищем Мавром» назвал и винца стакан поднес да сказал: «Пролетарии, собирайтесь!» А оно как раз наоборот выходит: не пролетарии, а буржуи с кадетами собираются… «И хитры же, псы окаянные, чтоб им сдохнуть проклятым, чтобы лопнули у них зенки и вытекли чтобы…»
Не хотелось спать. На душе было тревожно от этого «случая» с двумя братьями. Лада с Борисом сидели на порожке бани и делились своим волнением. Павел сразу Ладе понравился, и она не ошиблась: когда шли в дом, он сказал Петру, что ему надо поскорее бежать и что он поможет этому делу. И, конечно, всем поможет. Говорил, что всего лучше бежать через Тамань в Керчь.
– Вот видишь, Борис, а ты…
– Никому я не верю, Лада.
– А Петру?
– Даже самому себе! Мы потеряли сами себя – вот в этом весь ужас и все наше бессилие… Я вот думаю: мог ли бы я протянуть руку брату, если бы мы были в разных лагерях? Тебе вот было приятно, когда они поцеловались, а меня передернуло. Я не мог бы. В этом для меня оскорбление и унижение…
– В тебе сатанинская гордость.
– Возможно. Мне этот поцелуй напоминает Христа и Иуду из Кариота.
– Кто же Христос и кто Иуда?
– А скорее напоминает Петра, отрекавшегося от Христа во дворе первосвященника Каиафы.
Говорили и не понимали друг друга. И потом сами запутывались в своих мыслях и чувствах и от этого погружались в тяжелое молчание, рождавшее ощущение полного одиночества, полного отчуждения от всего мира. Оставалось вдруг круглое одинокое «Я» и больше ничего. Нигиль!
А в доме шло свое. Там было похоже на библейскую легенду о «Блудном сыне». Роль блудного сына выпала на долю Петра. И отец, и брат Павел чувствовали себя хозяевами, единым отцом блудного сына Петра: не знали, чем угостить и как проявить свое подогретое вином внимание и расположение. И это оставляло неприятный осадок на душе Петра. Разве он не такой же сын? И разве он сам не мог бы угощать брата? Почему именно он должен разыгрывать роль несчастного блудного сына, а Павел чувствует себя господином в доме и проявляет неуместное покровительство? И делает это он с какой-то не подлежащей никакому сомнению правосознательностью. Точно вся правда и вся истина – только на его стороне, а Петр должен до смерти раскаиваться, что сделал непоправимую глупость и ошибку. Петр вовсе этого не чувствует, и ему все это «было бы смешно, когда бы не было так грустно».
– А здорово мы вас, Петя, потрепали? Вот то-то, брат, и оно-то, брат!
– Что ж, радуйся и веселись! Нас рассудит история, только история.
– Народ уже сказал свой приговор, а история дело темное.
– Народ? Какой народ? Народ и нас встречал цветами да молебнами.
– А потом? Когда вас раскусил?
– Что ты подразумеваешь под этим «раскусил»?
– Согласись, что ты все-таки очутился игрушкой в руках реакции?
Отец словно предчувствовал, что дело идет к размолвке, и старался поворотить разговор в другую сторону. Но ничего не выходило. Братья уже схватились и не могли расцепиться. Не слушали отца и продолжали, машинально чокаясь новыми стаканами, обвинять друг друга. Повышенный острый разговор долетал до мансарды, и неожиданно из двери наверх выглянул полуодетый «товарищ».
– Что за шум, а драки нет? – спросил он.
– Э! Гриша! Иди, – познакомлю… Хочешь вина?
– Женщин нет? Я, можно сказать, без галстуха.
– Бросьте вы эту философию! – просил старик, начинавший дремать под принципиальные разговоры, в которых сам черт ногу сломит. Появление Гриши немного убавило пыл столкновения. Примолкли было.
Баба принесла еще три бутылки вина: «товарищ Гриша» налил бабе стакан вина и сказал:
– Выпьем, товарищ Мавра! Смерть буржуям! Верно?
– А мне их что жалеть?
– А тогда пей до дна!
Вот тут и вцепился снова Петр:
– Ты, Павел, правду народную в устах этой Мавры прозреваешь?
И опять началось. Товарищ Гриша с недоумением слушал дерзкие слова Петра и наконец сказал:
– А вы, товарищ Борис, или как вас?
– Борис это другой, не этот… – подсказала баба.
– Меня зовут Петр Степаныч, и потом… я вам не товарищ.
– Слышу и чувствую… И удивляюсь.
– Чему именно?
– А тому, что в этом доме позволяют так разговаривать. Кто вы такой?
– Пойдите вы от меня к черту! Я не позволю вам говорить со мной тоном прокурора.
– А если я имею право так разговаривать? Павел! Я требую объяснить, кто этот господин, разводящий здесь контрреволюцию…
Баба, иезуитски вздохнув, вышла из комнаты, полная тайной радости, что все так хорошо случилось. Старик обиделся, что в его доме распоряжается чужой ему человек:
– Вы – в гостях! Не дома. Нехорошо вам тут шуметь и привязываться…
Товарищ Гриша, оттолкнув Павла, который пытался увести «товарища» в мансарду, оскорбился:
– Мы везде дома! И я не позволю оскорблять красное знамя разным…
– Что такое? Я офицер и не позволю вам…
И тут Петр выхватил револьвер. Товарищ Гриша скользнул в дверь на мансарду. Отец и брат схватили Петра за руки и стали вырывать револьвер.
– Оставьте меня! Оставьте, говорю вам! – кричал Петр, отшвыривая от себя отца и брата. Отстранив их, он молча повернулся и пошел вон из дома. В этот момент с мансарды выскочил товарищ Гриша и побежал следом за Петром. Заметив в руках его револьвер, Павел побежал за ним, чтобы помешать убийству. Петр, заслыша погоню, нырнул в сад, побежал кустами и закричал в темноту ночи:
– Борис! На помощь!
В этот момент озверевший товарищ выстрелил в скользившую в кустах фигуру «контрреволюционера», но промахнулся и продолжал бежать, мыча от злобы, как тигр в зоологическом саду, а Павел догонял его, чтобы остановить и дать возможность убежать брату. Когда Борис услыхал крик о помощи и выстрел, он побежал в темноту. От пули Петра сковырнулся товарищ Гриша, от пули Бориса упал Павел… И все сразу стихло…
Лада от ужаса потеряла всякую способность соображать. Борис гнал ее вперед, вон из сада, куда бежал Петр. Притаилась ночь, слушала и вздыхала земля морскими «охами». Звезды смотрели с высоты в помутневшие раскрытые глаза двух лежавших рядом людей. По дороге с хутора торопливо уходила с узелком баба с собакой, поминутно оглядываясь на молчаливый, страшный теперь хутор.
На другой день приехали «товарищи». Обыскали хутор, сад, огороды и расстреляли около караулки старика Соломейку.