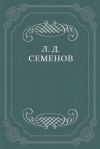Читать книгу "Зверь из бездны"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава VII
И вот опять солнышко тихой успокоенной радости, казалось, вернулось в беленький домик с колоннами. Все «разрешилось» неожиданно и случайно. Пришла счастливая мысль в голову и повернула руль жизненного корабля. Старики, не ведавшие «тайного плана», представляли себе дело разрешенным именно так, как им хотелось: Владимир идет на фронт, а Борис возвращается; про Владимира, согласившегося снова превратиться в «покойника», они говорили: «А все-таки он очень порядочный человек, хотя и…» Не договаривали: «хотя и пошатнулся». Лада с Владимиром, связанные «новой тайной», тоже облегченно вздыхали, отдыхая от нервной усталости, вызванной безысходностью положения, в котором было очутились; он думал о великом счастье – никого не убивать, быть только отцом ребенка и братом Лады, спасаемой из бездны грозящих ужасов так просто; Лада думала о счастье не потерять ни Владимира, ни Бориса и любить их обоих не как мужей, а как своих братьев, жизнь которых, переплетенная с ее жизнью и прошлым, и настоящим, и будущим, – кажется, у нее будет ребенок и от Бориса – ей одинаково дорога.
Тихое умиротворение опустилось в беленький домик после бури страстей звериных… Владимир проживет два дня и отправится в Севастополь искать Бориса, а пока – прочь все обиды, заботы, всю эту бессмысленную трагедию семьи! И не стоит больше прятаться: привел себя в полный порядок, побрился, отмылся, нарядился в форму брата… Лада восхищенно смотрела на Владимира, и ей казалось, что ничего не случилось, а все вернулось.
– А знаешь, Володечка, ты совсем мало изменился!
– Ну вот… опять прежний герой! – сказал старик, увидя зятя в новом виде.
– А где же «Георгий»?
– Потерял. Можно и без орденов.
– Необходимо купить. Как же это, Владимир Павлыч, не носить «Георгия»?
– Чины и ордена людьми даются, а люди могут обмануться…
– Все шутите?.. С такими вещами следовало бы… Борису Павловичу тоже обещали «Георгия»… Он неприятельский пулемет захватил.
Девочка, увидев Владимира в офицерской форме, в первый раз назвала его «папой» и, протянув ручонки, попросилась сама к нему на руки:
– Папа, на!..
– Вот видите: и дочка признала вас наконец отцом, а то все были «дядей», – наставительно заметила бабушка.
После ужина Лада с Владимиром пошли погулять. Жаль было оставлять девочку, которая пожелала сопровождать маму, но взять ее было нельзя, потому что они шли в хаос.
Так хорошо вышло: никто не встретился и никто не видал, как они, пройдя немного дорогой, скользнули в лес и скоро очутились в безлюдной части имения. Шли напрямик, избегая тропинки, то лезли в гору, то спускались. Очутились в полной безопасности: ни дорог, ни тропинок больше не было. Над головой повисли скалы хаоса. Владимир забыл уже когда-то знакомые ходы и выходы в этом природном лабиринте, но Лада, вспоминая прошлое, бывала здесь иногда одна, иногда с Борисом: она была теперь проводником. И все-таки запуталась и долго не могла выйти из заколдованного круга огромных камней, повитых соснами и ползучими плющами. Не так трудно было сюда залезть, но очень трудно вылезть. Кругом неприступные стены. Но как же они сюда попали? Чудилось, что кто-то повернул камни нарочно, чтобы они не вылезли. Бились, бились – и вдруг оба захохотали: в заросшем углу, сквозь плющи темнела нора. Юркнули туда, низко нагнувшись, и очутились в коридоре. Знакомый коридор! Теперь Лада поняла, где они.
– Иди за мной!..
Прошли узким коридором и очутились на густом зеленом дворике.
– Помнишь? – спросила Лада.
Еще бы! Сколько раз счастливые любовники, напившись допьяна из кубка взаимности, грезили здесь несбыточными сказками наяву, лежа на мягком шелковом мху, обнявшись.
– Помнишь, Володечка?
– Да, да… здесь… А где же пещера?
– Да вот она!
Владимир стоял, озирая дворик и украшенный плющом вход в знакомую пещеру. От воспоминаний кружилась голова. Вспомнил, как однажды они, совершенно свободные от одежды, как первые люди в раю, бродили по дворику и не стыдились друг друга.
– А вот твоя надпись, Володечка!
На сером камне нацарапана дата: «12 мая 1916 г.». Прошло столько лет, а показалось, что это «12 мая» случилось только вчера. И от одного воспоминания об этом дне сладкий трепет побежал по телу, а глаза, встретив друг друга, затуманились дымкой набегавшей страсти… Сколько раз Лада нарочно приходила сюда одна, чтобы вспомнить свое далекое счастье с «покойным Володечкой»! Всегда приходила одна и не показывала этого дворика Борису. Это было ее «святое место», куда только одна она могла ходить, чтобы тайно поплакать в этом храме любви, разрушенном жестокой жизнью. И вот теперь она в этом храме вместе с Володечкой… Как «эхо» прошлого, звучало это «12 мая» в тайниках души и тела испугавшихся самих себя Лады и Владимира. Ведь они теперь только братья!.. Только братья! И потом она, Лада, кажется, уже второй месяц носит во чреве ребенка от Бориса…
– Володечка. Не надо, голубчик…
– В последний раз, Лада.
– Но, милый, я не могу… нет, оставь меня.
Слабо отстраняет рукой опьяневшего от воспоминаний Владимира, а у самой пьяные, пьяные глаза, и зеленый мох под ногами точно плывет, как озеро, изумрудное озеро…
– Нет… нет…
Отбежала к каменной глыбе и спрятала лицо в плющах. Господи, что же это? Нет, нет… не надо…
– В последний раз, – шепчет в ухо задыхающийся мужской голос, и она падает на зеленый мягкий ковер… Небеса, как море, и на нем тихо покачиваются мохнатые лапы сосен. Чуть слышно вздыхает приливом море. Поют птицы, и кажется, что земля плывет из-под ног Лады и она летит на крыльях все быстрей, быстрей… и умирает, теряя сознание пространства и времени…
Потом – пробуждение. Она сидит и плачет. Смеется и плачет, шепчет:
– Я схожу с ума…
Владимир жадно курит, руки его дрожат, как у преступника. Он боится посмотреть на смущенную Ладу.
Молчаливые, испуганные и печальные, идут они друг за другом, точно первые люди после изгнания их из рая… Избегают смотреть друг другу в глаза. Ах, зачем все так случилось? Точно снова выпили яду, от которого опять отравились бессильем и перестали верить в неожиданно обретенный путь спасения.
– Не грусти!.. Больше этого не повторится… Лада, слышишь? Это в последний раз…
Молчит. Идет с поникшей головой. Владимир взял ее под руку, что-то тихо говорит, возвращаясь к деловой тайне. Лада не слышит. Она шепчет:
– Я, Володечка, гадкая…
– Перестань!.. Природа сильнее нас.
– Я опять противна сама себе… Точно та «пьяная баба», которую вы…
Вернувшись домой, Лада, как утопающий за соломинку, схватилась за свою девочку. Чувствуя себя виноватой перед этим чистым ребенком, Лада прижимала его к груди и шептала:
– Ты простишь? Да, простишь свою гадкую маму?
Детские глаза смеялись глазам матери, маленькая ручка похлопывала маму по щеке: все простит! все! Ведь этот ангел – тоже живое «эхо» того памятного дня, который запечатлен датой «12 мая» на камне… Может быть, в этот день и свершилось чудо сотворения этого ангела без крылышек…
На третий день рано утром Владимир поехал с рыбаками в Балаклаву, чтобы оттуда по следам Бориса отправиться в Севастополь. Его все провожали. Старики еще более успокоились: Лада смеялась, а не плакала, – конечно, она любит Бориса. А Лада, проводив мужа, вся ушла в свою «тайну». Каждый день она уходила пасти козу в дикие места имения и понемногу устраивала гнездо в «хаосе» для Владимира. Как крот, таскала она туда сухари, сахар, яйца, белье, теплые вещи, одеяло, подушку, всякую всячину. Приготовляла это ночью и прятала около домика, а потом заходила и переносила незаметно для стариков. О, у ней появилась действительно лисья хитрость! Незаметно исчез ковер, керосинка, пропали в кухне сковородка и кастрюля, из буфета – два стакана. Бабушка руками разводила:
– Кто-то ворует.
– Кому, мама, воровать?
– Ну а ковер? Где он?
– Куда-нибудь сами засунули и забыли.
– Удивительно.
Зато в «хаосе», в потайной комнатке, становилось с каждым днем уютнее. Набитая сухим мхом наволочка, простыня, подушка и одеяло, ковер на полу, столик из накрытого цветной скатертью ящика, в каменной выемке, словно на буфетной полке, посуда, керосинка, спички, мыло и даже зубная щетка. Спустя несколько дней все было готово… Лада ждала: на условленном месте должен был появиться знак «дома!» – четыре камня, сложенные пирамидкой. Пирамидка не появлялась. Каждый день ходила к этому месту и с трепетом смотрела: нет! Опять нет! Однажды не поверила камешкам и спустилась в хаос: нет! Комнатка пустая. Полежала на постели, почитала приготовленную книгу, погуляла на зеленом дворике, долго смотрела на заветное «12 мая» – тоска хлынула в душу. Точно пришла на свою собственную могилу. И так каждый день проходил в ожидании и кончался тоской и тревогой. Приходили в голову разные мысли: обманули и бросили, оба ушли на фронт, и, может быть, обоих убьют. Надо было Владимира не отпускать, спрятать, а самой поехать за Борисом.
Владимир Паромов настиг брата еще в Балаклаве. Собирался он на фронт, но застрял: встретился с «Карапетом» и другими приятелями из «тыльных героев» и несколько дней кутил с ними «на прощанье».
Как же не выпить, быть может, в последний раз? Позади осталось «нечто», рождающее не то обиду, не то упрек совести, не то чувство оскорбленного самолюбия. А это тоже располагало к вину, к бесшабашной песне, к разгулу. На всем надо поставить крест. Может быть, даже над самим собой. И вдруг – брат Владимир.
– Володя! Ты тут зачем?
Был уже пьян и в высшей степени задушевен, склонен к всепрощению. Даже обрадовался. Точно ничего между ними и не было.
– Хорошо, что я тебя поймал…
– Прекрасно! «Я очень, очень рад», – пропел фальшивя Борис и налил брату вина через верх: – Полно жить, брат, тебе! Пей и все забудь! Наша жизнь коротка, все уносит с собой… Споем, ребятушки, «наша жизнь коротка»!..
Давно не был Владимир в пьяной компании. Отвык. Пил и не пьянел. Никак не мог слиться с пьяным настроением, и вся компания казалась ему неприятной, раздражала шумом, нестройным пением, гоготанием и пошлыми похабными анекдотами. Разве можно в этих условиях говорить с братом серьезно, да еще о таком интимном и щекотливом деле? И вот он валандался с этой компанией несколько дней, прежде чем нашел, наконец, момент, подходящий для душевного разговора наедине. Было утром: компания ушла купаться, а Борис не захотел, остался дома с братом…
– Надо, однако, кончать и ехать… Предлагают мне командовать ротой в отряде особого назначения… Против «зеленых».
– Вот что, Борис!.. Я приехал, чтобы искренно объясниться с тобой и решить… судьбу Лады…
– А! Опять? Разве я не сделал все, что я мог и что требовалось?
– Но ты решил без Лады. Так нельзя… Надо было всем нам объясниться, и тогда только…
Борис махнул рукой и позвонил мальчишку, чтоб послать за вином.
Но Владимир подсел к нему и ласково сказал:
– Боря! Надо пожалеть Ладу… Она любит тебя, и потому… так нельзя.
– Говори, Володя!.. Я готов… на все! Если ты потребуешь дуэли, я тоже готов, хотя я… ни в чем не виноват… И твоя жена тоже…
– Теперь, Борис, не в том дело, кто виноват. Никто не виноват. Теперь дело в другом вопросе: что сделать, чтобы всем трем было лучше, и как это сделать?..
– Не знаю.
– Ты выслушай меня, и тогда уж мы…
Не раскрывая своей «тайны» в хаосе, Владимир предложил брату согласиться с тем, чего потребует от него Лада.
– Хорошо. Согласен.
– Ну вот видишь. Я всегда верил, что ты честный человек. Так вот, я привез тебе это решение Лады: я должен уйти, а ты – вернуться к ней. Вот я и поступлю вместо тебя в этот отряд особого назначения, а ты… ты поезжай к Ладе и живи… там, как прежде.
– Ничего не понимаю…
– Ты, вероятно, будешь отцом. Лада не в силах потерять тебя… А я… я был только призраком прошлого. Ты совершенно верно назвал меня «воскресшим покойником»… Это, брат, верно. Неверно только, что я воскрес. Умершая и похороненная любовь не воскресает. Призрак! Явился и исчез!.. Вот и все, чем я был там в эту… странную ночь, оскорбившую тебя… Прости и забудь!
Борис не был чувствительным, но сейчас его нервы были взвинчены долгим кутежом. Дрогнули и зазвенели плачем. О чем он плакал?
– Нет, нет, Володя… Для меня ты… брат, не покойник, а живой брат… Я понимаю, я все понял и простил… А ты меня простил? Ты?
Обнялись и стали целоваться. А потом пришел мальчишка с вином и вернулась с купанья компания. И опять все началось снова. Теперь прощались с Владимиром, уезжавшим на зеленый фронт.
– Только, брат, не убивай Орлова! Нет, не трогай! Его никто не понимает, а ты пойми! – говорил молоденький подпоручик, объясняя Владимиру «Орловскую легенду». – Если бы побольше было таких Орловых, мы давно были бы в Москве.
Карапет сделался воинственным и, чокаясь с Владимиром, кричал:
– Резать всех надо! Чаво жалеть?
– Молчи, дикая дивизия! Ни черта не понимаешь…
– Ты мине оскарбляишь?
– Иди к чертям! Орлов – идейный человек, а ты – мясник…
– Ты мине оскарбляишь? – угрожающе закричал Карапет и схватился за кинжал. С трудом разняли и предупредили готовое свершиться кровопролитие. Потом мирились, пели: «Карапет мой бедный, отчего ты бледный», и Карапет танцевал дикую лезгинку. Вечером паровой катер уходил из Балаклавы на пост береговой охраны, и вся компания, простившись с Владимиром, уехала, а Владимир отправился в Севастополь.
Прошла мучительная неделя. Лада собиралась было уже наутро ехать с рыбаками в Балаклаву, а оттуда в Севастополь искать братьев, но глубокой ночью, когда в белом домике все спали, на балконе послышался смех и шум. Лада проснулась, послушала в раскрытое окошко и узнала голос Бориса. Наконец-то! Сбывается все… Может быть, и Владимир уже «дома»? Но кто с Борисом? Голос знакомый, но не может догадаться.
Это был «Карапет». Борис приехал на катере из Балаклавы на «береговой пункт», а оттуда на шлюпке вместе с «Карапетом» сюда. Оба были «на взводе», привезли с собой несколько бутылок вина и теперь, стараясь никого не беспокоить, расположились лагерем на балконе. То стихали, то, позабыв о спящих, хохотали громко, позванивая стаканами и бутылками. Не стоит появляться. Лучше запереться от пьяных. Пусть их одни… Пьяный Борис груб и страшен, а Карапет лезет с пошлыми комплиментами, забывается, смотрит на нее такими страшными глазами, точно хочет зарезать… Бог с ними! Проснулся дедушка, обрадовался Борису и присоединился, не обращая внимания на призывы сердитой бабушки. Долго Лада слышала взрывы хохота и гортанный густой говор Карапета, – задремала. На рассвете очнулась: кто-то застучал в стекло окна. Подняла с подушки голову: Борис! Знаками просит отворить окно, посылает воздушные поцелуи и простирает руки для объятий… Ведь теперь он снова муж, восстановленный в своих правах, почему же она «разыгрывает эти прелюдии Бетховена»? Ведь сама она послала Владимира вернуть его, стало быть… Пьяному Борису показалось оскорбительным, когда Лада занавесила окно темной шалью. Сама молила вернуться, и вдруг такая встреча! Крепко застучал в окно, с раздражением.
Испугает ребенка. Спрыгнула с кровати, подняла шаль, приоткрыла створку окна:
– Борис! Как тебе не стыдно? Ты испугаешь ребенка…
– Пусти меня!..
– Не могу… Ты пьян, Борис. Иди и спи!
Опустила шаль, а Борис продолжает стучать.
Опять разговор чрез приотворенное окошко:
– Я хочу тебя обнять…
Захватил створку окна и не дает запереть его. Хочет лезть в окно. Уронил что-то.
– Все равно я не пущу…
– Ах, вот как? Тогда на кой черт ты меня вернула?
– Боря! Не кричи же.
– В таком случае я сейчас уезжаю с рыбаками… Такого издевательства я не позволю над собой…
Бросил створку окна и сердито пошел прочь. Уедет! Он такой вспыльчивый и самолюбивый… Лада несколько мгновений стояла у окна, слушая, как скрипят по песку и гальке удаляющиеся решительные шаги, потом накинула на плечи шаль и бросилась на балкон:
– Борис! Вернись!
Обернулся. Она поманила его голой рукой из-под шали. Идет обратно и смеется. Запугал. Так приятно ему, пьяному, сознание своей власти и своего могущества над этой женщиной…
– А Карапет… он…
– Уехал. Неужели я позволил бы себе при Карапете?..
– Но постой же… Лучше иди спать… Завтра… Вон идет кто-то. Постыдись!
Лада нырнула в комнаты. Не успела запереть за собой двери: Борис ворвался как зверь.
– Борис… Девочка проснулась… Опомнись же!.. Тогда лучше я приду туда, в твою комнату…
Борис крепко впился пальцами в ее руку и потянул за собой. Словно коршун поймал голубку…
Спустя полчаса Борис спал, наполняя комнаты тяжелым храпом. А Лада сидела в постели и плакала…
Поджала ноги, сжалась в комочек, сделалась маленькой, как девочка…
Плакала потихоньку. О чем? О своем бессилии, о своем ничтожестве, о том, что она гадкая, безвольная, не может расправиться до прежней женской гордости. Не жена и не любовница, а так, какая-то игрушка для любовных приключений. Тогда, в хаосе, с Владимиром, теперь с Борисом. Там хотя было нечто захватившее, красивое, овеянное призраками былого счастия, а здесь… как та «пьяная баба», о которой рассказывал однажды пьяный Борис. Здесь только надругательство над душой и телом, грубое, звериное надругательство…
– Мамочка?
Теперь страшно смотреть на ребенка, взять его, чистого и святого, на руки. Поганая, вся поганая!..
– Спи, деточка!.. Я – гадкая, поганая!..
Девочка не могла заснуть. Слышно было, как храпел пьяный Борис. Должно быть, он неудобно лежал головою на подушке: храпел тяжело, неприятно. Девочка боялась, капризничала и просилась к матери.
– Погоди, деточка…
Лада умылась душистым мылом, отерла лицо, грудь и руки одеколоном: все казалось, что от них пахнет вином и водкой. Потом взяла к себе в постель девочку:
– Там, мама, у-у! Букашка.
– Не бойся. Это – дядя…
– У-у, мама!
Крепко прижимала к груди ребенка, а сама потихоньку плакала. Думала о том, что не любит Бориса, а любит только Владимира… Зачем она вернула этого грубого человека, который так безжалостно растоптал ее душу? Что за волшебная сила в этом человеке, заставляющая ее подчиняться? Ненавидит и все-таки… отдается. Вот Владимира она любит совсем по-другому… А что, если Владимир не вернется? При этой мысли ей делалось страшно, и росла неприязнь к Борису. Казалось, что она любит и всегда любила только Владимира, а с Борисом… только так «случилось»…
Глава VIII
Это случилось в конце августа. «Белые» отбили захваченный «красными» город Александровск. Много пленных, несколько поездов, и в том числе подвижной лазарет с больными и сестрами. Пленных погнали в город. Красноармейцы все оказались насильственно мобилизованными, сейчас же пожелали сделаться «белыми» и, вступив в Белую армию, стали добросовестно истреблять «красных», как недавно истребляли «белых». Расстреляли только подозрительных «по культурности», то есть сделали то же, что всегда делали «красные». Судьба сестер была ужасна. Как у «красных», так и у «белых» – сильно любили «своих» сестер и яростно ненавидели сестер вражеской стороны. И тем, и другим вражеские сестры казались ненавистной тварью. «Зверь из бездны» ненавидел в их лице любовь и милосердие, прикрывавшиеся символом Красного Креста. Такие души, как Вероника, оказавшаяся в числе пленных сестер, были непонятны обеим сторонам… Быть может, если бы сестры попали под опеку более культурного человека, а не белого фанатика из прежней «черной сотни», то все случилось бы иначе, и Вероника, счастливая своим долгим и тяжелым подвигом любви, попала бы в автомобиль какой-нибудь значительной «особы» и полетела бы на южный берег моря искать своего жениха, но случай решил иначе. Красивая гордая и смелая культурная девушка, так резко выделявшаяся среди других пленных сестер, привлекла особенное внимание и ненависть белого фанатика… «Те – по глупости, а эта… сволочь! Знала, куда и зачем пошла».
– Ну, красная сволочь, за мной!..
– Куда их ведешь?
– На осмотр.
– Вон эту хорошенькую просмотри! – посоветовал казак с Дона, ткнув пальцем на Веронику и подмигнул глазом.
– С этой – особый разговор…
Казаки и солдаты встречали «процессию» смехом и похабными шутками.
Путь до «контрразведки» был сплошным надругательством. С ними обращались, как с публичными женщинами. Надругатели получали к этому импульсы и находили оправдание своему издевательству еще в том, что одна из сестер, простая женщина, не смущаясь, огрызалась от нападающих тоже злыми циничными ругательствами, мало уступая мужчинам. Она была сиделкой, а попала тоже в число «сестер милосердия», у нее недавно «белые» убили любовника, и потому она была зла и мстительна на язык, жалилась, как змея. Вероника шла, потупя взоры, подавляя все протесты души и надеясь, что скоро все выяснится и кошмар исчезнет…
В тюрьме то же самое. Полутемный коридор, звон оружия и прогон сквозь строй надругательств и откровенного цинизма. Открыли дверь большой, похожей на подвал камеры, где уже было много женщин, и гуськом загоняли туда сестер… Стоявший в дверях страж, напоминавший рыжего медведя, пропуская Веронику, не сдержался и схватил сзади обеими руками под груди:
– Гы! – закричал он, комкая грудь Вероники.
Вероника наконец потеряла способность сдерживаться: отшатнулась и ударила по лицу «медведя». Тот захохотал, пихнул ее кулаком в спину и, захлопывая дверь, произнес:
– Вот ты как? Ну, погоди… сочтемся.
Что ж это такое? Куда она попала? Опять в «звериное царство»? Точно избитая, исхлестанная по лицу, лежала она в полутьме на наре, отвернувшись лицом к сырой, пахнущей плесенью стене и старалась прийти в себя от оскорблений, которые, казалось, прилипли к самому телу и грязнили его. Вечером, когда в камере появился свет, пришел и стал в растворенной двери полупьяный молоденький безусый прапорщик и стал переписывать арестованных сестер…
– А вон та, в черном?
Соседка толкнула в плечо Веронику.
– Вас спрашивают.
– Ты кто такая? Имя и фамилия?
– Потрудитесь говорить со мной вежливее…
– Ого! Ты, кажется, не сестра, а комиссарша? А? Ерусалимская дворянка?
– Ошибаетесь!
– Ну а бить по физиономии чинов армии у нас не разрешается. За это у нас по головке не гладят. Стратонов? Она тебя ударила?
– Энта самая. Я до нее чуть дотронулся, а она обернулась да как ахнет…
– Отведи ее в одиночную.
Вероника очутилась в распоряжении «медведя».
– Огонь там не зажигать, Ваше благородие?
– Ладно, и в темноте посидит…
– Ну, иди за мной! Живо!
– Потом ко мне ее в «дежурную», на допрос!
– Слушаюсь.
«Медведь» пошептался с прапорщиком и повел Веронику в одиночную…
– Вот видишь: в моих руках теперь. Что захочу, то с тобой и сделаю… – говорил он на ходу, оглядываясь на арестантку. Подошли к лестнице, и «медведь» приостановился: – Иди вперед. Недотрога. Эка беда – за титьки взял!.. Что ты, буржуйка, что ли?
На площадке Вероника остановилась, прислонилась к стене и схватилась за грудь. Темный ужас охватил ее душу, сжал ее сердце, и в голове помутилось. Поплыл пол под ногами, поползла стена – и она скатилась и простерлась навзничь, забилась в судорогах…
– Вот те раз! Вставай, вставай! Не прикидывайся…
«Медведь» наклонился, хлопнул Веронику по щеке, пощекотал под мышкой. Нет, не смеется, сволочь! Взаправду. Порченая, видно. Что с ней теперь делать? Буржуйка, красная буржуйка, значит: и по чулкам, и по штанам видать – видишь, какие узорчики на штанах-то. Ух, ты… ый!..
Внизу послышались торопливые шаги многочисленных ног, сопровождаемых характерным позвякиванием военных доспехов. «Медведь» отпрянул, прекратив свои исследования, и, отойдя в сторону, ждал. Три офицера, в их числе и полупьяный юнец.
– Что такое?
– Так что упала, Ваше благородие, и не встает… Дурнота с ней… Порченая.
– Она это? – тихо спросил один из офицеров юного прапорщика.
– Она, – шепнул тот, и все переглянулись.
– Что теперь, Ваше благородие, с ней делать будем?
Юнец что-то тихо произнес, и все сдержанно захихикали.
– Обморок. Прежде всего в таких случаях следует освободить дыхание.
Один из троих встал на колено и начал расстегивать на груди крючки и пуговицы.
– Перенесите ее куда-нибудь, господа! Что ж тут, на лестнице…
– Ко мне в «дежурную». Ну-ка принимайте!
Подняли Веронику с пола и понесли. Красивая девушка с обнаженной грудью и загнутой юбкой, из-под которой свешивались изящные ноги в черных шелковых чулках, – во всех уже разбудили «вожделение». Пользовались ее обмороком и старались давать волю рукам и глазам. «Медведь» шел позади, грузно ступая своими тяжелыми башмаками по полу, и шептал, отирая пот с лица:
– Теперь с ней что хочешь делай…
Принесли в «дежурную» и положили на клеенчатый диван. Мысли у всех были одинаковые, скверные, но их было трое.
– Спрыснуть ее водой, господа?
– Погоди ты. Коньяку надо ей дать…
Спорили шепотом, жидовка или русская? Вмешался стоявший у двери «медведь»:
– Нет, я тоже думал, ан нет: крест есть!
Быстрые, спешные шаги за дверью спугнули «эротическое настроение».
Кто-то идет в «дежурную». Отошли в разные концы, юнец сел за стол к чернильнице, раскрыл какую-то огромную книгу. Растворилась дверь – вошел пожилой полковник, строго окинул орлиным взором комнату и спросил:
– Это что значит?
Показал перстом на диван. Молодые притихли, юнец встал во фронт и начал рапортовать.
– В таком случае надо доктора!
– Не решились ночью беспокоить… Простой обморок…
– Но каким образом она очутилась в дежурной, когда место арестованным не здесь, а внизу?
– Она проявила себя… Она нанесла унтер-офицеру Стратонову оскорбление действием по лицу…
– Так точно, Ваше благородие! Ударила.
– И я решил составить протокол… И вот по дороге в дежурную комнату она упала в обморочное состояние…
– А почему там, внизу, женщины подняли бунт?
– Не могу знать.
– Их обыскивали?
– Так точно. Вот здесь у меня все, что найдено…
Полковник подошел к столу, стал было рассматривать бумаги и вещи, но неожиданно обернулся к стоявшим в углу офицерам:
– А почему, господа офицеры, вы находитесь здесь?
– Мы зашли случайно.
– Потрудитесь выйти. Здесь служебное помещение.
Те сделали поворот на месте и, промаршировав, скрылись за дверью.
– Дайте мне все, что найдено у этой особы.
Дамская сумка и в ней всякая всячина. Полковник посмотрел содержание сумочки, нашел документ, письмо, прочитал и задумался.
– Гм!.. Знакомая фамилия… Неужели «красная»?
– Так точно. Из подвижного лазарета. Захватили вместе с вагоном…
Вероника очнулась. Не понимала еще, что с ней случилось. Увидя свои ноги непокрытые и грудь полуобнаженной, все вспомнила и закричала истерическим воплем. Ей пришла мысль, что «гнусность» свершилась.
Полковник стал успокаивать, приказал дать воды, а Вероника, вскочив с дивана и сжавшись в углу комнаты, показывала на растерявшегося юнца и кричала:
– Он! Вот этот подлец. Он, он!..
– Выпейте воды и успокойтесь… Ничего дурного с вами не сделали и не сделают. Вы были в обмороке.
Вероника дрожащими руками застегивала непослушные крючки и пуговицы и вдруг торопливо и нервно заговорила по-французски. Это оглушило и полковника, и юнца. Полковник сразу понял, что арестованная из «хорошей семьи», и счел нужным превратиться в галантнейшего кавалера и заговорил, хотя и на очень скверном, но все-таки на французском языке. Он спросил, не родственник ли ей убитый в Японской войне генерал N.
– Я его дочь! – гордо и по-русски ответила Вероника.
– Скажите, пожалуйста… Прошу вас присесть. Каким образом все это вышло? Почему вы очутились в коммунистическом лазарете? Вы, конечно, можете мне не отвечать. Это дело суда, а не мое. Но я просто, как ваш доброжелатель, желающий вам же помочь…
– Если оказывать медицинскую помощь можно не всем людям, а только… то расстреливайте! – гордо выпрямившись, сказала Вероника. – Я не знала, что милосердие, которому нас учит Христос, – преступление перед Добровольческой армией…
– Но разве вы не могли проявить этот христианский долг в… другом месте? В нашей, например, армии?
– Простите, полковник, когда Христос давал нам заповеди любви, ни Красной, ни Белой армии не было…
– Ну а теперь вы согласились бы сделаться сестрой милосердия в нашем лазарете?
– Мне все равно. Я служу человеческому страданию…
– Ну да… Я вас, собственно, понимаю, но… Как можно вращаться в компании этих зверей, негодяев и насильников? Вот это, сударыня, для меня непонятно…
– Представьте, полковник, что именно здесь, очутившись в Белой армии, куда я так рвалась, в которой – мой жених, я тоже прежде всего встретилась со зверями и насильниками… Меня, как женщину, здесь так оплевали, так оскорбили… ваши солдаты…
Вероника вспомнила весь путь до этого дома и то, что случилось в этом доме, не выдержала и разрыдалась…
– Позвольте, позвольте!.. Солдаты… вообще… всегда грубы, и претендовать…
Тогда Вероника, обратив гневный взор на растерянного юнца, сказала:
– Солдаты! Не одни солдаты, а… вот этот молодой человек…
– Я? Позвольте, мад… сударыня…
– Я слышала. Повторите, что вы сказали про сестер. Вы сказали, что нас надо не расстреливать, а… насиловать. Да! И вы одобрили, когда вон тот, которого я ударила по лицу, сказал вам, что меня надо или к стенке, или на постель.
– Это ложь.
– Тогда вы – подлец, а не защитник родины!
– Господин полковник, я прошу оградить меня от оскорблений.
– Эх, вы… трус! Блудливый заяц, а не офицер.
– Господин полковник!.. Я прошу еще раз…
– Ну ударьте меня по лицу, герой!
– A-а… сударыня. Здесь присутственное место, и потому…
– Здесь та же чрезвычайка, что у большевиков.
Полковник обиделся:
– Будьте осторожнее в своих выражениях. А вы, господин прапорщик, потрудитесь перевести арестованную в приличную комнату и пока оставить ее в покое. Никаких допросов в мое отсутствие не производить.
– Слушаюсь.
– И затем… поместить всех сестер вместе. Внизу всякий сброд, пьяницы и воровки, а это – сестры милосердия. Кто распорядился посадить их в общую?.. Завтра в семь утра явитесь ко мне с докладом.
– Слушаюсь.
Полковник поклонился Веронике и вышел. Наступила тишина. Вероника стояла, обернувшись к окну, с белым платочком в руке и, отирая слезы, смотрела на одинокий уличный фонарь на другой стороне улицы. Когда шаги полковника стихли вдали, прапорщик, совершенно протрезвевший после того, как арестантка заговорила на французском языке, оскорбленный и униженный этой женщиной в черном, превратился в провинившегося школьника и начал было, запинаясь, подбирая изысканные фразы, оправдываться и просить извинения. Вероника отмахнулась от него белым платочком:
– Проводите меня со всеми сестрами в комнату… как вам было приказано!
– Слушаюсь. Стратонов!
– Есть.
Вошел «медведь» – тише воды ниже травы. Говорит шепотом. Оба вышли, заперли дверь. Вероника застучала:
– Не смейте меня запирать! Немедленно отоприте комнату!
– Но вы, сударыня, арестованная, и мы обязаны… В таком случае я останусь, а ты, Стратонов, переведи сестер в угловую номер пять, а потом возвращайся.