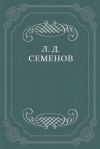Читать книгу "Зверь из бездны"

Автор книги: Евгений Чириков
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Так говорил сам с собой Ермишка, лежа в темном чуланчике. Но все эти слова не облегчали Ермишкиной злобы и ревности. Теперь и похоти у него не было, а главное, что мешало успокоению и ничем не утешалось, – это горькое разочарование: он чуть только на нее Богу не молился, считал ее чуть только не за святую, а она вон что!..
– Ах ты, подлая! Ах ты…
Самыми скверными словами ругал Ермишка княгиню шепотом, кощунственно издевался над своей святыней, придумывал и шептал похотливые угрозы, как он будет с ней любовником себя показывать… Но ничто не утешало и не успокаивало. Стал грызть угол подушки, по-звериному захрипел и вдруг заплакал…
Глава XII
Уже несколько дней бушевал над морем ветер, быстро и тускло проходили коротенькие дни, и мучительно долго тянулись черные ночи с морским грохотом, свистом ветра в клонящихся деревах, с тревожным громыханием железной крыши белого домика. Не было ни свеч, ни керосина, домик освещался первобытным самодельным светильником, мерцавшим, как одинокая свечка в темной церкви. Жуткие были ночи. Казалось, что и в природе началась революция: прибой грохотал о прибрежные скалы как орудийная пальба, казалось, что это не ветер, а человеческий плач и стоны во тьме ночи. Зловеще пылали костры рыбаков ночью на пляже, напоминая пожары, поджоги, разбойничьи шайки. Ветер доносил ночью от костров полупьяные песни, обрывки хохота, криков и гармонику. Старикам вспоминался пережитый разгром имения, злобная толпа, пожар в родном гнезде. Пожимались от страха и шептались:
– Откуда гармоника? Раньше не было гармоники…
Всю ночь пиликала гармоника. Гармоника переносила на север, в русскую деревню, и пугала их больше всего. Тогда, как приехали громить усадьбу, тоже пиликала гармоника…
– Гм! Музыкант появился…
Как не идет Крыму гармошка. Раздражает.
Утром появился и музыкант. С гармошкой под мышкой, поплевывая шелухой подсолнечных семечек, подошел к балкону широкомордый человек, приподнял картуз и спросил старуху:
– Не опознали?
Лицо знакомое. Старуха всмотрелась пристальнее и спросила:
– Да не ты ли привозил нам муку из Севастополя?
– Так точно. Я самый. Мил – не мил, а зови Ермил!
– Как же ты сюда попал? Разве ты не в лазарете?
Ермишка объяснил: его тогда еще, как муку привозил, рыбаки звали в свою артель, только жаль было уходить.
– Я человек сознательный и служил не ради денег, а прямо скажу: душой к одной подлой привязался. Прямо как вроде Богу на нее молился. Та самая, которая мужа у вашей дочери отбила! Княгиня Вероника Владимировна. Я ее за святую почитал, а она, действительно, б…
Ермишка произнес простонародное ругательство, каким называют публичных женщин. Старушка смутилась, но ненавидя эту особу заглазно, очень ласково заметила:
– А ты все-таки, Ермила, так не выражайся! Нехорошо.
– Вы меня, барыня, покорнейше извините, а я должен выразиться. Помолчали мы довольно, можно и правду сказать… Вот я пришел вам сказать, что отбила она мужа у вашей дочки, – присягу могу дать!..
Ермишка рассказал, что за эту правду он пострадал:
– Не в свое дело, видите ли, полез, не позволяю офицерам по ночам сестер на парадный вызывать. Ну и плевать! Я оставил должность! Что я в лазарете получал, что здесь заработаю? И притом сам себе барин. Одно, конечно, обидно: в человеке ошибся. Всю душу она во мне перевернула, сволочь. Я готов был за нее жизнь отдать, прозакладывал, что она с мужчиной не будет без законного брака гулять, а она… Эх!
– Так неужели правда, что она живет с мужем нашей дочери?
Ермишка снял картуз и перекрестился, потом плюнул.
– А ты доложил кому следует?
– Там одна белогвардейская сволочь. Друг за дружку держатся…
Поговорили еще втроем: старик на балкон вышел. Ермишка и ему все рассказал, да еще и по секрету что-то на ухо добавил, а потом раскланялся и с достоинством пошел прочь, а выйдя за ограду, заиграл на гармонике, говорком подпевая:
Сколько раз я зарекался
Этой улицей ходить:
В одну подлую влюбился,
Не могу ее забыть…
Опять разбередил старикам семейную драму. Что-нибудь не так. Почему Лада не ревнует, почему дает такую свободу Борису, не делает ему сцен? Почему не ссорятся, а как будто живут дружнее прежнего? Оба что-то скрывают от них. Но шила в мешке не утаишь. Надо это поскорее выяснить… поправить дело, пока не поздно. И вот они начали старательно поправлять дело… Стали истязать душу Лады. Старое, испытанное в браке средство… Старики «пилили» Ладу, почему она так странно равнодушно относится к любовным похождениям Бориса? Почему не заявляет своих прав и не скажет прямо, что это – подлость? Она, Лада, всем пожертвовала для Бориса: законным мужем, святостью брака, отцом своего ребенка, мало того – она приняла на душу страшный грех… да, да… страшный грех: жить с братом мужа – это кровосмешение, караемое и божескими, и человеческими законами!.. «Пусть все это Борис примет во внимание и имеет в виду, что Владимир ушел на фронт и погиб именно для того, чтобы не мешать вашему счастию»…
Лада оставалась совершенно равнодушной, даже улыбалась.
– Ну а если он… женится на этой особе?.. Увлечется окончательно и женится?
– Я его благословлю.
– Ты ненормальная…
– Я не люблю Бориса… И он меня не любит… Оставьте меня в покое. Если он женится, я буду любить его… как брата, и больше мне ничего не надо…
– Все вы ненормальные. Всех вас надо в сумасшедший дом!
– У нас нет счастья… такого счастья, которое было у людей раньше. Мы воруем у жизни счастье по кусочкам… Мы – нищие, папа! Мы стоим на перекрестке дорог жизни с протянутой рукой… «Подайте Христа ради!» А если жизнь не подает, то мы… умираем с голода…
– Нет. Вы нападаете и грабите…
– Я не хочу никого грабить, а вот вы меня заставляете, сами заставляете.
– Мы?
– Если Борис любит ту женщину, а я буду мешать и требовать, чтобы он отдал свою любовь мне, значит – я буду нападать и грабить. И вы заставляете меня делать это! Я неспособна на это и… я люблю другого.
– Вот как? Я знаю, что ты живешь с Борисом, у меня есть полное основание утверждать этот факт…
– Ради бога, не доказывайте! Не надо…
– И если ты…
Лада заткнула уши, убежала в свою комнату и заперлась. Старики, возмущенные и огорченные признанием дочери, стали совещаться, как быть и что делать. Главное, кого она тут может любить? Кто этот другой?
Перебирали всех немногих культурных мужчин, живших в поселке, – их было так мало – и ничего не выходило. Может быть, какой-нибудь из простых? Рыбак или пастух? Недаром сболтнула о том, что приходится воровать счастье. Такие времена, что все возможно… Догадка казалась невероятной: среди рыбаков был красивый юноша, полугрек, который подозрительно любезен с Ладой: преподносит то рыбы, то крабов и непременно норовит отдать в руки самой Ладе. Неужели связалась с этим смазливым мальчишкой? Чем больше гадали, тем догадка казалась правдоподобнее: то-то она часто уходит и пропадает надолго, а возвращается тихая и утомленная… Ну а как же с Борисом? Живет с обоими? Какая гадость! Разврат! И тогда Борис прав, и нельзя к нему предъявлять ни обвинений, ни требований…
– Вот, матушка, мы все про большевиков говорим… Что там эти декреты и всякие социализации, а у нас? Эх, всю Россию сделали сплошным публичным домом. Поскорее бы уже сдохнуть, что ли!..
Однажды Лада, по обыкновению, погнала козу пастись в горы. Старик решил выследить. Разве угонишься в его лета за молодой и проворной женщиной?.. С горы на гору? Потерял, долго бродил и неожиданно наткнулся на козу: привязана за веревку к корявому пню, щиплет травку, а Лады не видно. Побродил вокруг, покричал – не отзывается. Ну вот! Теперь ясно. Торопливо вернулся домой и пошел на берег к рыбакам:
– А где Харлампий?
– Крабов ушел ловить…
– Давно?
– Давно уж.
Открытие! Все рассказал жене. Стали чувствовать себя виноватыми перед Борисом. Как-то вернулся он из Севастополя веселый, жизнерадостный и за чаем на балконе при всех, даже при Ладе, сообщил приятную новость: приехала из России его «первая любовь», и скоро он всех познакомит с ней, привезет ее сюда погостить. Она служит в лазарете, ей дают отпуск на неделю – и вот он пригласил… Прекрасный человек! Таких женщин теперь нет уже, обломок старины: есть в ней что-то «тургеневское»…
– Твоя невеста? – весело спросила Лада и искренно обрадовалась: она много слышала уже об этой девушке от Владимира. Будет веселее с молодой, а то так надоело ворчанье.
У Лады с Борисом давно уже все оборвалось. Лада отдыхала от «любви» Бориса, повеселела, расправила смятые крылья души. Никаких объяснений не было. Просто оборвалось! Борис оставил ее в покое. Это было так неожиданно и непонятно, а вот теперь все объяснилось:
– Моя первая любовь…
Старик нахмурил брови и спросил:
– Первая с конца, вероятно? Ну а как же ты, Аделаида? Ты теперь будешь под каким номером?
– Какое вам дело, папа?
– Ты тоже пригласила бы свою «первую любовь» сюда погостить. Ничего понять не могу. Мужья выдают замуж своих жен, жены женят своих мужей. Поистине Содом и Гоморра!
Ничего не склеивается, все расползается. Так казалось старикам. А Лада с Борисом подружились. Точно спали с обоих тяжелые цепи, которыми они были скованы между собой. Уходили на берег моря, сидели и доверчиво, по-дружески говорили о Веронике. Лада слушала и думала: должно быть, Вероника очень хорошая и сильная – Борис точно воскорес к новой жизни. Стал ласковый и все просит прощения у Лады, целует ей руки и все спрашивает:
– Презираешь ты меня, Лада?
Что-то новое появилось в глазах Бориса. Может быть, в них застыло выражение нового чистого счастья, новых надежд, кроткая мечтательность…
Проснулась потребность быть чисто одетым, деликатным и красивым в словах и поступках. Приехал Карапет, а Борис спрятался. Почему? С этим приятелем связано много грязных и пошлых воспоминаний; теперь, после встреч и разговоров с этим человеком, Борис чувствует себя так, словно в чем-то испачкал свое чувство к Веронике.
– Привези ее. Я ее уже люблю… За то, что она сумела сделать то, чего не смогла сделать я: пробудила в тебе человека! – грустно, со вздохом сказала Лада. Стала отирать платочком слезы.
– Нет, нет, Лада, не обвиняй себя!.. Наша любовь родилась в кровавом зверином комшмаре… Я еще и сам не твердо верю в новое и потому иногда боюсь его. Вероника – как страничка из далекой и прекрасной жизни, когда человек сам освещает свою любовь всякой красотой… Когда перечитываешь эту страничку, кажется, что все вернулось… А вдруг все это тоже самообман? Способен ли я, Лада, ответить на эту чистую любовь?..
– Верь, Борис, и все будет хорошо…
– Хочется верить, Лада, очень хочется, но… бывают моменты, когда я теряю в себя веру и ловлю себя на «зверином»… Оно выскакивает вдруг неожиданно для меня самого… Чистота этой девушки… иногда… рождает во мне какое-то звериное желание осквернить, развратить… Впрочем, это случалось раза два… обыкновенно же этого не бывает… Вообще, все это для меня ново: такое юношеское боготворение, романтизм… Ходил с ней в собор и молился… и верил в Бога! Хоть несколько минут – да верил… Она, знаешь, религиозна, и это отражается на моей душе…
– Ее любовь, Борис, очистит твою душу… В ней твое спасение…
– Дай, Лада, руку… поцеловать. Какая ты хорошая, добрая!.. И ничего этого я раньше не замечал и не ценил…
– Ты ей ничего не говорил о нашей… наших отношениях?
– Нет, Лада, не хватает духу…
– И не надо. Зачем? Только смутишь, загрязнишь… Мы должны все это забыть. Точно ничего не было. Хорошо?
– Хорошо. А ты сможешь это сделать… сама-то?
– Смогу. Я хочу любить тебя только как своего брата… У меня не было братьев, и я всегда жалела об этом. Ну, вот… ты – брат.
Вернулись домой оба необыкновенные: точно всю жизнь давали только одну радость друг другу. У стариков даже появилась надежда, что все снова устроилось. Только бы уж вела себя иначе! Но уехал Борис, и Лада снова стала уходить в лес под предлогом пасти козу и снова возвращалась странной и загадочной: напоминала жену, которая обманывает мужа. Старик решил откровенно поговорить с дочерью. Так честная, порядочная женщина делать не может. Однажды, когда Лада вернулась со свидания расстроенная, с заплаканными глазами, отец зашел к ней в комнату:
– Вот что, Лада… Долго я молчал, но больше не могу…
– Ну что вам от меня нужно? Не даете мне жить…
– Постой, не волнуйся!.. Ты знаешь мои взгляды: я все могу простить и все понять, но… мне тяжело… Не воображай, что мы с матерью слепы и ничего не видим… Я не могу! Я требую, чтобы ты изменила свое поведение!
– Поведение?.. Я, папа, не в гимназии… и мне пятерок за поведение не надо.
Отец вспылил. Тихоня, а такая дерзкая на слово. Пусть знает, что ему все известно:
– Ты думаешь, что я не знаю, куда ты ходишь с твоей козой? Ты ходишь на свидание к любовнику. Я знаю, с кем ты связалась…
Лада вспыхнула:
– Да, да… к любовнику! И сегодня вы его увидите: он придет ко мне ночевать. Довольны?
Что она говорит? Старик даже растерялся. Несколько мгновений стоял молча, пожирая испуганными глазами смеющуюся сквозь слезы Ладу, потом круто повернулся и вышел, сердито хлопнув за собой дверью…
Не давалось людям в эти страшные дни счастье. Если им удавалось поймать эту сказочную Жар-птицу, то не удавалось удержать: вырывалась, оставляя несколько перышек из хвоста. Дорожили, берегли эти перышки, но налетал «ветер с пустыни» и уносил перышки, или они тускнели в грязных, испачканных слезами и кровью руках человеческих…
Недолго продолжалась сказка Ладиной любви в хаосе. Такая коротенькая и яркая сказочка, перышко из хвоста Жар-птицы. Вспыхнуло и потухло… Несколько свиданий прошло ярко и красиво, окутанные тайной, забвением и красотой воскресших призраков прошлого. Но сменились яркие солнечные дни пасмурными осенними, закипело море хмурыми тяжелыми волнами, свинцовое небо упало над ним, и бесконечные вереницы темно-сизых туч поползли из-за горизонта, гонимые злыми ветрами. И вот унесли коротенькое счастье в хаосе. Точно догорел костер…
– Володечка, ты что сегодня такой печальный?
– На меня нападает тоска… Особенно по вечерам… Может быть, на меня так действует морской прибой, этот рев моря… Слушаешь его, и начинает казаться, что весь мир вымер и ты один остался на всей земле. И приходят в голову разные вопросы… о жизни вообще. Знаешь, как я себя называю? – Замаринованный покойник!.. Или еще: зверь в клетке. Это очень похоже… Только теперь я понял несчастных зверей в зоологических садах. Если бы они догадались и сумели, они все, конечно, покончили бы самоубийством…
– Я приходила бы к тебе чаще, но за мной следят, и я боюсь… Тебе скучно тут… Но что же делать?
– Дело в том, что от себя никуда не спрячешься… и всего менее именно в одиночестве… Если бы еще книг побольше достать, – может быть, забывал бы о себе, а то…
– Я просила Бориса привезти мне книг, но он забывает…
– Да ему теперь не до книг… Не была Вероника?
– Нет. Скоро они должны приехать…
– Женится, что ли?
– Да.
Владимир вздохнул и задумался. Сидели и молчали. Казалось, что не о чем говорить. Владимир походил по дворику, приостановился около Лады, погладил ее по голове и сказал:
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать… Не хочу быть гориллой в клетке. Не могу больше, Лада!.. Скажу тебе откровенно: вчера ночью я выдержал сильную борьбу со смертью… Совсем было решил, да захотелось проститься с тобой и с ребенком… Видно, с волками жить – по-волчьи выть. Если отказываешься убивать других, то смерть самого тебя хватает за горло…
С тоской и ужасом смотрела Лада на Владимира, и не было у нее таких слов, чтобы тот понял ее страдание. Только глаза. И в них Владимир прочитал ужас смятенной души.
– У меня просто скверное настроение, Лада… Ты не придавай моим словам особенного значения.
– Если ты сделаешь что-нибудь над собой, я… тоже… не останусь жить. И знай, что убьешь не себя, а всех нас… и нашу девочку! Я никому не оставлю ее на этом свете… с собой возьму!..
– Ну, Лада, это уже совсем… дико. Это в варварские времена родители имели право распоряжаться жизнью детей, а теперь…
– И теперь варварские времена…
Опять сидели молча и думали. Ладе надо было уходить, но… взглянет мимолетно в лицо Владимира и боится уйти. Уже смеркалось, а она сидела на камне как изваяние.
– Тебе пора, Лада…
– Я не уйду… Знаешь что?.. Давай умрем вместе!.. Я тоже устала жить…
Владимир встрепенулся: точно разгадал вдруг загадку, над которой он долго трудился напрасно. Странный огонек блеснул в его глазах. Он так настойчиво в последние дни думал о самоубийстве, и всегда она, вот эта несчастная женщина, которую он связал со своей жизнью, становилась поперек дороги к смерти, избавительнице от всех мук. И вот теперь все разрешается…
– Уйдем, Володечка, все, все!..
– Нет. Только вдвоем.
Лада заплакала. Уйти и оставить ребенка – нет, она не в силах сделать так!
Владимир ходил около и говорил. Они с Ладой прожили свою жизнь. Была эта жизнь коротенькая, но она была, как свеча под ветром, – сгорела, и не стоит жалеть огарка, который только коптит, а не светит больше. А жизнь ребенка вся впереди. Кто скажет, какова будет эта жизнь? И кто скажет, что будет через десять лет? Он, Владимир, фаталист: смерть приходит к каждому в предначертанное время. Разве Лада не чувствует, что их жизнь сгорела? Ничего, кроме смерти, впереди. Все осталось позади. Только прошлое ценно, а настоящее – одна мука, скорбь и тоска. Надо все предоставить судьбе: если ребенку суждено умереть – придет смерть под маской скарлатины, тифа, дизентерии, оспы, и девочка умрет. А самим отнять у нее жизнь – это та же звериная жестокость, а не любовь. Почему Ладе кажется необходимым умереть вместе с ребенком? Материнский слепой эгоизм. Если бы девочка могла понимать, она замахала бы ручонками и закричала: «Не хочу!..»
Лада слушала и поддавалась внушению: уверенная страстная речь Владимира действовала на нее, слабовольную, как «заговор» колдуна на темного человека. Слушала и кивала головой. Да, Лада верит в загробную жизнь и верит, что все они соединятся потом. От этой мысли лицо Лады просияло улыбкой.
– Уйдем, Володечка!.. Я так устала!.. Так хочется отдохнуть…
Владимир подсел и стал ее ласкать. Гладил по голове и целовал мокрые от слез глаза. Шептал ей: сегодня он придет ночевать, он простится с ребенком и потом уйдет, совсем, навсегда…
– В море? – шепотом спрашивала Лада.
– Да, в море…
Владимир уже ходил к берегу: там есть огромный камень, с которого можно спрыгнуть.
– Только… скорее!.. чтобы не мучиться…
– Можно сперва из револьвера… упадешь с камня, и все кончено…
Они сидели, как заговорщики, и шептались. А море ворчало прибоем, взметывая ввысь каскадами водяной пыли свои зеленые тяжелые волны с белыми гривами, как несметные полчища всадников, скачущие правильными рядами, как конница, от затуманенного горизонта.
Крепко поцеловались, глядя друг другу в глаза… Итак, он придет, как только стемнеет. Лада кивнула и пошла домой…
А дома объяснение с отцом, обвинение и попрек «любовником».
– Да, да! Ходила к любовнику. И сегодня вы его увидите: он придет ко мне ночевать. Довольны?
Так и случилось. Когда совсем уже стемнело, в дверь балкона кто-то постучался. Отпер старик.
– Не бойтесь! Последний визит…
Ужас объял старика: перед ним был снова «покойник». Что-то зашамкал губами, метнулся в сторону, зашатался и упал, наотмашь, ударившись оголенным черепом об пол. Выбежали Лада, старуха. Перетащили потерявшего сознание старика на диван. Он неподвижно смотрел широко раскрытыми глазами на окружающих, шевелил губами и мычал… Спустя десять минут в доме был настоящий покойник. Никто не плакал. Казалось, что в белый домик пришла сама смерть, и все притаились и спрятались… Только в комнате старухи загорелась синим огоньком лампадка перед старым образом в потемневшей серебряной оправе…
Зачем пришла смерть в белый домик? Может быть, она не хотела принять жертвы, которую ей готовили заговорщики?..
Пришла и помешала…
Глава XIII
Негде достать гроб!..
Вошла за плечами Владимира смерть в белый домик, но никто не плакал, все прятались за вопросом: «Где достать гроб? «Вообще – как быть с покойником? Церковь и кладбище далеко, верст за десять, проехать по измытой ливнями и забросанной огромными камнями дороге невозможно, да и не только проехать, а даже пронести на руках гроб – неразрешимая задача. Даже священника достать трудно: согласится ли идти пешком? Люди перестали ходить по шоссе: под Байдарскими воротами хозяйничали опять «зеленые», а может быть, просто грабители. Как и где похоронить? Нельзя отдать последних почестей при разлуке с близким человеком: отслужить панихиду, возжечь восковые свечи, почитать погребальные псалмы и каноны, проводить торжественным шествием до могилы… И от этого человек мертвый становится не покойником, а трупом, и самая смерть теряет свою значительность… Лежит старик на диване под простыней и только пугает: от мигающей лампадки кажется, что мертвый шевелится под простыней… Это так странно: Лада, решившая сама отдаться смерти, теперь боится войти в зал и остаться с мертвым отцом. Точно не отец, а просто чужой мертвец. Прячется в своей комнате, около ребенка, который беспечно и весело разговаривает, смеется и этим не пускает мысли о смерти в комнату. Владимир в комнате брата все пишет «прощальное письмо людям» и не появляется в зале. Одна старушка войдет, постоит, повздыхает, потрясет головой, отрет слезки, перекрестится и уйдет в свою норку думать о том, что и ей пора на вечный покой. Нечего больше в этой жизни ждать! Все кончилось, кроме смерти. Прошлепает туфлями, заглянет в комнату Лады:
– Ладочка! Как же без гроба и без священника? Точно и не человек…
Лада вздрагивает, сожмется и со стоном ответит:
– Что же, мама, я могу сделать?
От Лады к Владимиру:
– Владимир Павлыч! Как же быть-то теперь… похоронить-то человека?
Он сам накануне смерти, а жизнь заставляет заниматься такими пустяками:
– Вырыть могилу, завернуть в простыню, перекрестить и зарыть…
– Так ведь я и этого сделать не могу!.. Из-за вас помер, вы испугали, а даже помочь не хотите…
Пишет и не отвечает. Опять позади стонущий голос старухи. Оборачивается и с раздражением говорит:
– Завтра я вырою яму, и похороним…
– Яму? Что он, собака, что ли?
Взяла старуха палку и поплелась к морю, к рыбакам: надо поскорее Бориса вызвать, послать за ним в Севастополь, может быть, этот Ермила согласится пешком сходить – поблагодарит она его. А может быть, и гроб рыбаки сделают… Люди же! Должны понять. Долго спускалась по тропинке. Пришла. Рыбаки спали. Разбудила одного и рассказала. Тот спросонья ничего не понял, махнул рукой и, отвернувшись, снова улегся. Точно сказал: «Не мое дело!» Старуха села на лавочку и завыла. Проснулся Ермишка. Что такое?..
– Батюшка! Ермилушка! Горе-то у меня какое…
– Что такое?
Рассказала старуха, а Ермишка потянулся, крякнул и сказал:
– Ничего, старушка Божия! Все в свое время помрем. Три фунта сахару дашь, и гроб сколотим, и могилу выроем, и все честь честью… Ребята!
Разбудил товарищей, обрадовал сахаром. Нигде сахару не достанешь, а тут три фунта. Поговорили между собою:
– За четыре фунта согласны!..
– А пять фунтов дашь, так и за попа справим, – пошутил один молодец, и все захохотали.
Не люди, а звери. Даже из великой тайны смерти человеческой устраивают себе развлечение. Старуха чуть ползла в гору, возвращаясь домой, земля уползала у нее из-под ног, колючая одышка мешала дышать, точно сердце комом вставало в горле. Умереть бы! Остановилась, а позади веселые голоса: Ермишка с ребятами догоняют – с кирками и лопатами.
– А где, бабушка, могилу копать будем?
– Повыше где-нибудь… Подальше от людей…
– Постараемся, бабушка! Покрасивее местечко выберем, чтобы далеко видать было покойничку с высоты. По горе лесенку выложим, если три коробка спичек прибавишь…
– Ладно. Прибавлю…
– Идем, ребята!.. А чай у вас остался?
– Есть еще…
– Поработаем да чайку с сахаром попьем. И что такое? Не могу без сахара жить? Чего нет, то всего дороже на свете…
К вечеру Ермишка с Харлампием гроб принесли и сказали, что все готово. Помогли старика обмыть и в гроб уложить. Ермишка удивлялся:
– Смердит от него… И что такое? Помер, и дух скверный… Что от человека, что от падали… Одна цена!.. А сахарку-то, бабушка?
– Сейчас разве? После уж… когда похороним.
– Не обманем!.. Доверься! Долго ли отнести да закопать? Пустое.
Со смертью и Ермишка в белый домик вошел: нужным человеком сделался, главным распорядителем по погребению. Обещал старухе ночью, перед рассветом, в Севастополь пойти – поручику дать знать, чтобы скорее домой прибыл. Старуха записку с вечера ему дала. Все было готово. Последнюю ночь старик в белом домике ночевал. Ночь была черная, но тихая. Ветер сразу оборвался, точно устал. Только море все еще роптало и тяжко вздыхало, бросая на камни своих белогривых коней. Только ропот моря и молчание. Такое страшное зловещее молчание гор, скал, деревьев, всей природы…
Лада чутко дремала в постели, обняв рукой девочку. Теперь она не могла спать без девочки. Точно утопающий, хваталась за эту соломинку. Инстинкт жизни толкал ее к ребенку, а Владимир стал казаться страшным, как сама смерть. Гроб в доме – Владимира тянул к смерти, а Ладу отталкивал. Трупный запах в комнатах делал смерть отталкивающей и омерзительной. Лада старалась заглушить этот смрад духами, одеколоном, а смрад все-таки не пропадал. Моментами Ладе казалось, что этот смрад пропитал все ее тело. Нет, она не в силах оторваться от чистого маленького ангела и превратиться в смрадный труп! Она – жалкая, безвольная, глупая – и не может подчинить свои чувства логике и разуму. Жить хотя бы только для того, чтобы видеть ребенка, слышать его голосок, смотреть в его прозрачные для души глазки, осязать его теплое тельце!..
Трижды стукнул к ней в дверь кто-то, и дрема спала с души, а сердце застучало испуганно: она почувствовала, что за дверью Владимир. Осторожно высвободила руку из-под ребенка, соскочила с постели и подошла к двери. Было страшно отпереть, словно за дверью стоял не Владимир, а сама смерть.
– Лада!..
Точно за ней пришел палач, чтобы вести на казнь. Конечно, Владимир… сейчас позовет ее туда, в темную ночь, которая зловеще молчит за окном.
– Лада, отвори!
Нельзя не отворить. Отперла, вся дрожит, как в лихорадке, и с мольбой смотрит в лицо мужа, ожидая его первых слов.
– Ну что ж?
Схватила его за руку и подвела к постели:
– Посмотри! – шепнула, точно ответила на вопрос.
Владимир долго стоял с опущенной головой, точно боялся смотреть на своего ребенка.
– Посмотри же! – умоляюще произнесла Лада.
Он поднял голову. Ребенок лежал, раскинувшись, точно летел, распластав руки-крылья. Золотистый локон упал на раскрасневшуюся щечку, и смешно оттопыривалась верхняя губка… Владимир смотрел, не отрываясь, и на лице его появилась улыбка. Как луч солнышка через синюю щель в тучах. Лучше было не смотреть! Точно вся притягательная сила жизни собралась в этом маленьком спящем человечке. Точно сама жизнь, обратившись в этот живой цветок, открылась его глазам из-за всех ужасов, мук и страданий в прекрасном своем образе… Стоял и молча смотрел удивленно-печальными глазами. Лада вдруг упала на колени, припала к ногам Владимира и заплакала:
– Я не могу… уйти!.. Не могу!.. И тебя не пущу… Ты не уйдешь…
Владимир склонился, поднял с пола Ладу, и они порывисто обнялись и оба тихо плакали около спавшего ангела. И от этих слез, казалось, расплавилось и распалось железное кольцо смерти, в котором они оба себя чувствовали несколько последних дней. Не было никаких слов, были только объятия и тихие слезы, но оба радостно ощущали физически, что смерть еще раз побеждена жизнью…
Там, в зале, в гробу – смерть, а здесь, в постели – жизнь.
Ребенок точно почувствовал значительность момента в жизни своих родителей: заговорил и засмеялся во сне. Это было как чудо, открывшееся прозревшим душам. Оба притаились и жадно слушали сонный лепет.
Не поймешь! Понятно только одно: радость во сне. Чтобы не разбудить и не испугать радостного сна, мать потянула отца за руку, и они осторожно, на цыпочках, вышли из комнаты. Проскользнули в комнату Бориса, где прятался теперь Владимир. На столе, в ореоле светлого круга от мерцающего светильника, лежал в кобуре револьвер. Лада прежде всего увидела этот револьвер.
– Отдай!
Не дает: предупредил протянувшуюся руку Лады и схватил револьвер.
– Отдай!
– Не могу…
На глазах у обоих еще слезы, а они уже улыбаются друг другу. Лада отнимает револьвер, уговаривает – отдать ей.
– Я не могу отдать… Он мне нужен, как самая последняя защита…
Он не убьет себя, дает слово. Но без револьвера он не может, он должен знать, что у него есть верный защитник человеческого достоинства… Если он будет знать, что защитник с ним, он будет чувствовать себя человеком…
– Я не хочу, чтобы меня убили, как собаку, я не хочу пойти на убой, как баран на бойню, я не могу позволить поругания или пыток… А ведь все это теперь может случиться… Я убью себя только в том случае, если мне придется все равно умереть… с позором. Ты сама не захочешь этого.
– Тогда я тебе отдам, сама отдам… Клянусь, что отдам!
– Пожалеешь и не отдашь…
– Ты мне не веришь?
– Я не верю… ни тебе, ни себе… Час тому назад я решил умереть, а вот видишь… и не могу! Посмотрел на ребенка и не могу…
– Я верю, что Бог спас нас от смерти… вот через эту жалость к ребенку… Я молилась, Володечка… И вот видишь – случилось чудо!..
– Я даю тебе честное слово, что воспользуюсь револьвером только в том случае, когда… одним словом – если меня принудят к этому чисто внешние обстоятельства, а не добровольное внутреннее решение.
– Перекрестись!
– Ведь ты знаешь, что я… давно потерял Бога…
– Все равно… перекрестись! Прошу тебя, Володечка.
– Что ж… если хочешь…
С виноватой улыбкой на лице Владимир перекрестился. Лада просияла.
– Погоди!..
Она погрозила ему пальцем и выскользнула из комнаты. Через несколько минут она снова появилась.
– Вот тебе… вместо револьвера!.. Это крестильный крест нашей детки…
Перекрестила Владимира и надела ему на шею золотой крестик на голубой ленточке.
– Отдай!
– Возьми!.. Но если мне придется расстаться с тобой, ты мне отдашь его, – сказал Владимир, передавая револьвер Ладе.
– Конечно, Володечка. Я понимаю, что без него нельзя жить теперь…
Лада крепко поцеловала Владимира и ушла. Странное чувство охватило Владимира. Первый раз остался безоружным. Сперва стало страшно, точно сделался калекой, которому недостает правой руки. Потом страх растаял, и на его месте появилось кроткое и радостное смирение, какая-то новая неведомая сила. Сила в бессилье. Разве он не сумеет умереть с достоинством и без револьвера? Стал вспоминать разные случаи, когда мог потребоваться револьвер. Положим – повели, как барана на убой, расстреливать. Пусть! Он бросит в лицо палачам всю правду, все презрение, посмеется им в лицо и гордо встретит пулю. На издевательства ответит тем же, на оскорбление – оскорблением. Пытки?.. Вот-вот! Только одно это и страшно. Физическое страдание… Вот если это вынесешь с мужественной гордостью, с презрением к палачам, вот тогда ты – человек! Может быть, в этом револьвере сокрыто подлое чувство трусости? Вспомнил, как умер адмирал Колчак: отдал расстреливающим свой золотой портсигар, сказав: