Текст книги "Мой муж – коммунист!"
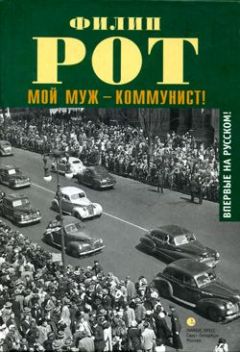
Автор книги: Филип Рот
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда после этого он опять умолк, нахлынувшая тревога лишила меня выдержки; боясь, что его опять охватит помрачение и он – не просто расстроенный воспоминанием, но словно раздавленный безмерным одиночеством, которое, казалось, внезапно отняло у него все силы, – никогда не найдет пути назад, к тому, чтобы быть храбрым, гневным героем, перед которым я преклонялся, я ощутил необходимость что-то сделать, хотя бы что-нибудь, и я попытался по крайней мере закончить за него мысль. Я сказал: «Понимаю. Это было ужасно».
Он похлопал меня по спине, и мы пошли дальше.
«Для меня – да, – наконец сказал он. – Для моих сослуживцев это значения не имело. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь что-нибудь по этому поводу сказал. Что-то не замечал я, чтобы кого-либо из моих соотечественников-американцев эта ситуация расстроила. А я прямо как пьяный ходил. Но поделать с этим ничего не мог. В армии ведь нет демократии. Врубаешься? И, размахивая руками, кинуться к вышестоящим начальникам я тоже не мог. А происходило это бог знает как долго. В этом вся гнусность мировой истории. Так люди и живут». После паузы он добавил с горечью: «Вернее, так людей заставляют жить!»
Иногда мы вместе отправлялись бродить по Ньюарку, и Айра специально показывал мне нееврейские районы, которых толком-то я и не знал, – Первый околоток, где он вырос среди бедняков-итальянцев; Даун-Нек, где жила ирландская и польская беднота, – причем Айра все время повторял, дескать, не важно, что ты мог о них слышать от старших, эти люди не просто гоим,[16]16
Гоим – неевреи (иврит).
[Закрыть] это «рабочий народ, такие же рабочие, как и в любом другом уголке страны, – трудолюбивые, бедные, бессильные что-либо изменить, – которые каждый Божий день выбиваются из сил ради того, чтобы жить приличной, достойной жизнью».
Ходили мы и по Третьему околотку Ньюарка, где улицы и дома старых иммигрантских еврейских трущоб теперь заселили негры. Айра заговаривал со всеми, кого видел: с мужчинами, женщинами, мальчишками и девчонками, спрашивал, чем они занимаются, как живут и как они насчет того, чтобы вдруг взять да изменить «эту дерьмовую систему со всей ее проклятой, идиотской жестокостью», систему, которая не дает им никакой надежды на равенство. Он садился на скамью у входа в негритянскую парикмахерскую на убогой Спрус-стрит (там, кстати, и Бельмонт-авеню в двух шагах, как раз за углом стоит доходный дом, где прошло детство моего отца) – усядется и говорит, обращаясь к группе мужчин, столпившихся на тротуаре: «Такой я человек – ну вечно лезу в чужие разговоры…» – и начинает рассуждать с ними о равенстве; в такие моменты он казался мне особенно похожим на долговязого Авраама Линкольна, знаменитого в Ньюарке Линкольна, отлитого из бронзы Гатцоном Борглумом и поставленного у подножия широченной лестницы, ведущей к зданию суда округа Эссекс. Линкольн там сидит на мраморной скамье и ободряюще машет рукой, при этом и тощее бородатое лицо, и вся его исполненная простоты и радушия поза говорят о том, какой он мудрый и серьезный, сколько в нем рассудительности, понимания и доброты. Именно там, у входа в парикмахерскую на Спрус-стрит, когда Айра в ответ на чью-то просьбу поделиться мнением в очередной раз возглашал, что «негр, конечно же, имеет право есть там, где, черт возьми, захочет, если в состоянии оплатить счет!» – я однажды осознал, что прежде никогда не то что не видел, а даже вообразить не мог, чтобы белый так запросто и по-приятельски общался с неграми.
«То, что принимают за строптивость и глупость негров… знаешь, что это на самом деле, Натан? Это защитная оболочка. Но как только они встречают человека, который свободен от расовых предрассудков… ты сам видишь, что тогда происходит, они в этой оболочке просто не нуждаются. Среди них, конечно, тоже психи водятся, так вы скажите мне, где их нет!»
Когда однажды Айра откопал в окрестностях парикмахерской какого-то очень древнего и очень желчного черного старца, которого хлебом не корми, а только дай лишний раз попенять окружающим, вызывая их на яростные споры по поводу скотства, изначально присущего роду человеческому – «Все дурное, что мы порицаем, развелось в миру не из-за какой-то там тирании, а из-за жадности, невежества, грубости и злобы человеческой. Самый злой тиран – это человек как таковой}.», – мы стали приходить туда вновь и вновь, и вокруг нас собирались люди, чтобы послушать, как Айра дискутирует с этим импозантным мятежником духа, которого остальные мужчины уважительно называли «мистер Прескотт» – он был всегда одет в приличный темный костюм, даже при галстуке; все наблюдали, как Айра обращает этого негра в свою веру – этакие дебаты Линкольна с Дугласом, в новой, причудливой форме.
«Вы по-прежнему убеждены, – вкрадчиво спрашивал Айра, – что рабочий класс так и будет питаться крошками со стола империалистов?» – «Именно так, сэр! Какой бы ни был у людей цвет кожи, в массе своей они всегда были и будут безмозглыми, бездеятельными, порочными и тупыми!» – «Что ж, я подумал над этим, мистер Прескотт, и пришел к выводу, что вы заблуждаетесь. Тот простой факт, что рабочему классу этих крошек для пропитания и усмирения недостаточно, показывает несостоятельность вашей теории. Вы, джентльмены, все тут страдаете недооценкой близости краха промышленного производства. Это правда, что в большинстве своем наши рабочие являются пособниками Трумэна с его планом Маршалла, но лишь до тех пор, пока уверены, что им будет обеспечена занятость. Но здесь имеется несостыковка: дело в том, что перекачивание валового национального продукта в военное имущество – как в самой Америке, так и во всех странах с послушными нам марионеточными режимами – приведет к обнищанию американских рабочих».
Даже перед лицом, по-видимому, выстраданной нелюбви мистера Прескотта к человечеству Айра старался привнести в дискуссию хоть какую-то разумность и надежду, посеять если не в мистере Прескотте, то в публике осознание того, что в жизни людей мыслимы перемены, и перемены эти можно вызвать совместными политическими действиями. Для меня это было, выражаясь словами Вордсворта, которыми он описывал дни Французской революции, «пареньем в небесах» – «Застать при жизни сей рассвет – уже блаженство, / Но быть при этом молодым – паренье в небесах!». Это надо же: мы тут стоим вдвоем, окруженные десятью или двенадцатью неграми, и можем ни о чем не беспокоиться, и они тоже могут ничего не опасаться; не мы их угнетатели, и не они наши враги; мы заодно, мы вместе ужасаемся тем отношениям угнетения и вражды, посредством которых организовано и управляется общество.
После первого нашего визита на Спрус-стрит Айра угостил меня творожным пудингом в кафе Уикваик-парка, а пока мы ели, рассказывал о неграх, с которыми вместе работал в Чикаго.
– Фабрика стоит в самом центре чикагского «черного пояса», – говорил он. – Около девяноста пяти процентов работающих – цветные, вот в этом-то как раз собака и зарыта – то есть насчет состава партии. Это, кстати, единственное на моей памяти место, где негры находятся в абсолютно равных условиях с кем бы то ни было. Поэтому белые не чувствуют вины, а неграм нет причины непрестанно злиться. Врубаешься? И в должности там повышают только на основании выслуги лет – по-честному, без мухлежа.
– И как вам с неграми там работалось?
– Насколько я могу судить об этом, к нам, белым, они относятся без всякой подозрительности. Перво-наперво, цветные знают, что всякий белый, кто через профсоюз устраивается на эту фабрику, либо коммунист, либо вполне надежный, честный трудяга. Так что они в своем кругу не замыкаются. Знают, что мы настолько лишены расовых предрассудков, насколько может быть их лишен взрослый человек в наше время и в нашем обществе. Если ты видишь, что читают газету, то примерно два к одному, что это «Дейли уоркер». На втором месте голова к голове идут «Чикаго дефендер» и «Программа скачек». Никакого Херста и никакого Маккормика – этих и близко не видать.
– Но сами-то негры что из себя представляют? Ну, вроде как в человеческом плане.
– Да как тебе сказать… Есть среди них типчики довольно отвратные, если ты об этом. На то имеются понятные причины. Но это лишь малозаметное меньшинство, и достаточно разок проехаться надземкой по негритянским гетто, чтобы любой незашоренный человек догадался, что их там так уродует. Мне лично в неграх больше всего бросалось в глаза их дружелюбие, теплота. А конкретно на нашей фабрике грампластинок – еще и любовь к музыке. На фабрике по всем цехам были развешаны репродукторы с усилителями, и, если кому хочется послушать какую-то определенную мелодию – все это, между прочим, в рабочее время, – ему достаточно ее заказать. Все поют, пританцовывают… а кто-то запросто может вдруг схватить какую-нибудь девчонку и пуститься в пляс. Примерно треть персонала – девчонки-негритянки. Симпатичные. Мы там курили, читали, варили кофе, спорили до хрипоты, а работа шла себе и шла без сучка без задоринки.
– А у вас друзья-негры были?
– Конечно. Конечно, были. Был там такой здоровенный парень по имени Эрл, только вот фамилию запамятовал, который мне с ходу понравился, потому что прямо вылитый Пол Робсон. Вскоре обнаружилось, что он примерно одного со мной поля ягода – такой же непоседа. И на трамвае, и в надземке нам с ним было по дороге, и мы завели обычай ездить вместе, по-приятельски, чтобы было с кем в дороге язык почесать. От самых фабричных ворот идем вместе, болтаем, хохочем – в общем-то, точно так же, как и на рабочем месте. Однако, как в вагон войдем, где поблизости могут оказаться белые, которых он не знает, Эрл сразу – глядь! – будто язык проглотил, и только «ну, пока» скажет, если я почему-либо раньше выйду. Вот оно как. Врубаешься?
Страницы маленьких коричневых тетрадок, которые Айра привез с войны, помимо его наблюдений и изъявлений взглядов были испещрены фамилиями и адресами чуть ли не всех интересовавшихся политикой солдат, которых он встречал в армии. Вернувшись, он принялся разыскивать этих людей, по всей стране рассылал письма, а к тем, кто жил в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, ездил сам. Однажды мы поехали в Мейплвуд – это рядом, практически пригород Ньюарка, – отправились навещать бывшего сержанта Эрвина Гольдштейна, который в Иране держался таких же радикально левых взглядов, как и Джонни О'Дей. («Очень высокоразвитый марксист», – отзывался о нем Айра.) Однако, оказавшись дома, он, как выяснилось, женился и вошел в семью, владеющую матрасной мастерской в Ньюарке. Мало того, став отцом троих детей, он теперь сделался сторонником того, что прежде терпеть не мог. Это касалось всего – и закона Тафта – Хартли, и межрасовых отношений, и контроля за ценами; с Айрой он даже не спорил. Просто смеялся.
Детей и жены Гольдштейна дома не было – они ушли на весь вечер к ее родителям, и мы втроем сидели на кухне, пили газировку, причем Гольдштейн, жилистый тщедушный мужичонка, глядевший со снисходительным и хитрым видом уличного остряка, глумливо посмеивался над всем, что бы ни сказал Айра. Почему он так переметнулся? Сам Гольдштейн объяснил это просто: «Да дурак был. Не понимал ни бельмеса. Какашки от кукушки не отличал». А мне и говорит: «Парень, не слушал бы ты его. Ты живешь в Америке. Это самая прекрасная страна в мире, и система в ней тоже прекрасная. Конечно, тут тебя могут и обосрать с головы до ног. Ну, так ты думаешь, этого в Советском Союзе не бывает? Этот дяденька тебе внушает, что при капитализме волчьи законы. А сама жизнь – она что, по другим законам действует? Наша система согласована с жизнью. Поэтому работает. Дело-то вот в чем: все, что коммунисты говорят о капитализме, – правда, и все, что капиталисты говорят о коммунизме, – тоже правда. Разница в том, что наша система работает, потому что основана на правде о людском эгоизме, а их система не работает, потому что основана на детской сказочке, будто бы человек человеку брат. К тому же на сказочке такой нескладной, что им приходится хватать людей и отправлять в Сибирь, чтобы заставить в нее поверить. Чтобы заставить людей поверить в это их так называемое братство, им приходится все время проверять, о чем они там, такие-сякие-непослушные, думают, а ежели что не так – расстреливать. А тем временем, что в Америке, что в Европе, коммунисты продолжают бормотать все ту же сказочку, даже теперь, когда сами знают, что там на самом деле творится. Конечно, первое время не понимаешь. Хотя чего тут понимать-то? Что такое род человеческий, ты понимаешь. А значит, все понимаешь. Понимаешь, что эта сказочка – вещь совершенно невозможная. Если ты еще очень молодой человек – ну ладно, хорошо, о'кей. Двадцать, двадцать один, двадцать два – о'кей. Но потом-то! Как человек даже самых средних умственных способностей может эту чепуху, эту сказочку про коммунизм, взять и скушать – убей меня не пойму. «А вот мы возьмем и сделаем, и так будет чудесно!..» Но ведь знаем же мы, что такое наш брат человек, – или нет? Он дерьмо. И насчет любого нашего приятеля тоже знаем, правда же? – он полудерьмо. Да и все мы полудерьмо. Так что же может получиться чудесного? Не цинизм, даже не скептицизм, а простая наблюдательность говорит нам: нет, такое невозможно.
Хочешь, приходи в мою капиталистическую мастерскую да посмотри, как делают матрасы по-капиталистически. Хочешь? Зайдешь, поговоришь с настоящими рабочими ребятами. Этот дядя – радиозвезда. Все, что ты слышишь, ты слышишь не от рабочего, а от радиозвезды. Да ладно тебе, Айра, ты звезда, вроде Джека Бенни, ну хрена ли ты понимаешь в жизни рабочего? Вот пусть пацан придет на мою фабрику да посмотрит, как мы делаем матрас, увидит, какие принимаются предосторожности, увидит, как мне приходится следить за каждой операцией, за каждым их шагом, чтобы этот матрас мне не запороли в хлам. Он увидит, что значит быть зловредным собственником средств производства. А значит это – вкалывать двадцать четыре часа в сутки, бегать, носиться, ноги по самую жопу снашивать. Рабочие в пять часов домой идут, а я – нет. Я там каждый день до полуночи просиживаю. Прихожу домой, а спать не могу, потому что полная башка бухгалтерии, а утром в шесть часов я опять тут как тут – пора мастерскую открывать. Не слушай его, пацан, не дай ему нашпиговать тебя коммунистическими идеями. Брехня все это. Делай деньги. Деньги – это не брехня. Деньги – это демократический способ как-то пронять этот мир. Делай деньги, а уж потом, ежели в заду свербить не перестанет, – потом давай, гни свою линию насчет всеобщего братства».
Айра откинулся в кресле, сцепив пальцы огромных рук на затылке, и с нескрываемым презрением сказал (нарочно обращаясь не к хозяину, а ко мне, как бы презрительно его игнорируя): «Знаешь, есть одно очень-очень приятное чувство. Может быть, самое приятное в мире. Знаешь какое? Это когда ты не боишься. Этот торгаш, этот продажный шмендрик,[17]17
Шмендрик – глупый, никчемный человек (идиш).
[Закрыть] у которого мы сейчас в гостях, – знаешь, в чем его проблема? Он боится. Вот такая вот с ним простенькая ерундовина. На Второй мировой войне Эрвин Гольдштейн не боялся. Но теперь война кончилась, и Эрвин Гольдштейн боится жены, боится тестя, боится налогового инспектора, он всего боится. Ага, увидел капиталистическую магазинную витрину, и сразу глаза квадратные: ой, хочу, хочу, хочу, и давай! – хвать, хвать, и то, и это, приобретай, владей, копи, и тут конец его убеждениям и начало боязни. У меня нет ничего такого, с чем я бы не мог расстаться. Врубаешься? Из всего, что на меня свалилось, нет ничего такого, к чему бы я настолько прикипел, во что настолько влип бы, насколько влипает торгаш. То, что я, выйдя из жалкой хибарки моего отца за Фабричной заставой, стал знаменитым Железным Рином, то, что Айра Рингольд, имея за плечами шесть классов образования, работает с такими людьми, с которыми работаю я, и вхож к таким людям, к которым вхож я, и живет так, как живу я, полноправный член привилегированного класса, то есть как сыр в масле катаясь… – все это так невероятно, что в одночасье все потерять не показалось бы мне слишком странным. Врубаешься? Ты врубаешься или нет? Я могу уехать обратно на Средний Запад. Могу работать в шахте. И, если придется, буду работать в шахте. Что угодно, только не превратиться в кролика, как этот малый. Значит, вот во что ты превратился в политическом плане, – сказал он, глянув наконец на Гольдштейна. – Ты не человек теперь, ты кролик, мелкий грызун».
«Эх, Железный! Как в Иране из тебя говно перло, так и до сих пор». Потом, обращаясь снова ко мне (я был у них как рупор, чтобы докричаться друг до друга, или как униформист, которого гоняет по арене коверный, или даже как запал гранаты), Гольдштейн сказал: «Что за чушь он несет, это же слушать невозможно! Его нельзя принимать всерьез. Это клоун! Он же не может думать. И никогда не мог. Ничего не знает, ничего не видит, ничему не учится. Просто подарок для коммунистов – кукла, которой можно манипулировать. Болван, глупее которого не рождала земля». Потом, повернувшись к Айре, он проговорил: «Вон из моего дома, пустоголовый коммунистический мудак!»
У меня и так уже в груди отчаянно бухало, да тут еще я увидел в руке у Гольдштейна пистолет, который он вытащил из ящика кухонного стола – из того ящика, что был как раз за ним, где столовое серебро. Так близко я никогда прежде пистолета не видел – ну, разве что у полицейского в кобуре, где он не несет угрозы. Дело не в том, что Гольдштейн был маленьким, – нет, не потому пистолет выглядел огромным. Он был огромен, неправдоподобно огромен, черен, блестящ и по-машинному красив; он кричал и пророчествовал.
При том, что Гольдштейн, приставив пистолет Айре ко лбу, поднялся с кресла, он, даже встав во весь рост, едва возвышался над сидящим Айрой.
«Я боюсь тебя, Айра, – говорил ему Гольдштейн. – Всегда боялся. Ты дикий, Айра. Я не собираюсь дожидаться, чтобы ты сделал со мной то, что сделал с Баттсом. Помнишь Баттса? Малыша Баттса вспомнил? Вставай и проваливай, Железный. И мальца тоже, йосселе[18]18
Йосселе – сыночек (иврит).
[Закрыть] своего забирай. А что, йосселе, неужто Железный про Баттса тебе не рассказывал? – Хозяин бросил взгляд в мою сторону. – Он чуть не убил Баттса. Утопить пытался. Выволок Баттса из столовой… да как же ты не рассказал-то ребенку, Айра, про твои подвиги в Иране, про твои дикие вспышки, про дурдом, который ты там устраивал? Шибздик весом в пятьдесят кило кидается на Железного с ножиком из столового набора – ну прям такое опасное оружие – жуть! – а Железный его поднял за шкирку, вынес из столовой, притащил на причал и, взявши за ноги, головой вниз над водой держит, приговаривает: «Поплавай, козлик, охолони». Баттс кричит: «Не надо, нет, я не умею!», а Железный ему: «Да быть не может» – и отпускает. Вниз головой, да вдоль причальной стенки прямо в Шатт-эль-Араб. А река там глубиной в десять метров. Баттс камнем под воду. Тут Айра поворачивается и начинает орать уже на нас: «К воде не подходить! Убирайтесь! Не сметь помогать подонку!» – «Он же утонет, Железный». – «Вот и пускай. Стоять! Я знаю, что делаю! Пускай на дне поваляется!» Кто-то прыгает в воду, пытается ухватить Баттса, и тогда Айра прыгает за ним, прямо на него прыгает, и по башке его, и по морде, и пальцами в глаза, и топит, топит еще и этого. Неужто ты не рассказывал пацану про Баттса? Как же так? А про Гарвича – тоже нет? А про Солака? А про Бекера? Вставай. Вставай и убирайся, ты, спятивший маньяк-убийца хренов».
Но Айра не шевельнулся. Двигались одни глаза. Они у него сделались как птицы, готовые вылететь из своих гнезд. Туда-сюда дергались, моргали – я такого раньше никогда не видывал, – тогда как туловище по всей его непомерной длине словно окостенело, сделалось жестким и таким же жутким, как бегающие глаза.
«Так не пойдет, Эрвин, – в конце концов выговорил он. – С пистолетом ты меня не выставишь. Давай, жми на курок, а нет – зови полицию».
Даже не скажешь, который из них был страшнее. Почему Айра не делает того, что хочет от него Гольдштейн, – почему нам обоим не встать, не уйти? Кто хуже спятил – матрасный фабрикант с заряженным пистолетом или этот великан: еще и дразнит, дескать, ну! давай! стреляй! Что вообще происходит? Нью-Джерси, Мейпл-вуд, светит солнышко, в кухне уют, сидели себе, попивали из горлышка «Ройал Краун». Все трое евреи. Айра всего-то и хотел – проведать старого армейского дружка. Что с ними с обоими такое?
Только когда меня всего начало трясти, Айру, видимо, отпустили обуревавшие его контрконструктивные мысли – во всяком случае, он перестал выглядеть полным уродом. Увидев напротив себя мои лязгающие сами по себе зубы и неудержимо сами по себе трясущиеся руки, он пришел в себя и медленно встал с кресла. Поднял руки над головой, как это показывают в кино, когда с криком «Ограбление!» в банк врываются налетчики.
«Ладно, Натан, отбой. Это бывает: столкнулись лбами во тьме невежества». Однако, несмотря на непринужденный тон, каким он сумел произнести это, несмотря на капитуляцию, которую все же означали его преувеличенно, с насмешкой вскинутые руки, из кухни на крыльцо и дальше всю дорогу до машины Гольдштейн шел за нами по пятам, держа пистолет чуть не вплотную к голове Айры.
В каком-то трансе Айра вел машину по тихим улицам Мейплвуда мимо чистеньких частных домиков, где жили те уехавшие из Ньюарка евреи, кому не так давно посчастливилось обрести первый в жизни собственный дом с первой в жизни зеленой лужайкой и первым в жизни членством в загородном клубе. Казалось бы, не того склада люди и не того сорта квартал, где можно невзначай наткнуться в ящике кухонного стола на пистолет.
Лишь когда мы пересекли границу в Ирвингтоне и оказались на шоссе в Ньюарк, Айра повернул голову и спросил:
– Ты как – о 'кей?
Какое там «о кей». Испуг прошел, но я теперь испытывал стыд и унижение. Кашлянув, чтобы случайно не подвел голос, я объявил:
– Я, эт-самое… в штаны написал.
– Серьезно?
– Я думал, он убьет вас.
– Ты молодец. Храбро держался. Не бери в голову.
– Пока мы по дорожке шли к машине, я ссал в штаны! – выкрикнул я в сердцах. – Зззарраза какая! Чччерт!
– Это моя вина. Все, что случилось. Подставил тебя. А этот-то – каков? Ствол достал, а? Ствол!
– Зачем он так?
– Баттс не утонул, – невпопад сказал Айра. – Никто не утонул. Никто и не должен был утонуть.
– Но вы туда его правда сбросили?
– А как же. Конечно, сбросил. Этот придурок назвал меня жидовской мордой. Да я тебе рассказывал.
– Я помню. – Однако то, что он рассказывал, не содержало всех подробностей. – Это когда они потом вас в темноте подстерегли. И побили.
– М-да. Уж побили меня, это точно. После того, как вытащили сукина сына из воды.
Он довез меня до подъезда, и мы простились; по счастью, дома никого не было, и я без помех бросил мокрую одежду в корзину, принял душ и успокоился. Под душем я опять начал дрожать, впрочем, не столько при воспоминании о том, как я сидел за кухонным столом, когда Гольдштейн приставил пистолет к голове Айры, у которого глаза сделались такие, будто они, как птицы, вот-вот вылетят из гнезд, сколько из-за посетившей меня мысли: «Что за бред? Заряженный пистолет вместе с ножами и вилками? В Мейплвуде, Нью-Джерси! Зачем пистолет? Затем, что Гарвич, вот зачем! Затем, что Солак! Затем, что Бекер!»
Вопросы, которые я не решался задавать ему в машине, я вслух под душем начал задавать сам себе. «Что же ты сделал с ними, Айра?»
В отличие от матери отец не видел в Айре средства моего социального возвышения, наши с Айрой отношения не переставали беспокоить и смущать его: что этому взрослому мужчине от мальчишки надо? Подозревал, что происходит что-то непонятное, если не впрямую зловещее.
– Куда вы с ним всё ходите? – спрашивал меня отец.
Однажды вечером, когда он застал меня за моим письменным столом с газетой «Дейли уоркер», его подозрительность вылилась в бурную сцену.
– Я не хочу видеть в доме газет Херста, – сказал мне отец, – и я не хочу видеть здесь эту газету. Одна есть отражение другой. Если этот человек дает тебе «Дейли уоркер»…
– Какой человек?
– Твой приятель, актер. Puн, как он себя называет.
– Он не дает мне «Дейли уоркер». Я купил газету в городе. Сам купил. Это что – запрещено законом?
– А кто надоумил тебя ее купить? Он сказал, чтобы ты пошел и купил?
– Ничего он мне такого никогда не говорит.
– Надеюсь, что это правда.
– Я не вру! Это так и есть!
Это и в самом деле было так. Я вспомнил, как Айра сказал мне однажды, что в «Дейли уоркер» есть колонка, которую ведет Говард Фаст, но купил я ее по собственному почину, в киоске напротив кинотеатра Проктора на Маркет-стрит, – купил якобы почитать Фаста, но также и из обычного неуемного любопытства.
– Ты у меня ее конфискуешь? – спросил я отца.
– Вот еще, разбежался. Стану я делать тебя мучеником Первой поправки! Надеюсь только, что, когда прочитаешь ее, ознакомишься и подумаешь над ней, у тебя хватит ума назвать ее лживой бумажонкой и самому у себя конфисковать.
Учебный год подходил к концу, и тут Айра пригласил меня летом провести с ним недельку в его хижине, но отец сказал, что никуда я не поеду, если Айра сперва не переговорит с ним.
– Но почему? – допытывался я.
– Хочу задать ему пару вопросов.
– А ты у нас что – сенатская Комиссия по антиамериканской деятельности? Почему ты делаешь из этого такую большую проблему?
– Потому что в моих глазах ты большая проблема. Дай-ка мне его телефон в Нью-Йорке.
– Еще не хватало! Какие вопросы? О чем?
– Ты, как всякий американец, имеешь свое право покупать и читать «Дейли уоркер». А я, как всякий американец, имею мое право спрашивать кого угодно и о чем угодно. Он не захочет отвечать – он имеет его право!
– То есть ему тогда что – ссылаться на Пятую поправку?
– Еще не хватало! Достаточно сказать мне: да иди ты, мол, в болото! Но это я тебе объясняю, как подобные проблемы решаются в США. Я не говорю, что у тебя такое сработает в Советском Союзе, когда в их тайную полицию попадешь, зато здесь обычно это все, что требуется, чтобы сограждане оставили тебя в покое по поводу твоих политических убеждений.
– Так они тебя и оставили в покое! – хмыкнул я. – Или конгрессмен Диас тебя в покое оставит? Или конгрессмен Рэнкин? Ты бы это им объяснил!
Пришлось сесть с ним рядом (он велел мне остаться и послушать) и таки послушать, как он по телефону попросил Айру заехать к нему на работу поговорить. Железный Рин и Эва Фрейм были само величие; никогда внешний мир не посылал шехины[19]19
Шехина – божественное присутствие (иврит).
[Закрыть] столь пламенной в скромное жилище Цукерманов, хотя по тону отца можно было понять, что его это ничуть не греет.
– Ну как, он согласился? – спросил я, когда отец повесил трубку.
– Сказал, что придет, если и Натан тоже будет присутствовать. Будешь присутствовать.
– Здрасьте! Ни за что.
– Вот тебе и «здрасьте», – нахмурился отец. – Будешь как миленький, если хочешь, чтобы я хоть на миг, хоть одной извилиной допустил мысль о возможности этой твоей поездки. Что тебя пугает – открытая борьба идей? Это будет демократия в действии – в следующую среду, после школы, в три тридцать у меня на работе. И не вздумай опаздывать.
Что меня пугало? Гнев отца. Крутой нрав Айры. Что, если из-за того, как отец станет нападать на него, Айра применит силу, схватит его, как тогда Баттса, отнесет в Уикваик-парк к озеру и сбросит в воду? Вдруг драться станут? Айра ведь кулаком убить может…
Педикюрный кабинет моего отца располагался на первом этаже небольшого, на три квартиры, жилого дома на Готорн-авеню, в том ее конце, что ближе к центру города. Дом скромный, с виду неказистый и стоял там, где наш довольно средненький райончик переходил в изрядно-таки уже обшарпанные кварталы. Я пришел рано, меня мутило, душа была не на месте. Айра прибыл точно в три тридцать, и вид у него был серьезный, но вовсе не бешеный (пока что). Отец пригласил его садиться.
– Мистер Рингольд, мой сын Натан не уличный мальчишка. Он у меня первенец, старший сын, прекрасно учится и, кажется, развит не по годам. Мы им очень гордимся. Я стараюсь предоставлять ему свободу как можно большую. Стараюсь не стоять на пути его жизненных устремлений, как у отцов иногда получается. Но, честно говоря, по-моему, на сей раз он выходит за все рамки, так что я встревожен. Я не хочу, чтобы с ним что-нибудь случилось. Если с мальчиком что-то случится…
Тут голос отца охрип, и он внезапно смолк. Я был в ужасе – вдруг Айра станет над ним смеяться, дразнить его, как он дразнил Гольдштейна. Я понял, что отец так осекся не из-за меня одного, – он еще и двух своих младших братьев вспомнил: им первым из всего многочисленного бедного семейства назначено было идти в настоящий колледж, учиться на настоящих врачей, но оба умерли от болезней, не дожив и до двадцати. Их студийные фотопортреты в одинаковых рамках стояли у нас дома в столовой на буфете. Надо было объяснить, рассказать Айре про Сэма и Сидни, подумал я.
– У меня к вам один насущный вопрос, мистер Рингольд, хотя мне и не хочется задавать его. Вообще-то я считаю, что чужие верования – религиозные, политические, да какие угодно – это не мое дело. То есть я тайну вашей частной жизни уважаю. И могу вас заверить: ни одно слово не выйдет за стены этой комнаты. Но я хочу знать: коммунист вы или нет – и хочу, чтобы мой сын тоже это знал. Что у вас в прошлом, мне не важно. Мне важно, что сейчас. Должен признаться вам, что когда-то – это еще до Рузвельта было – я чувствовал такое отвращение к тому, что в этой стране происходит, к антисемитизму и предубеждению против негров, к тому, как республиканцы издевались над теми, кому в этой стране не повезло, к той алчности, с которой большой бизнес выжимал последние соки из народа этой страны, что однажды – дело было здесь, в Ньюарке, и сына мое признание, наверное, шокирует: он-то думал, что отец, всю жизнь голосовавший за демократов, такой правый, такой правый, аж правее Франко, – но однажды… Дело прошлое, Натан, – сказал он, глядя теперь на меня, – а тогда у них комитет был… Знаешь, где отель «Роберт Трит»? По улице вон туда идти. Потом ступеньки вверх. Парк-лейн тридцать восемь. Там помещения под офисы сдавали. И один из них был комитетом Коммунистической партии. Я об этом даже матери твоей никогда не говорил. Она бы меня убила. Тогда мы еще только встречались, это году, наверное, в тридцатом было. И вот пришел однажды момент, когда я очень рассердился. Что-то тогда случилось, я даже не помню сейчас, что именно, но что-то я такое вычитал в газетах и, помню, пошел туда, а там – никого. И дверь на замке. Они обедать все ушли. Я погремел ручкой двери. Вот там я был на волосок от Коммунистической партии. Стучу в дверь, шумлю, пустите, мол. Вот ведь – не знал ты этого, сыночек!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































