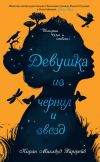Текст книги "Женский портрет"

Автор книги: Генри Джеймс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Есть в Париже несколько мест, нераздельно связанных в моей памяти со встречами, в которых участвовал Тургенев, и, всякий раз проходя мимо них, я вновь слышу, о чем он тогда говорил. Вот кафе на Avenue de l'Opèra, справа по выходу с бульвара – новое, роскошное заведение с неимоверно мягкими диванчиками – где мы однажды просидели с ним за более чем скромным завтраком чуть ли не до вечера и где, беседуя со мной, он высказал столько полезного и интересного, что я и сейчас с нежностью перебираю в мыслях все подробности этого свидания. В воображении встает декабрьский день, по-парижски сырой и серый; в его сумрачном свете зал кажется еще наряднее и радушнее; смеркается, зажигают лампы; за столиками появляются завсегдатаи – кто выпить абсента, кто сыграть партию в домино, – а мы все сидим и сидим за утренней трапезой. Тургенев говорит почти исключительно о России, о нигилистах, о попадающихся среди них замечательных личностях, о странных своих посетителях, о мрачных перспективах своей отчизны. Когда он бывал в ударе, то умел как никто другой дать толчок воображению слушателей. Меня, во всяком случае, его слова в такие минуты необыкновенно волновали и вдохновляли, и я расставался с ним в состоянии «подспудного» воодушевления, с чувством, что получил мощный заряд бесценных суждений и мыслей; при таком расположении духа шагаешь, помахивая тросточкой, легко перепрыгиваешь канавы, неизвестно почему останавливаешься, словно пораженный чем-то, и вперяешь взгляд в витрину, в которой на самом деле ровным счетом ничего не видишь. Помню другое свидание – в ресторанчике на одном из углов небольшой площади перед Opйra Comique, где нас собралось четверо, включая Ивана Сергеича; двое других – господин и дама – тоже были русские,[238]238
Речь идет о русском художнике Павле Васильевиче Жуковском (1845–1912), сыне поэта В. А. Жуковского, и княгине М. С. Урусовой, с которыми Джеймс познакомился через Тургенева. С П. В. Жуковским Джеймс на протяжении многих лет сохранял очень дружеские отношения.
[Закрыть] и последняя соединяла в себе все очарование своей национальности с достоинствами своего пола – сочетание поистине неотразимое. Заведение это «открыл» Тургенев – в том смысле, что именно он предложил нам воспользоваться его услугами, – помню, однако, что мы не поздравили Ивана Сергеича с его открытием: обед на низких антресолях оказался много хуже, чем можно было ожидать, зато застольная беседа превзошла все ожидания. На этот раз Тургенев говорил не о нигилизме, а о других более приятных жизненных явлениях, и я не помню, что бы он когда-либо держался более непринужденно и обаятельно. Один из сотрапезников – русский господин, – имевший привычку произносить французское adorable,[239]239
восхитительный (фр.).
[Закрыть] то и дело слетавшее у него с языка, на особый манер, впоследствии, вспоминая о нашем обеде, без конца награждал Тургенева этим эпитетом, выразительно растягивая ударное «а». Не знаю, право, зачем я вхожу в такие подробности – пусть оправданием мне послужит свойственное. каждому из нас стремление сохранить от дружеских отношений, которым уже нет возврата, хотя бы крупицу их человеческого тепла, стремление сделать зарубку, способную воскресить в памяти счастливые минуты.
Всего интереснее были рассказы Тургенева о его собственной литературной работе, о том, как он пишет.[240]240
Об одной из таких бесед Джеймс сообщал своему другу Т. С. Перри в письме от 3 февраля 1876 г.: «На днях снова был у Тургенева (он написал мне очаровательную записку – я вложу ее, если найду, для Элис), в которой сообщал, что все еще болен, и просил меня зайти. Я пошел и провел с ним весь, весьма дождливый, день Вот уж кто amour d'homme [милейший человек (фр.).]. Говорил он, больше чем когда-либо прежде, о том, как пишет, и сказал, что никогда ничего и никого не придумывает. В его рассказах все начинается с какого-нибудь наблюденного им характера, хотя часто этот характер, давший толчок рассказу, может затем оказаться второстепенным персонажем. Более того, он сказал, что никогда не вкладывает ничего придуманного ни в героев, ни в обстоятельства. По его мнению весь интерес, вся поэзия, вся красота, все своеобычное и т. д. уже есть в тех людях и обстоятельствах – в тех, кого он наблюдал, – причем в значительно большей мере, нежели он может придумать, и что (качество, в котором он видит ограниченность своего таланта) черты слишком raffinè [утонченные (фр.).]. слова и выражения слишком яркие или слишком закругленные вызывают у него инстинктивное mèfiance [недоверие (фр.). ]; ему кажется, что они не могут быть верными, – а то, к чему он в конечном итоге стремится, – это верно передать индивидуальный тип человека. Короче, он в общем рассказал мне, как протекает его творческий процесс, и сделал это бесподобно тонко и совершенно откровенно…» («Henry James Letters», v. II, p. 26).
[Закрыть] То, что мне довелось слышать от него об этом, не уступало по значению ни замечательным результатам его творчества, ни трудной цели, которое оно преследовало, – показать жизнь такой, какая она есть. В основе произведения лежала не фабула – о ней он думал в последнюю очередь, – а изображение характеров. Вначале перед ним возникал персонаж или группа персонажей – личностей, которых ему хотелось увидеть в действии, поскольку он полагал, что действия этих лиц будут своеобразны и интересны. Они возникали в его воображении рельефные, исполненные жизни, и ему не терпелось как можно глубже постичь и показать их присущие им свойства. Прежде всего необходимо было уяснить себе, что же в конце концов ему о них известно; с этой целью он составлял своего рода биографию каждого персонажа, внося туда все, что они делали и что с ними происходило до того момента, с которого начиналось собственно повествование. Он, как говорят французы, заводил на них dossier,[241]241
досье (фр.).
[Закрыть] примерно такое же, какие заводят в полиции на знаменитых преступников. Собрав весь материал, он мог приступить к собственно рассказу, иными словами, он задавал себе вопрос: что они у меня будут делать? У Тургенева герои всегда делают именно то, что наиболее полно выявляет их натуру, но, как отмечал он сам, недостаток его метода – в чем его не раз упрекали – это отсутствие «архитектоники», т. е. искусного построения. Владеть не только отменным строительным материалом, но и искусством строить, архитектоникой, как владели ею Вальтер Скотт, как Бальзак, – несомненно, великое дело. Но, если читаешь Тургенева, зная, как рождались, вернее, как создавались его рассказы, то видишь его художественный метод буквально в каждой строке. Сюжет, в обычном понимании слова, – вымышленная цепь событий, долженствующая, словно уордсвортовский призрак, «поражать и захватывать»[242]242
ссылка на стихотворение английского поэта Уильяма Уордсворта (1770–1850) – «Прелестный призрак» («She was a phantom of delight», 1804), строфа 1, строка 10.
[Закрыть] – почти отсутствует. Все сводится к отношениям небольшой группы лиц – отношениям, которые складываются не как итог заранее обдуманного плана, а как неизбежное следствие характеров этих персонажей. Произведения искусства создаются различными путями; писались и впредь будут писаться рассказы, даже превосходные, в которых движение сюжета подобно танцу: одно па сменяется другим – и чем каждое замысловатее и стремительнее, тем, разумеется, лучше, – образуя некую, составленную распорядителем, фигуру. Фигура эта, надо полагать, всегда будет пользоваться успехом у многих читателей, так как, будучи достаточно похожей на жизнь, она все-таки не слишком на нее похожа. Во Франции молодые таланты, защищая то или иное из этих двух противоположных направлений, имеющих многочисленных сторонников, готовы перегрызть друг другу глотку. У нас, в Америке и Англии, еще не достигнут тот уровень, когда подобные проблемы вызывают кипение страстей; мы вообще еще не достигли уровня, когда они могут так сильно волновать или даже, честно говоря, быть в достаточной мере поняты. Мы еще не доросли до того, чтобы обсуждать вопрос, должен ли роман быть извлечением из жизни или картонным домиком, выстроенным из открыток с видами, мы еще не решили, можно ли вообще изобразить жизнь. В этом отношении мы явно проявляем крайнюю робость – и скорее стремимся воздвигать барьеры, нежели их брать. У нас само размышление о возможности выбора между двумя решениями вызывает у большинства саркастическую улыбку. И все же отдельные личности могут дерзнуть и признаться – возможно, даже оставшись безнаказанными, – что тургеневский метод представляется им наиболее плодотворным. Этот метод тем уже хорош, что, пользуясь им, писатель в подходе к любому жизненному явлению, начинает, так сказать, с давно прошедшего. Он позволяет рассказать очень многое о людях – мужчинах и женщинах. Разумеется, он вряд ли придется по вкусу тем многочисленным читателям, которые, выслушав наши доводы, ответят: «Вот одолжили! А зачем нам ваши мужчины и женщины? Была бы увлекательная история!»
Но при всем том, история Елены очень увлекательна, и Лизы тоже, и «Новь» тоже увлекательная история. Я не так давно перечитал романы и рассказы Тургенева и вновь поразился тому, как поэзия сочетается у него с правдой жизни. Говоря о Тургеневе, нельзя забывать, что наблюдатель и поэт слиты в нем нераздельно. Поэтическое чувство, чрезвычайно своеобразное и сильное, не покидало его никогда. Им навеяны рассказы, написанные Тургеневым в последние годы жизни, после романа «Новь», – рассказы, где столько фантастического и потустороннего. Им проникнуты многие его раздумья, видения, сентенции, вошедшие в «Seni-lia». В мои намерения не входит разбирать здесь сочинения Тургенева – все, что мог и хотел, я сказал о них несколько лет назад, однако позволю себе заметить, что, перечитывая эти сочинения, я, как и прежде, нашел в них два некогда упомянутых мною качества: богатство содержания и всепроникающую грусть. Они словно сама жизнь, а не искусная ее обработка, не réchauffé[243]243
подогретое блюдо (фр.).
[Закрыть] жизни. Однажды, помнится, говоря об Омэ – провинциальном аптекаре из «Мадам Бовари», педанте, щеголявшем «просвещенными мнениями», – Тургенев заметил: исключительная сила образа этого маленького нормандца в том, что он одновременно и индивидуальность, со всеми ее особенностями, и тип. В этом же сочетании кроется исключительная сила тургеневского изображения характеров: его герои неповторимо воплощают в себе единичное, но в то же время столь же отчетливо и общее. Высказывания Тургенева, подобные замечанию об Омэ, заставляют меня задуматься над тем, почему он так высоко ставил Диккенса, у которого это как раз было слабым местом. Если Диккенсу не суждено остаться в веках, то именно потому, что герои его воплощают в себе единичное, но не общее, индивидуальное, но не типичное; потому, что мы не чувствуем их неразрывной связи с остальным человечеством, не ощущаем принадлежности части к тому целому, из которого романист и драматург ваяют свои фигуры. Я все собирался, но так и не удосужился еще раз навести Тургенева на разговор о Диккенсе, расспросить, что он в нем находит. Его восхищение, полагаю, было вызвано тем, что Диккенс – а на это он был мастер – развлекал Ивана Сергеича. Тут пленяла сама сложность изваяния. Я уже упоминал о Флобере и возвращаюсь к разговору о нем, чтобы добавить, что в дружбе, которая связывала его и Тургенева, было что-то бесконечно трогательное. К чести Флобера надо сказать, что он очень ценил Ивана Тургенева. Между ними существовало немало общего. Оба принадлежали к породе крупных, массивных людей, хотя Тургенев превосходил Флобера ростом; оба отличались предельной правдивостью и искренностью; оба были по натуре склонны к пессимизму. Они питали нежную привязанность друг к другу, но, думается, я не погрешу против истины и такта, если скажу, что со стороны Тургенева к этой привязанности примешивалась еще и доля участия. Что-то во Флобере невольно взывало к подобному чувству. За ним, в целом, значилось больше неудач, нежели удач; огромный запас знаний, огромное усердие, которое он употреблял на шлифовку своих произведений, не приводили к должным результатам. Природа наградила его талантом, но обделила живостью ума, наградила воображением, но обделила фантазией. Его усилия были героическими, но он доводил свои творения до полного блеска, казалось он покрывал их металлическими пластинами, и они, исключая «Мадам Бовари» – безусловно шедевра, – вместо того, чтобы плыть на всех парусах, шли на дно. Им владела страсть к совершенству формы, к некой исключительной многозначности стиля. Он жаждал создавать совершенные фразы, в совершенстве соединенные, плотно пригнанные друг к другу, как звенья кольчуги. На жизнь Флобер глядел только с точки зрения художника, а к своей работе относился с серьезностью, никогда его не покидавшей. Написать безупречную страницу – а в его представлении безупречная страница означало нечто почти недостижимое – только для этого и стоит жить! Он пробовал вновь и вновь, и уже приближался к цели, и ему даже не раз удавалось коснуться ее, потому что «Мадам Бовари» останется в веках. Но его гению не хватало сердечного жара. Флобер был холоден, хотя отдал бы все на свете за способность гореть! В его романах нет ничего похожего на страсть Елены к Инсарову, на чистоту Лизы, на отчаяние стариков Базаровых, на скрытую рану Татьяны, а между тем он старался – пуская в ход весь свой богатейший словарь – затронуть струны жалости. Но что-то в его душе «давало осечку», не исторгало нужного звука. Иных чувств у него было сверх меры, других – недостаточно. Так или иначе, этот изъян в устройстве, позволю себе сказать, душевного инструмента, вызывал у тех, кто знал Флобера, особую симпатию к нему. Да, он был могуч и ограничен, но, если угодно, есть что-то человеческое, вернее даже, что-то величественное в сильной натуре, не сумевшей выразить себя до конца. После первого года знакомства с Тургеневым, мне уже не доводилось так часто встречаться с ним. В Париже я бывал сравнительно редко, и не всегда заставал там Тургенева. Но я старался не упускать возможности увидеться с ним, и судьба, большей частью, мне в этом благоприятствовала. Два или три раза он приезжал в Лондон, но на досадно короткий срок. Отправляясь поохотиться в Кембриджское графство, он останавливался в Лондоне и на пути туда и на возвратном пути. Ему нравились англичане, хотя я не убежден, что ему нравилась их столица, где он провел мрачную зиму 1870 – 71 г. Я помню кое-какие его впечатления той поры, особенно, рассказ о визите к некоей «епископше», окруженной выводком дочерей, и описания завтраков, которыми его кормили в меблированных комнатах, где он поселился. После 1876 г. я чаще видел его больным. Его терзали приступы подагры, и порою он не находил себе места от боли, но говорил он о своих страданиях пленительно – иного слова я не подберу, – как и обо всем прочем. Привычка наблюдать так укоренилась в нем, что даже в своих мучительных ощущениях он подмечал разного рода любопытные черты, находил для них аналогии и очень тонко анализировал. Несколько раз я посещал его в Буживале, городке, расположенном вверх по Сене, где он выстроил себе очень просторное и красивое, но, к сожалению, темноватое внутри шале, рядом с виллой той семьи, которой посвятил свою жизнь. Это прелестное место; оба дома стоят посредине длинного пологого склона, спускающегося к реке и увенчанного лесистым гребнем. В некотором отдалении слева, высоко над окаймленным лесами горизонтом, тянется романтический виадук Марли. Чудесное имение! Там, в Буживале, я и видел его в последний раз, в ноябре 1882 г. Он уже давно страдал недугом, который проявлялся в странных, нестерпимых болях. Но в мой приезд он чувствовал себя лучше и появилась надежда. Она не оправдалась. Ему снова стало хуже и последующие месяцы были ужасны. Зачем такой прекрасный светлый ум должен был затуманиваться, зачем должен был искусственно быть помрачен! Ему бы до последней минуты хранить свою способность внимать велениям судьбы и участвовать в ее таинствах. Впрочем в тот день, когда я навестил Тургенева, он, как говорят в Лондоне, был в отличной форме и произвел на меня почти радужное впечатление. Ему предстояла поездка в Париж, а так как железной дороги он не переносил, был подан экипаж, и он предложил мне ехать вместе с ним. Полтора часа он говорил без устали – и говорил как никогда блестяще. Когда мы добрались до Парижа, я вышел на одном из внешних бульваров, так как направлялся в другую сторону; стоя у окна кареты, я простился с Иваном Сергеичем и больше никогда его не видел. Поблизости, в прохладном ноябрьском воздухе, под оголенными деревцами бульвара, гудело нечто вроде ярмарки, и из-за ширм балагана, где шло кукольное представление, доносился гнусавый голос Полишинеля. Я начинаю жалеть, что, перечисляя эти подробности, которыми, боюсь, чрезмерно увлекаюсь, я невольно слишком много говорю о Париже: у читателя может создаться впечатление, будто Иван Тургенев офранцузился. Но это отнюдь не так: жизнь в столице Франции была для него не столько необходимостью, сколько случайностью. Париж оказывал на Тургенева немалое воздействие в одних отношениях, но никакого – в других, а благодаря замечательной русской привычке постоянно освежать ум и память, он всегда держал окна открытыми на широкие просторы, раскинувшиеся далеко за парижскую banlieue.[244]244
городская черта (фр.).
[Закрыть] Я рассказал о Тургеневе только то, что вынес из личного знакомства с ним, и, увы, у меня почти не осталось места, чтобы коснуться вещей, заполнявших его существование куда больше, чем соображения, как строить рассказ, – о его надеждах и опасениях, связанных с родной страной. Он писал романы и драмы, но величайшей драмой его собственной жизни была борьба за лучшее будущее России. В этой драме он играл значительную роль, и пышный погребальный обряд, которым почтили его – простого и скромного, – провожая в могилу, достаточно свидетельствует о признании соотечественников. Его похороны, как ни старались втиснуть их в официальные рамки, вылились в грандиозную «манифестацию». И все же, читая отчеты о его погребении, я чувствовал какой-то холод на душе, и почести, которых он удостоился, не вызывали во мне должного одобрения. Вся эта торжественность и великолепие словно вырывают его из круга близких сердцу воспоминаний, взаимной приязни, вознося на величественный пьедестал всенародной славы. И вот уже те, кто знал его и любил, должны обращать к нему свои слова прощания через этот барьер, препятствующий дружескому общению. Но тут уже ничего не поделаешь. Он был благороднейший, добрейший, прелестнейший в мире человек; его сердце полнилось любовью к справедливости, но в нем было и все то, из чего создаются великие мира сего.
Иван Тургенев (1818–1883)[245]245
Впервые напечатана как вступительная статья к т. 25 «Библиотеки лучших образцов мировой литературы» («Library of World's Best Literature», v. 25, 1896–1897).
[Закрыть]
Пожалуй, вряд ли найдется другой иноземный писатель, который столь же естественно, как Тургенев, занял бы должное место в «Библиотеке для английских читателей»,[246]246
«Библиотека для английских читателей». – Имеется в виду указанное издание.
[Закрыть] и дело здесь отнюдь не в том, что он согласился или хотя бы в мыслях имел согласиться угождать или приноравливаться к вкусам упомянутых читателей, поступаясь своей исключительной творческой независимостью; напротив, именно в силу исключительного своеобразия своего гения он еще при жизни завоевал признание иностранной публики. В этом отношении он занимает особое положение: более всего прочего освоил с ним западную публику как раз присущий ему русский дух.
Тургенев родился в 1818 г. в Орле, в самом сердце России, а умер в 1883 г. в Буживале близ Парижа; вторую половину жизни он провел в Германии и Франции, чем вызвал у себя на родине неодобрение, часто выпадающее на долю отсутствующих, – расплата за те широкие горизонты или за соблазны, которые им иногда случается открыть по ту сторону рубежа. Тургенев принадлежал к числу крупных помещиков, владельцев обширных земель и многочисленных крепостных; он унаследовал состояние, которое позволяло ему – редкий случай среди писателей – заниматься литературным трудом, не заботясь о заработке, в чем был подобен своему прославленному современнику Толстому, столь отличному от него во всем остальном. Мы можем получить представление о его обстоятельствах, вообразив себе крупного рабовладельца начала века из штата Виргинии или Южной Каролины, сочувствовавшего идеям Севера и ставшего (не столько в силу этого сочувствия, а скорее благодаря своему необыкновенному дару) великим американским романистом – одним из величайших в мире писателей. Родившись в стране, где общественная и политическая жизнь находилась под жесточайшим гнетом, Тургенев в силу сокровенных свойств своей натуры, своего нравственного чувства, вырос свободолюбцем и еще юношей, проучившись несколько лет в немецком университете, по возвращении домой навлек на себя из-за безобидного выступления в печати такую немилость властей, что был сослан – правда! всего лишь в собственное поместье. Возможно, благодаря этому обстоятельству он и собрал материал для произведения, положившего начало его литературной славе: мы имеем в виду «Записки охотника», вышедшие в свет двумя книгами в 1852 г. Этот замечательный сборник сцен из обыденной деревенской жизни при прежнем крепостном укладе часто ставят в такую же связь с манифестом Александра II об освобождении крестьян, в какую ставят знаменитый роман Бичер Стоу с отменой рабства в южных штатах. Во всяком случае, несомненно, что, подобно «Хижине дяди Тома», эти сельские картины возвестили: час пробил! – с одной только разницей: они не тотчас вызвали бурю, ибо обвинение было предъявлено со столь тонким искусством, что его распознали не сразу, – с искусством, всколыхнувшим не поверхность, а глубины.
Тем не менее, автор довольно быстро приобрел такое влияние, что пользоваться им было безопаснее на расстоянии; он отправился путешествовать, жил за границей, в начале шестидесятых годов поселился в Германии, приобрел недвижимость в Баден-Бадене и провел там несколько лет – последние годы процветания этого города, насильственно прерванного Франко-прусской войной. После окончания войны Тургенев связал, можно сказать, почти всю свою жизнь с побежденной страной; он обосновался в Париже и построил себе восхитительный загородный дом вверх по Сене и, если не считать наездов в Россию, провел то в столице Франции, то близ нее остаток своих дней. У него было множество друзей и знакомых среди выдающихся художников и литераторов, он так и не женился, продолжал писать, не торопясь и не гоняясь за числом книг, и за эти годы постепенно приобрел так называемую европейскую известность – в данном случае определение «европейская» обнимает и Соединенные Штаты, где у него нашлись особенно рьяные поклонники.
Меж тем достигло расцвета дарование Толстого, который на десять лет моложе Тургенева, хотя, если быть точным, слава его романов «Война и мир» и «Анна Каренина» разнеслась по свету уже после смерти старшего из этих двух писателей. Будучи уже на смертном одре, Тургенев, собрав последние силы, обратился к Толстому, с которым в течение длительного времени находился в ссоре (о ее причинах здесь говорить не стоит), с письмом, умоляя его не зарывать свой талант и вернуться к литературе, так плачевно, так чудовищно им заброшенной. «Долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре..[247]247
«Долго вам не писал…» – цитируется письмо Тургенева Толстому из Буживаля (см.: И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. Письма, т. XII, кн. 2, с. 180).
[Закрыть] Выздороветь я не могу – и думать об этом нечего. Пишу же Вам, собственно, чтоб сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником – и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!..Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!.. Друг мой, великий писатель русской земли – внемлите моей просьбе!» Эти слова – без сомнения самые трогательные, с какими когда-либо один замечательный художник обращался к другому, – проливают косвенный, или, я даже сказал бы, прямой свет на характер и особенности Тургенева-творца; они об очень многом говорят, и я не могу не пожалеть, что лишен здесь возможности остановиться подробнее на несходстве между этими двумя писателями: мне это помогло бы лучше оттенить портрет Тургенева. Проще всего было бы встать на точку зрения русских, что Толстой понятен только своим соотечественникам, тогда как Тургенев доступен пониманию и зарубежной публики, но это неверно: в Европе и Америке «Война и мир» насчитывает, пожалуй, больше читателей, нежели «Дворянское гнездо», или «Накануне», или «Дым», – факт не столь уж убийственный, как может показаться, для высказанного выше утверждения, что у нас, в западном мире, преимущественно принят автор последних трех произведений. Тургенев в высшей степени является тем, что я назвал бы романистом из романистов и романистом для романистов – писателем, художественное воздействие которого в литературе не только неоценимо, но и неистребимо. Знакомство с Толстым – с безбрежным морем жизни – огромное событие, своего рода потрясение для каждого из нас, и, тем не менее, его имя не связано в нашем представлении с тем непреходящим очарованием художественного метода, с тем чудом искусства, которое светит нам совсем рядом в творениях его предшественника, озаряя наш собственный путь. Толстой – зеркало величиной с огромное озеро, гигантское существо, впрягшееся в свою великую тему – вся человеческая жизнь! – точно слон, который тащит не один экипаж, а целый каретный сарай. Сам он – грандиозен и вызывает восхищение, но не вздумайте следовать его примеру: учеников, которым не дано его слоновой мощи, он может только сбить с дороги и погубить.
Год за годом в течение тридцати лет Тургенев продолжал – с перерывами, с терпеливым упорством и выжиданиями – наносить твердой, наметанной рукой свои отчетливые узоры. Пожалуй, самая замечательная черта его искусства – лаконичность, идеал, от которого он никогда не отступал (хотя, возможно, более всего к нему приближался в тех вещах, где был наименее краток). У него есть шедевры в несколько страниц, его самые совершенные вещи иной раз самые короткие. У Тургенева очень много небольших рассказов, эпизодов, словно выхваченных ножницами Атропы,[248]248
Антропа – в греческой мифологии одна из трех мойр (римск. парок), перерезавшая нить человеческой судьбы.
[Закрыть] но мы пока не располагаем их непосредственным переводом, довольствуясь французскими и немецкими, которые вместо оригинальных текстов (ведь у нас мало кто знает русский) служат источником того немногого, что публиковалось из них по-английски. Что до его романов и «Записок охотника», то благодаря миссис Гарнетт[249]249
Гарнетт Констанция (1862–1946) – переводчица на английский язык русской классики: Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и др. Первый том ее переводов тургеневских романов появился в 1894 г.
[Закрыть] мы располагаем ее тургеневским девятитомником (1897). Мы затрагиваем здесь очень важную, в нашем мнении, черту писательской судьбы Тургенева – тот разительный факт, что он стал близок даже тем, кто лишен удовольствия читать его на родном языке, кто вообще не придает значения вопросу о языке. А между тем, не касаясь внешних особенностей его творений, невозможно, читая Тургенева, не придти к выводу, что в живом воплощении родного языка он, безусловно, принадлежит к тому замечательному типу писателей, творчество которых убеждает нас в важнейшей истине: у большого художника материал и форма едины, они – две нерасторжимые стороны той же медали; словом, Тургенев, – один из тех писателей чей пример наносит сокрушительный удар давнишнему тупому заблуждению, будто содержание и стиль – и в общем эстетическом плане, и в отдельном художественном произведении – не связаны и существуют сами по себе. И, читая Тургенева на чужом ему языке, мы осознаем, что до нас не доходит звук его голоса, его интонации.
И тем не менее, перед нами Тургенев – об этом свидетельствует хотя бы то, что мы все же так остро ощущаем его неповторимое обаяние, что в обращенной к нам маске, пусть даже лишенной характерного выражения, так много красоты. Красота эта (коль скоро требуется дать ей определение) в умении поэтически изобразить будничное. В его поле зрения – мир характеров и чувств, мир отношений, выдвигаемых жизнью ежеминутно и повсеместно; но, как правило, он редко касается чудесного, творимого случайностью, – тех минут и мест, что лежат за пределами времени и пространства; его сфера – область страстей и побуждений, обычное, неизбежное, сокровенное – сокровенное счастье и горе. Ни одна из тем, которые он избирал, не кажется нам исчерпанной до конца, но при всем том он умеет вдохнуть в них жизнь изнутри, не прибегая к внешним ухищрениям, подобным пресловутым шипам под седлом лошадей, которыми прежде на римских карнавалах распаляли несчастных животных, заставляя нестись изо всех сил. Тургеневу нет надобности «пускать кровь» интригой; история, которую он рассказывает, ситуация, которую предлагает, разворачивается в полную силу как бы сама собой. Уже в первой его книге полностью раскрылось то, что я назвал бы лучшей стороной его дара – умение облекать высокой поэзией простейшие факты жизни. Эта атмосфера поэтического участия, насыщенная, так сказать, бессчетными отзвуками и толчками всеобщих потрясений и нужды, окутывает все, чем полнится его душа: ощущение предопределенности и бессмыслицы, чувство жалости и изумления, и красоты. Благожелательность, юмор, разнообразие, отличавшие «Записки охотника», тотчас заставили признать в их авторе наблюдателя, наделенного необъятным воображением. Эти качества, соединившись, окрашивают у него и большое и малое: и повествования о нищете, простодушии, набожности, долготерпении тогда еще крепостного крестьянина, и картины удивительной жизни природы – земли и неба, зимы и лета, полей и лесов, и описания старинных обычаев и суеверий или неожиданного появления какого-нибудь соседа помещика из местных чудаков, и рассказы о тайнах ему поверенных, о странных личностях и впечатлениях, извлеченных им из прошлого, осевших в его памяти, – словом, все, накопленное за долгое, тесное общение с людьми и природой во время упоенных скитаний с ружьем за дичью. Высокий, статный, необыкновенно сильный, Тургенев со своей любовью к охоте, или, может быть, скорее к тому вдохновению, которое в ней черпал, являл бы собой идеал великолепного охотника, если бы только этот образ не шел в разрез с его врожденной мягкостью и добротой, нередко сопровождающие могучее сложение и крепкие мышцы. По своему внешнему виду Тургенев скорее был образцом сильного человека в часы покоя: массивный, рослый, с голосом юношески звонким и улыбкой почти детской. И что совсем уже не вязалось с его объемистой фигурой – это его произведения, верх душевной тонкости, богатства воображения, прозорливости и лаконизма.
Если к трем уже упомянутым мною – в порядке их напечатания – романам добавить (так же во временной последовательности) еще «Рудин», «Отцы и дети», «Вешние воды» и «Новь», то будут названы краеугольные камни того крепкого памятника – с надежной основой и без единой щели, – который он воздвиг себе своим творчеством. Перечень его меньших по объему вещей слишком длинен, чтобы привести его здесь целиком, и поэтому я ограничусь лишь самыми примечательными: «Переписка», «Постоялый двор», «Бригадир», «Собака», «Жид», «Призраки», «Муму», «Три встречи», «Первая любовь», «Несчастная», «Ася», «Дневник лишнего человека», «История лейтенанта Ергунова», «Степной король Лир». Трудно сказать, какому из его романов принадлежит первое место. Одни отдают предпочтение «Дворянскому гнезду», другие – «Отцам и детям». Я более всего люблю его изящный роман «Накануне», хотя, признаюсь, изящество не обеспечивает ему превосходства в ряду столь же превосходных. Бесспорно, однако, что «Новь» – роман, опубликованный незадолго до смерти Тургенева, и самый его длинный – при всех своих достоинствах наименее совершенный.
Главное в этих произведениях характеры – характеры, предельно выраженные и до конца выявленные. Глубокое понимание человеческого характера всегда было путеводной нитью Тургенева – художника; аттестуя его, довольно сказать, что для него многогранность любого характера уже достаточна для создания драмы. Он как никто умеет подробно разглядеть, а потом иронически и в то же время благожелательно изобразить человеческую личность. Тургенев видит ее в мельчайших проявлениях и изгибах, со всеми наследственными чертами, с ее слабостью и силой, уродством и красотой, чудачеством и прелестью, и притом – что весьма существенно – видит в общем течении жизни, ввергнутой в обыденные отношения и связи, то барахтающейся на поверхности, то погружающейся на дно, – песчинку, уносимую потоком бытия. Это-то и придает ему, с его спокойной повествовательной манерой, необычайную широту, уберегая его редкостный дар обстоятельного описания от жесткости и сухости, от опасности впасть в карикатуру. Он понимает так много, что остается лишь удивляться, как ему удается что-либо выразить; при этом, выражая, он всегда только рисует, поясняет наглядными примерами, все показывает, ничего не объясняя и не морализируя. В нем столько человеколюбия, что остается лишь дивиться, как он умудряется владеть материалом, столько жалости, всепроникающей и всеохватывающей, что остается лишь дивиться, как он не утрачивает своей любознательности. Он неизменно поэтичен, и, тем не менее, реальность просвечивает сквозь поэзию, не утрачивая ни единой своей морщинки. Он как никто отмечен печатью прирожденного романиста, что прежде всего проявляется в безусловном признании свободы и жизнеспособности, даже если угодно, суверенности тех существ, которые он же и создал, и никогда не пользуется дешевым приемом других авторов беспрестанно истолковывать своих героев, то порицая их, то восхваляя, и забегая вперед, заранее внушая те чувства и суждения, какие читателю – пусть даже не очень искушенному – лучше бы обрести самому. И все же тургеневская система, так сказать, сторонних и детальных описаний позволяет увидеть глубины, каких не показать более откровенному моралисту.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?