Текст книги "Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы"
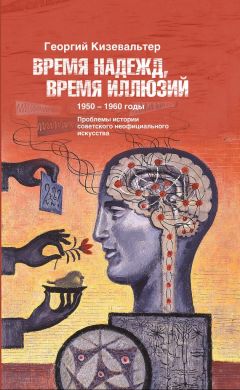
Автор книги: Георгий Кизевальтер
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
А в коридоре у него стояли огромные, похожие на диваны работы Кабакова, потому что у них была общая мастерская на Таганке. Они тоже были мне совершенно непонятны, мне было чудно. Если графика Соостера действовала на меня через личность – я доверял автору, потому что драматичность его характера всегда привлекала и убеждала, то холод этих работ Кабакова меня не трогал. Впрочем, когда я увидел эти же работы на выставке «Ретроспекция» в Беляеве, то я был потрясен, какие же они замечательные. Я почему-то увидел их чувственную пронзительность, и это мне очень понравилось.
Кроме того, я дружил с Леонидом Ламмом и Леонидом Мечниковым – они оба примыкали к этим художникам. Ламм занимался книжной графикой и тоже пытался делать «сексуальные вещи», а Мечников только начинал развиваться. И через них я уже узнал Янкилевского и Эдика Штейнберга. Еще я дружил с Борисом Маркевичем и был знаком с Эрнстом Неизвестным, но без особых сближений.
В 1962 году состоялась выставка группы художников на Б. Коммунистической улице…
Г. К.: Белютинцев?
В. У.: Возможно. Во всяком случае, там участвовал Мечников, и он меня пригласил в этот клуб. А американские корреспонденты опубликовали у себя статью «Абстракционизм на Коммунистической улице», где обыграли всю эту ситуацию. А вскоре после той выставки через Белютина и хрущевского зятя Аджубея всю эту группу пригласили в Манеж, когда выставка там уже работала.
Мы с Клячко два раза ходили к Белютину – в обоих случаях домой, где у него была галерея западноевропейского искусства. Современного там ничего не было, только западные классики.
Г. К.: Вероятно, это собирала его жена, Нина Молева.
В. У.: Да, возможно. И скульптуры там были, и живопись – все в огромном количестве и прекрасном качестве. Мы беседовали с Белютиным – он был блестящий человек и оратор, и с Клячко они тут же схлестнулись в споре о формах и принципах искусства. Было очень интересно все это слушать. Во второй раз это оказалось уже не так интересно, потому что они стали повторяться, защищая свои позиции.
Году в 1965–1966‐м, когда я уже попал в Промграфику, я познакомился там со множеством людей, которые прошли через студию Белютина, ездили на пароходе[69]69
Про эту поездку см. интервью с Б. Жутовским «Попали под раздачу». С. 69.
[Закрыть] и тоже были как бы левыми художниками.
Г. К.: Как вы думаете, что вызвало такой подъем этого левого искусства в конце 1950‐х – начале 1960‐х?
В. У.: Во-первых, к нам стала проникать информация о западном искусстве, и стали появляться выставки, в том числе из стран народной демократии. Прошел Фестиваль молодежи и студентов 1957 года, где тоже были выставки, и тогда же появился Вася Ситников, очень активно себя позиционировавший, хотя в выставке он не участвовал. Вася был человек своеобразный и не совсем нормальный. Жил он в какой-то клетушке метров 5–6. Вдобавок он был нищий, гордый и уверенный в своем искусстве: он всеми руководил и всех поучал. Иногда люди приносили ему свои работы, и он брал их в руки, начинал «исправлять», «доводить», а потом ставил свою подпись! Ему это прощали, и все его обожали, особенно женщины. Но он на женщин не обращал особенного внимания, жил искусством. А работал он «фонарщиком» в Суриковском: показывал через эпидиаскоп репродукции, которые Алпатов готовил к каждой лекции для студентов. Это была его работа.
На выставке польского искусства, где были абстрактные работы, случилась такая история с участием министра культуры Михайлова и Ситникова. Вася стоял перед абстрактной картиной и влюбленно ее разглядывал. В это время по залу шла большая свита во главе с министром. Михайлов заметил человека, внимательно разглядывавшего странную работу, и спросил его: «Ну что, нравится?» – «Нравится». – «А мне – нет!» – «Ну и дурак!» – громко сказал Ситников. И уже на следующий день его выгнали с работы, и больше он «фонарщиком» не работал.
Г. К.: А у вас уже в те годы появились работы с надписями?
В. У.: Да, после фигур и пейзажей пошли странные рисунки на социальные темы с надписями. Скажем, магазин, в котором стоит очередь, а сверху написано, как будто две тетки разговаривают: «Сколько получает генерал?» И вот у меня тогда были такие очереди, рынки и т. п. Но потом я показал свои работы Вейсбергу, и он сказал мне, что ему понравилась моя живопись и чтобы я ею и занимался.
Однажды мы были у Вейсберга с Клячко и Лелей Муриной, и туда же пришел Белютин с каким-то парнем в хлопчатобумажном костюме деревенского образца и черных ботинках без носков, весь вечер молчавшим. Белютин сказал, что это пророк. Позже выяснилось, что это был Эдик Лимонов, только появившийся в Москве.
В самом начале 1960‐х я был в Лианозове у Рабина, но мне его работы не приглянулись. Позже был у него и на Преображенке. Он мне понравился как личность, умный человек, мы много говорили, но работы показались вульгарными, социально-акцентированными, а пластически это было неинтересно. Чувствовалось заигрывание с западной публикой, заинтересованной в антисоветской тематике.
Г. К.: Кто же из художников в тот момент нравился?
В. У.: Мне очень понравился Лион, с которым мы познакомились у Юры Соболева, – как художник и как человек, и мы с ним долгие годы близко дружили вплоть до его смерти. Мне всегда казалось, что это художник № 1, пока я не встретил Перевезенцева, слегка потеснившего Лиона. Оба они так и остались для меня выдающимися художниками.
Абстракционизм меня никогда не привлекал, я его не понимал. К примеру, когда я еще был инженером, я ходил и к Слепяну…
Г. К.: А вот откуда вы узнали про него?
В. У.: Существовала интеллигенция, главным образом техническая, интересовавшаяся новыми явлениями в искусстве – именно как социальными явлениями. Скажем, был Алик Гинзбург, который ко мне тоже приходил, потому что он интересовался художниками. И кто-то из моих друзей-инженеров привел меня к Слепяну, потому что меня уже считали художником, и я сам пришел к нему как художник. Это было около 1957 года. Но его работы не произвели на меня впечатления в отличие от работ Злотникова, которые показались мне убедительными. Они со Слепяном уже были друзьями, но в то же время и соперниками, и Злотников позже все время оспаривал пальму первенства, говоря, что он раньше начал и т. п. Большая часть его жизни ушла потом на опровержение и самоутверждение.
Злотников даже названию этого цикла («Сигналы») придавал такое значение, как будто это было что-то особенное, но сами работы подкупали поразительной чистотой и цельностью. К сожалению, я их увидел позже, чем работы Слепяна. Любопытный рассказ, характеризующий Злотникова, был у Клячко, который – еще до меня – пришел к нему домой. Он пересмотрел целую пачку листов ватмана с этими кружочками и палочками. А Злотников все время эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками. Одна работа висела на стене: он случайно задел рукой этот лист и чуть-чуть надорвал его посередине. Автор был жутко травмирован этим событием, потому что был поврежден явный «шедевр» (а с точки зрения Клячко, нелепость и абсурд). Он не мог отойти от этого шока, и, разговаривая, постоянно потом подходил к этому листу и пальцем заглаживал это место, по-детски желая, чтобы это нарушение исчезло.
Мне же всегда казалось, что это был самый серьезный цикл в его творчестве, хотя мне нравились и более поздние его эмоциональные гуаши.
Г. К.: Вы знали Бориса Турецкого в тот период?
В. У.: Я узнал его чуть позже. Были выставки с его здоровенными бабами, и потрясающие черно-белые абстракции – вот они произвели на меня очень сильное впечатление.
В более поздний период была какая-то выставка в Доме художника на Кузнецком мосту, где над сценой висели три больших холста Злотникова, бывшие гораздо хуже его точных и свободных гуашей, а мы стояли в зале вместе с Янкилевским, и Янкилевский сказал: «Смотри, какие висят три огромных фантика!» Вот что такое для них был Злотников – рисовальщик фантиков! Там же нет ни литературы, ни образа, ни драмы. Да и человеческой жизни нет.
Как-то раз – году в 1962‐м – мы пошли с Лионом к художнику Семену Верховскому, бывшему главным художником издательства «Мысль», а потом ставшему главным художником журнала «Химия и жизнь»: он давал работу всем талантливым левым художникам. У Верховского мы обнаружили Купермана, который тоже пришел пообщаться с Семеном – скорее всего, на тему работы. Там же работали Юра Ващенко, Володя Янкилевский и другие. Это было спасение для всех, кому надо было подрабатывать. Так что Верховский сыграл большую позитивную роль в тот период.
Г. К.: Каково было ваше самоощущение в 1960‐е: вы считали себя левым, авангардистом или просто художником?
В. У.: Так как официальное искусство меня не принимало, мне ничего не оставалось, как считать себя левым художником. Я в то время уже не писал с натуры, в работах уже была деформация, и неслучайно они меня выбрасывали с выставок графики, когда я приносил работы. Хотя в выставкомах были друзья, которые меня поддерживали, вроде Бориса Маркевича, и Илларион Голицын относился ко мне хорошо.
Г. К.: А почему вдруг Лиона причисляли к авангардистам? Я в его работах не вижу ничего авангардного или даже просто формалистического.
В. У.: Я думаю, что вы правы и авангардистом он не был. Он просто был замечательным, очень тонким и глубоким, и при этом очень плодовитым художником, работавшим с большой внутренней свободой. Вот офорты его, которые ему идеально делал Валера Орлов, мне не нравились. Почему-то в них все то, что было в рисунках, пропадало, становилось бессмысленно. Это было удивительно, но офорты провалились. Хотя для меня он с самого начала стал выдающимся, современным, а потому и авангардным художником.
Но однажды вышла такая история. На какой-то выставке рядом висели Лион и Злотников. И я издали вдруг увидел, что, если не поддаваться магии работ Лиона, где есть психологизм и литература, а рядом висят работы Злотникова, где нет ничего, кроме формы, то форма эта оказывается чище и мощнее, чем вся эта мудрость Лиона. И пальму первенства пришлось отдать Злотникову, хотя личность его по сравнению с Лионом никуда не годная.
Г. К.: Существовали ли в то время какие-то критерии в воздухе, позволявшие сказать, что вот этот – интересный (левый, необычный) художник, а тот – так себе?
В. У.: Ну, это же всегда субъективное мнение. Чаще всего отношение определялось социальной активностью этого человека. Если он был активен, он становился известен. Возьмем, скажем, Рабина – что это за явление в искусстве? Но он сумел как-то себя правильно позиционировать. Или Эрнст Неизвестный. Это – личность, и он подминал под себя общественное мнение. Бывали удачные совпадения. Скажем, личность ужасная, как у Злотникова, но художник великолепный, и потому ему многое прощалось. В конце концов мы с Юрой ругались, а потом восстанавливали отношения… А были личности замечательные, как Леша Каменский, но как художник он был средний, хотя и хороший и талантливый тоже. Но остроты и пронзительности у таких художников я не находил.
Дело в том, что в 1964 году я уже бросил книжную графику, потому что это было мучительно, и с помощью Клячко и Подольского, бывшего там секретарем партячейки, устроился в Промграфику. Это тоже было непросто, потому что эта организация занималась дизайном и в ней собрался совет из потрясающих личностей. Это были люди большой художественной культуры и дарований, начиная с Миши Аникста, Аркадия Троянкера, Бори Трофимова, Бори Маркевича и других. Они все были личности. Когда я там увидел Юлия Перевезенцева, мы тоже с ним подружились, а позже он возглавил худсовет. По моим понятиям, он оказался выдающимся и в высшей степени оригинальным художником и очень эрудированным человеком, хотя практически никто этого не знает и по сей день. Все знают его офорты, но настоящий Перевезенцев – это его рисунки, сделанные карандашом или тушью. Они сделаны с потрясающей точностью и остротой. И самое интересное – это его абстракции. Это шедевры, абсолютно оригинальные.
Еще там работал талантливый художник Марлен Шпиндлер – знаток русской иконы и этакий хулиган, который любил выпить и подраться. Он был вне групп, но вполне авангарден. И знаки в Промграфике он делал лучше всех.
Октябрь 2016 г., Москва
Ни в какую «оттепель» я не верил
Олег Целков
Георгий Кизевальтер: Я хотел бы поговорить с вами об атмосфере 1950–1960‐х годов.
Олег Целков: Честно говоря, меня те годы совсем уже не интересуют. Жить было тогда не очень приятно – это мне, хотя многие жили тогда с удовольствием, и это не в том плане, что я был хороший, а они плохие. Я бы даже сказал, что жить было плохо, тоскливо, и от этой тоски я вдруг стал приглядываться к жизни, и чем больше я приглядывался, тем тоскливее мне становилось. Но оказалось потом, что очень многим было плохо, даже работникам ЦК. А я себя ощущал тогда еще и в полном одиночестве.
Г. К.: В 1950‐е вы еще жили в Ленинграде?
О. Ц.: Да, я вернулся в Москву в 1960‐м. В Ленинград я попал в 1953‐м, исключенный из Минского института театра и живописи после первого курса. Я там женился, окончил курс у Николая Акимова, хотя у него я не учился. Да и вообще я ни у кого не учился.
Г. К.: А Владимира Слепяна вы помните?
О. Ц.: Очень хорошо помню. Я столкнулся с ним в Питере. Он вел себя чрезвычайно загадочно по причине того, что он был сыном репрессированного. Хотя стоит сказать, что некоторые репрессированные работали на такой секретной работе, и в том числе шпионили за рубежом, что об их судьбе ничего не было известно, а о некоторых неизвестно и по сей день. Он даже не знал достоверно, какая фамилия была у его отца. А в те годы все боялись стукачей – специальных людей, нанятых КГБ для того, чтобы везде присутствовать, все выслушивать и потом писать рапорты. Этим занимались тогда очень и очень многие. И Слепян был из этих людей, хотя, конечно, он не рассказывал, когда и о чем он доносил. Поэтому сам он тоже больше всего боялся стукачей, а я их не боялся – по глупости и наивности, хотя и меня самого вербовали, но потом понимали, что я не подхожу…В общем, Слепян был странной фигурой, и однажды он обмолвился, что хочет найти людей, которые «уцелели». Он брал мои картины и возил их по «уцелевшим» людям, как он считал. Иногда брал и меня с собой. Кто были эти люди? Это были режиссер Юткевич, режиссер Довженко – как примеры. Они никак не могли понять, зачем эти два оборванца с парой картин (а для них это, скорее всего, была полная чепуха, потому что они были люди грамотные и родились не в мое слепое время) пришли к ним. Юткевич даже сказал: «А может, вам деньги нужны?» (хотя картины купить не предложил…) Мы очень смутились, ответили: «Нет-нет, деньги не нужны». «А зачем же вы пришли?» – спросил он. Мы помялись и распрощались.
Г. К.: Слепян по профессии был инженером или математиком, кажется?
О. Ц.: Нет, он был вольнослушателем Ленинградского университета, потому что официально он нигде не мог учиться, его не брали по документам. Кстати, на одном из занятий он сказал профессору, рассказывавшему про какую-то теорему, что эта теорема не верна. Теорема была включена в учебник, написанный этим самым профессором 35 лет назад. Слепян вышел к доске и показал, почему она не верна. Через некоторое время профессор признал, что тот открыл исключение.
Г. К.: И почему же он вдруг начал заниматься абстракцией?
О. Ц.: Я не знаю. Да он многим увлекался. Но художником он не был, нигде не занимался. Я очень удивлялся тому, что он покупал краски в тюбиках, покупал велосипедные насосы (а человек был бедный), изнутри все лишнее вытаскивал, из маленьких тюбиков набивал насос, а потом по холсту выдавливал из насоса. Я на него очень удивлялся, потому что с таким же успехом можно было просто выдавливать краску из тюбиков.
Г. К.: И что же, так легко было купить тогда краски?
О. Ц.: Нет, нелегко в любом случае. Даже если были деньги, что важно, нелегко было покупать хорошие и дефицитные краски. И холста грунтованного тогда не было, да и просто холста в продаже не было, потому что это продавалось художникам «настоящим», по членским билетам. Иногда привозилось, допустим, из Франции некое фирменное говно, продававшееся уже только художникам заслуженным, народным и т. п. Простому члену СХ это уже не продавалось. А я не был даже членом.
Г. К.: Но вы были тогда театральным художником.
О. Ц.: Театром я занимался с очень большой неохотой и только ради того, чтобы заработать маленькую толику денег. И ни одной пьесы, что я оформлял, я не прочитал; читал только ремарки.
Г. К.: В одной из газетных статей было написано, что вы выставили на молодежной выставке «кубистическую живопись».
О. Ц.: Ну, это были отзвуки прошлого. Когда еще я учился в художественной школе в Москве, мне кто-то показал маленькую затрепанную книжечку – «Черный квадрат» Малевича, которая меня изумила невероятно. Я не представлял увидеть такую чушь в книжке. А раз это было напечатано, то уже имело большое значение. Так что я отнесся к черному квадрату как к чудовищной глупости.
Г. К.: Однако потом вы увлеклись кубизмом?
О. Ц.: Нет, это не так. Я увлекся Кончаловским, который выставлялся. Это был первый человек, открывший мне дорогу в современное искусство. Он был академиком и одним из немногих «клоунов», которых советская власть всегда держала про запас, говоря: «А у нас тоже есть своя клоунада, свои затейники!» И им как бы разрешалось заниматься формализмом. Он был уже немолодой человек, сдавший многие свои позиции, но для меня это было открытие целого мира.
Г. К.: А свои яркие фигуры вы начали делать в 1960‐е годы?
О. Ц.: Это все шло постепенно. Я как-то раз тайно попал в запасники Третьяковской галереи и Русского музея со своим приятелем. Многие тогда заинтересовались нашим авангардом, хотя причину объяснить трудно… И мы увидели там много Кандинского, Малевича, Шагала, всех, кого хотите. Картины небрежно стояли штабелями у стен, в очень жалком виде, но хранительницы (как правило, женщины) очень гордились этим «собранием», берегли его фанатически. «Настоящие» картины там не могли стоять, потому что для хорошей живописи по-советски были совсем другие места и условия. Приходило начальство, они жаловались, что места мало, негде хранить; потом приходил Серов и говорил, что всю эту дрянь надо на помойку вынести, на что женщины ему возражали, что то, что попало в музей, должно храниться вечно. Хотя во многих музеях это выносили на помойку. В то же время эти женщины не очень афишировали себя, что они «против». В открытую слыть «противниками» было очень опасно.
Г. К.: В какие же годы это все происходило?
О. Ц.: Я могу сказать точно: это 1949 или 1950 год. Сталин еще был жив. Последний раз я был в запаснике в 1953–1955 годах в Питере. Кстати, недавно я был вновь в Русском музее, и зашел разговор о работах Малевича в коллекции. Я им говорю: «А я у вас в запаснике в 1950‐е годы копировал Малевича!» И тут женщины говорят: «Подождите! У нас есть одна картина, авторство которой мы установить не можем!» Они принесли, и я вижу, что это мой холст – по гвоздикам сзади тоже определил. Я им говорю, вот, оставил тогда и не закончил. Они попросили надписать на обороте, что это моя работа.
Г. К.: А кто же пускал в запасник в те годы?
О. Ц.: Они не пускали! Но мы договаривались, находились родственники, были условные стуки в дверь и т. п.
Г. К.: Давайте вернемся к вам. Вы ведь выставлялись тогда на официальных выставках?
О. Ц.: Нет… Первый раз я выставился на молодежной выставке… Нет, это какие-то студенты выставили мои работы в Политехническом институте в 1956 или 1957 году, после чего сняли ректора, парторга и пр. Это была пара ерундовых картин, глядя на которые современные зрители никак не могут понять, из-за чего же там был такой страшный скандал. Потому что в то время эти картины казались безумно яркими. А сейчас я сам смотрю и не могу понять, что там такого яркого: серенькие картинки. А потом была официальная молодежная выставка, после которой все газеты упомянули меня как образец того, что нам такое искусство не нужно, «мазня, которую невозможно смотреть», и т. п. В ходу было только три понятия: реализм, натурализм и формализм. Реализм – это советская живопись. Если советскую живопись выполняли тонко и аккуратно, как Лактионов, то это был натурализм, и он карался. Но Лактионова так обожала публика, что его нельзя было не вешать, нельзя было не брать. Публика собиралась огромной толпой, даже если картину вешали в самый темный, занюханный угол, а книги отзывов на выставках были от корки до корки заполнены требованием «Перевесьте на светлое место картину „Письмо с фронта“ Лактионова!».
Но если вы брали кисть покрупнее, как Коровин, и писали немного размашистее, что потом разрешилось в суровом стиле и даже до него, это был формализм, и это считалось ужасно. А уж о черном квадрате ни у кого в голове и мысли быть не могло. Никто бы не поверил.
Г. К.: То есть вы поняли, что официально пробиться не получается…
О. Ц.: Да я и не пробивался. Я с первых шагов понял, что пробиваться здесь некуда и даже позорно.
Г. К.: И стали работать сами по себе…
О. Ц.: Да, я стал сам по себе. По профессии я был художник театра, и это была моя защита, мое спасение. Я всегда мог сказать, что это мои этюды, мои экзерсисы.
Г. К.: А когда вы вернулись в Москву, вы стали общаться с другими художниками?
О. Ц.: Я приехал, когда была выставка молодых художников к Фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. И на выставку приняли мои маленькие картинки. Там впервые выставились многие художники: Рабин, Неизвестный… В воспоминаниях Рабина описано, как его поразили мои яркие безобразные картины, стоявшие в углу, а его картины не приняли, и он вернулся домой и сказал себе: «Ах, вам такое нужно!..» И нарисовал кошку по рисунку своей дочери, и вот эту работу на выставку взяли. А мои работы взял наш советский художник Павел Соколов-Скаля, чтобы похвастать перед иностранцами, что у нас тоже есть такие, как у них. Ведь все это делалось для иностранцев. Хотя, как я помню, нам хвастать перед иностранцами было нечем.
Г. К.: А потом вы дружили с «лианозовцами»?
О. Ц.: Нет, я дружил со всеми, но я никогда ни в какие группы не входил. Дело в том, что дружбы никакой и быть не могло. Я жил в Тушине, а они в Лианозове в другом конце Москвы, и у них там была какая-то своя компания, которую потом почему-то назвали группой.
Г. К.: Вы участвовали в выставках, которые организовывали Рабин и Глезер?
О. Ц.: Нет. Это был мой принцип. Дело в том, что я все выставки, организованные Рабиным, считал провокацией с его стороны. Я хорошо понимал тяжелое, безвыходное положение всех секретарей обкомов и райкомов. У них земля под ногами горела, при том что они были в курсе всех дел, в отличие от меня. Но я понимал, что она не может не гореть, потому что это был неестественный образ жизни. Когда тебе говорят, что нельзя читать «Лолиту» (а это только как пример), когда при публикации «Одного дня Ивана Денисовича» поднимается такой шум, как будто открыли вторую Луну, когда люди так удивляются уже тому факту, что напечатали такую вещь или что вышла «Мастер и Маргарита» Булгакова, – это общество неестественное! Но никто никогда не имеет и не будет иметь права мне диктовать, что мне читать, а что не читать. Я буду читать все, что сочту нужным, и никого слушать не буду.
Г. К.: То есть в 1960‐е вы держались в одиночестве?
О. Ц.: Да я всегда – и по сей день – старался держаться в одиночестве.
Г. К.: Удавалось продавать работы в 1960‐е?
О. Ц.: Мне продавать работы не удавалось. В основном мои работы оказались у поэта Евгения Евтушенко. Когда мы с ним познакомились, то как-то подружились, несмотря на разницу положений: он был молодой всемирно известный поэт, а я – его ровесник, хоть и не всемирно известный, и мы друг другу симпатизировали. Человек он был и есть чрезвычайно талантливый, а как персонаж – сверхталантливый. В сущности, он давал мне деньги в долг, а ему предлагал в ответ вместо денег картины. Но не продавал. Он никогда не требовал долг и не говорил «а то я заберу картины». Я думаю, он с удовольствием брал эти картины, но совсем не потому, что он был такой невероятный знаток живописи; они ему искренне нравились, и я ему искренне нравился, а в том долге, который я ему хотел отдать, он, наверное, не сильно нуждался. А когда я его спрашивал об этом, я всегда боялся, что он скажет, что ему деньги нужны. Потому что денег у меня не было совсем. Но он не говорил. И так у него оказалась небольшая коллекция моих картин. Позже – где-то в середине 1960‐х – он привел ко мне Артура Миллера, который купил у меня одну картину, но не взял ее с собой в Америку. Вот когда я уехал в 1977 году, я забрал ее с собой и здесь уже ее передал. Но тогда он даже не сказал, «я за ней потом приеду».
Г. К.: Соответственно, вам нужно было на что-то жить.
О. Ц.: Театр, театр, театр… Мне удавалось оформлять какие-то известные спектакли в силу того, что у меня была тогда какая-то своеобразная известность, репутация как бы новатора, а для того, чтобы обновить атмосферу театра, нужно было приглашать необычных художников, чтобы они «внесли новую струю». Так и раньше было, тем более что театр всегда пользовался некоторой свободой. Я познакомился с Назымом Хикметом, а потом, когда ставился его «Дамоклов меч», Плучек сказал ему: «А вот это будет художник вашего спектакля». Так что в Театре сатиры я поставил только один, но знаменитый спектакль. А уже потом, когда я приобрел некоторую известность, я стал работать в театре города Кимры, в котором не было денег на декорации и костюмы и потому просили ставить декорации из так называемого подбора, то есть старых конструкций. За это платили мало, но и особо работать не нужно было. Это меня очень устраивало, и я долго там работал, приезжая раз в месяц, а то и в два. Платили копейки, но на пропитание у меня была норма – рубль в день, и я на эти деньги неплохо питался. Выходило 30 рублей в месяц, а, чтобы заплатить за квартиру, надо было немного похимичить. Костюмы я не покупал, в рестораны ходить не мог, но зато в рестораны ходил мой друг Евтушенко, с удовольствием бравший меня с собой, и мы там прекрасно проводили время.
Г. К.: А среди художников у вас так и не было друзей?
О. Ц.: Ну, дружить особо не получалось. Я был совершенно отрезанный ломоть, таким и остался.
Г. К.: Однако вы пользовались существенным уважением в среде независимых.
О. Ц.: Дело в том, что подобных людей было очень мало, а советское общество изголодалось по таким людям. Оно ждало какого-то свежего дыхания, свежего поведения, но само было неспособно на это. Надо было родиться таким.
Г. К.: Когда началась «оттепель», вы действительно ощущали это в воздухе?
О. Ц.: Знаете, я никому не говорил об этом… Когда была опубликована эта повесть, «Оттепель», это произвело ошеломляющее впечатление на все мое окружение, особенно на писателей: через Евтушенко я был знаком с Беллой Ахмадулиной, Василием Аксеновым. Они были ошеломлены, а меня это очень смешило. Все об этом только и говорили, но я лично ни в какую «оттепель» не поверил. Я им говорил: «Ребята, сейчас сказаны первые буквы алфавита, в котором 33 буквы. Хрущев пока что сказал лишь „А“ и „Б“. Вот когда он дойдет до буквы „Я“, рухнет Советский Союз. Поэтому „Я“ не будет сказано никогда. Да и эта полоса скоро прекратится, потому что только сказали „А“ и „Б“, а сколько уже у советской власти разрухи!» Вот мое отношение к «оттепели» в те годы. Это был мой личный вывод, хотя людей с таким мышлением, я думаю, было мало – все в нее очень верили.
Г. К.: То есть никакой разницы между тем периодом и дальнейшим застоем для вас не было?
О. Ц.: Нет, и не было до самого конца. И я не ожидал никаких изменений. Хотя я был очень удивлен, когда в 1991 году Советский Союз в течение нескольких недель развалился. Вот этого я действительно не ожидал.
Июль 2016 г., Он-де-Валь, Франция
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































