Текст книги "Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы"
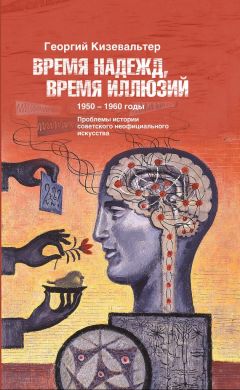
Автор книги: Георгий Кизевальтер
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Г. К.: Кстати, на вашей выставке 1963–1964 годов были и стенды с американской литературой, верно?
П. С.: Еще бы! Мы раздали пять миллионов книг в четырех городах! Многие приходили на выставку просто для того, чтобы им дали какую-то книгу даром! Я это знаю, потому что лично занимался раздачей этих книг.
Г. К.: А они были переведены на русский?
П. С.: Мало. То, что было у американцев – от Пастернака до Джиласа[64]64
Милован Джилас (1911–1995) – югославский политический деятель, впоследствии известный диссидент, автор книг «Разговоры со Сталиным», «Новый класс» и др.
[Закрыть]. К сожалению, мы мало получали новых книг, а провели в России почти год. Но за это время я писал доклады о том, сколько мы раздали книг на выставке, а правительство и делало эту выставку для того, чтобы мы влияли на русское население. Эта выставка вообще была не столько культурной миссией, сколько площадкой для пропаганды идей правительства США! При том что это правительство не рекомендовало американцам посещать 14 стран мира, начиная с Кубы, где были коммунистические режимы. А я ездил в эти страны, несмотря ни на что.
Но иногда оно делало и много положительного, к примеру, наша выставка невероятно повлияла на людей! Сколько там было посетителей – я писал об этом в книге![65]65
См. главу «Неофициальное искусство в Советском Союзе». С. 442.
[Закрыть] С другой стороны, несколько наших сотрудников за время работы выставки были выдворены из страны, в том числе Игорь Мид, и он не мог больше приезжать. А я по-другому разговаривал с вашими службами: никакого антикоммунизма, все хорошо! (Смеется.) Но они не знали, кем я был на самом деле!
После этого бывали и другие выставки, но такой больше не было, потому что советские власти в дальнейшем не разрешали. Ведь открылось огромное окно в мир! Этот культурный обмен невероятно повлиял даже на лояльную интеллигенцию, если можно так сказать, то есть на коммунистов, занимавшихся цензурой и управлением в России, потому что они увидели, что «этот Запад» был совсем не такой, как они сами писали. Они начали постепенно обрезать нитки в КГБ и политике, готовить почву для модернизации. И со временем эти процессы привели к перестройке 1980‐х.
Ноябрь 2016 г., Черногория – Москва
Мы долго умудрялись отстраняться от окружающей жизни
Ирина Уварова
Георгий Кизевальтер: Как вам кажется, какую роль сыграла литература в формировании атмосферы пресловутой «оттепели», в создании нового, оптимистического настроения у интеллигенции в 1950‐е годы?
Ирина Уварова: Я филолог, получивший образование в 1950‐е годы в МГУ, думаю о том, что можно говорить не о влиянии литературы на оптимистическое настроение, а скорее об его отсутствии.
Мы должны были ежедневно читать литературу, актуальную для того времени, хотя бы роман «Кавалер золотой звезды». Это и литературой-то не назовешь. «Мои университеты» начались в год появления труда Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», и атмосфера в областях филологии стремительно ухудшалась не только в сфере лингвистики, но и в сфере литературы тоже.
От литературы актуальной (студент-филолог должен был читать 800 страниц в день)[66]66
«Потому что тов. Сталин читает как раз по 800 страниц отечественной литературы», – объясняли нам на факультете. (Прим. И. Уваровой.)
[Закрыть] можно было уйти в прошлое, и я ушла в семинар по творчеству Маяковского к В. Д. Дудакину. Тут судьба свела меня с А. Д. Синявским – по печальному стечению обстоятельств (а по существу – счастливому!) он оказался оппонентом моего диплома. Я писала о поэме Маяковского «Про это» на фоне литературы 1920‐х годов. По наивности или по глупости написала нечто скандальное, так что Синявский меня спас, – знак судьбы, если угодно.
Но именно ему юные филологи, приговоренные к чтению актуальной литературы, обязаны «наукой» читать журнальную макулатуру критически, да и весело. В ту пору он на страницах журнала «Новый мир» подвергал остроумной критике этих самых «кавалеров золотой звезды». Из его рук мы получали рекомендацию относиться к подобной литературе с юмором, а не с отчаянием.
Вообще, общество того времени разделялось «по родам войск». Был свой читатель у журналов «Новый мир» и «Театр», и другой читатель у журналов «Октябрь» и «Театральная жизнь». Разделение наивное, но точное, а когда я спросила старого еврея при журнальном киоске, есть ли у него журнал «Октябрь», он оглядел меня с удивлением: «Но у меня же есть „Новый мир“!»
Так вот, то, что публиковал «Октябрь», Синявский весело громил в «Новом мире». Думаю, эти критические тексты дали нам некий рецепт, как дистанцироваться от литературы «Октября», не впадая в отвращение к печатному слову.
Синявский же этой своей критикой противоположного лагеря словно бы готовил читателя для грядущей литературы, автором которой будет Абрам Терц. Это будет литература ближнего будущего, совсем иного направления, «романтический реализм» – кажется, так. Во всяком случае, реализм, но от Гофмана. А пока он выступал в маске журнального критика, и он же тайно писал прозу Абрама Терца. У него, по-моему, были стратегические планы, нацеленные на спасение отечественной словесности, угодившей в плен соцреализма.
Между тем в отечестве были лица, представляющие литературу если не подпольную, то уж во всяком случае неофициальную. Некоторых мне выпало узнать: то были Павел Улитин и Александр Асаркан. Асаркан был театральным обозревателем, а кем работал Улитин – не помню. Только проза, которую он писал, не могла быть напечатанной у нас по причине чужеродности стиля. Кажется, как раз так писали тогда на Западе – тут и поток сознания, и острые отрывочные наблюдения – одним словом, о публикациях подобных «записок из подполья» не могло быть и речи, да и речи никто не заводил.
И Асаркан, и Улитин – авторы, сильно отличающиеся друг от друга, но некое биографическое обстоятельство их объединяло. Оба они встретились в психиатрической больнице, и там к ним примкнул Юрий Айхенвальд. Это был остров интеллигенции среди, сами понимаете, какого моря. В этом море они сумели сохранить интеллект. Асаркан там начал учить итальянский язык.
Это, по-моему, были первые люди, мне повстречавшиеся, которые умудрились отстраняться от окружающей жизни. Как это удавалось Айхенвальду, школьному преподавателю, – не знаю.
Г. К.: Но у них не было единой группы, каждый был сам по себе, так?
И. У.: Наверное. Сейчас я думаю – у Асаркана и Айхенвальда (про Улитина не помню) была одна общая позиция. Назову ее, эту позицию, именем Сэлинджера, как-нибудь вроде «над пропастью во ржи». Оба они занимались так или иначе подростками, вступающими в конфликт со школой и семьей. Время рубежа 1950–1960‐х оказалось плодотворным для кружков, неофициальных журналов: климат в отечестве начинал ломаться, дело шло к потеплению.
Г. К.: Насколько я помню, Синявский и Даниэль начали публиковать свои рассказы на Западе уже в 1958 году.
И. У.: Да, должно быть, так.
Г. К.: Но каким образом устанавливались связи с Западом практически неизвестных авторов?
И. У.: У Синявского это подробно описано в исповедальном романе «Спокойной ночи!». История появления неизвестной советской (!) прозы на Западе сама по себе являет законченный и уже отредактированный сюжет авантюрного романа. И автор сего романа – Синявский, хотя, строго говоря, уже не Синявский, но Абрам Терц.
Что ж я буду пересказывать своими словами роман, А. Терцем описанный, А. Синявским сочиненный и – воплощенный, да не где-нибудь, а в советской действительности?
Такую полночную гофманиану пересказывать при дневном свете нельзя, получится и плоско, и грубо.
В этом авантюрном сюжете присутствуют и дама, и интриги – одна хлеще другой, – маски, погони и даже счастливый финал!
Если не считать, что автор оказался за решеткой на семь лет по приговору суда.
Ну, а все-таки счастливый финал случился! Проза не советская, но принципиально антисоветская (!) увидела свет. Прозвучала, поведала «городу и миру»: не все спокойно в датском королевстве. Да и в литературе нашего королевства.
Вскоре у Абрама Терца появился коллега – Николай Аржак, тоже писавший прозу. И нужно отдать должное двум законспирировавшимся авторам – у нас никто в кругах окололитературных не знал и не догадывался, кто такие эти авторы. Даже проницательный Асаркан едва не поверил слуху – «это какой-то сибиряк пишет, окопался в медвежьем углу!». Еще ходил слух – это наши эмигранты в Латинской Америке.
Г. К.: У современного читателя возникает очевидный вопрос: как вы могли читать этих авторов, издаваемых за рубежом? Или вы были близко знакомы с ними?
И. У.: А вы полагаете, что они давали читать свою тайную прозу знакомым?!
Но вы просто забыли о радио. У всех в домах стояли ящики приемников, подмигивали в ночи зеленым глазом – ночами, ночами! Глушилки завывают, как ведьмы на Лысой горе, пытаются отпугнуть нас от «зарубежных голосов».
«– Вы слушаете голос Америки. Говорит Вашингтон. Полночь», – тут сразу вой пожарной машины рот затыкает мировому эфиру. Как мы все не оглохли теми ночами – до сих пор не пойму.
…Одним словом, кем были Абрам Терц и Николай Аржак, эти писатели в масках уголовников, мы не знали. И когда мне позвонила подруга: Синявский заболел, а через полчаса она же сообщила: Даниэль заболел тоже, я поняла, что они арестованы, но почему, но за что – совершенно непонятно.
Очевидно, то была общая реакция. Причина ареста непонятна, но арест двоих знаменателен: «Неужели опять?!»
Эта пауза между фактом ареста и запаздывающей информацией о причине ареста заполнилась мыслью: опять?! Опять массовый арест… «Оттепель» «оттепелью», но! Оказалось – все мы пребывали в надежде: тридцать седьмой год не может повториться. Но кровавая тень тридцать седьмого никуда не ушла из нашего подсознания.
Думаю, этот момент исторического страха, нами дружно пережитый, сплотил наше разрозненное общество уже тем, что каждый мысленно прикинул на себя арестантскую робу.
Г. К.: Если большинство современников считало, что «оттепель» условно началась в 1954 году (хотя мне кажется, что уже в 1953‐м), то мнения об окончании «оттепели» расходятся достаточно широко. Скажем, Марлен Хуциев высказал мнение, что уже в конце 1962‐го, когда Хрущев разгромил всех в Манеже и запретил фильм «Застава Ильича», «оттепель» и прихлопнули. Другие же пишут о том, что конец «оттепели» обозначил процесс Синявского – Даниэля. Какая точка зрения вам ближе?
И. У.: Манеж – событие, скандал исторический, – еще бы нам всем не показалось отчетливо: всему конец!
Моя подруга Лида, жена Соостера, уже вещи укладывала: арест – тюрьма – ссылка. Но ведь ничего не последовало. Даже напротив. Выставляться на выставках, конечно, нельзя, но можно работать хотя бы в книжной графике.
Это ограничение очень пошло впрок книжной графике – как она стремительно развернулась! Обширное поле научной фантастики; такие журналы, как «Химия и жизнь», «Знание – сила»… Сильнейшие графики выросли на полях науки.
Другое дело – процесс Синявского – Даниэля. Думаю, это не просто конец «оттепели». Это момент возникновения нового языка в диалоге между художником и властью.
Произведения наших писателей после процесса стали появляться в западной печати «без спроса», игнорируя разрешение. Вдруг стали известны «там» и Окуджава, и Искандер.
Да и климат в отечестве стал меняться, но это уже другая тема.
Г. К.: Расскажите, пожалуйста, о Даниэле.
И. У.: Юлий Даниэль был школьным учителем, мечтал стать переводчиком поэтов, очень остро и глубоко чувствовал поэзию. Да, «оттепель» породила молодую поэзию, у поэзии есть свои законы расцветании. Но и перевод иноземной литературы приносил из мировой поэзии новые имена.
Они подружились с Синявскими, и когда довольно скоро Юлий узнал, что А. С. пишет тайную прозу и проза эта может быть опубликована «там», – конечно, он вспыхнул!
Вообще был он человеком смелым и, пожалуй, бесстрашным. Один его приятель рассказывал, как они шли вместе по улице, а на другой стороне компания парней тащит девушку в подворотню, она плачет. Юлий сказал: «Подожди минутку», перешел улицу и заговорил с этой компанией. До драки не дошло, девушку отпустили, а приятель всю жизнь маялся: «Я бы так не смог». У Юлия был, что называется, низкий порог страха, и это одна из причин, почему он примкнул к Синявскому-Терцу. Ну а главное, полагаю, было: написать о той жизни, которую ты проживаешь здесь и сейчас. Осознать. Понять, что происходит с твоей страной и с самим тобой. Это опыт самопознания. Опыт понимания своей страны и своей личной ответственности…
Все эти слова, которые я применяю к его прозе, вполне правильны, но не вяжутся с его обликом: был он человеком легким и как-то свободным от рождения – естественно свободным в несвободной стране.
Конечно, я пристрастна, что не удивительно, когда речь идет о любимом человеке, но его любили все: и ученики в школе, и бесчисленные друзья, и женщины, и зеки в лагере, и читатели на воле, когда у нас в журналах начали потихоньку печатать его лагерные стихи, и, наконец, его подсудную, его судимую прозу. Поздно! Он уже уходил, сломленный болезнью… Об этом не будем.
Все-таки они не встретились при его жизни – его проза и его читатель!
Г. К.: Скажите, какое мнение у вас сложилось по поводу процесса Бродского? И оказывал ли он влияние тогда как поэт?
И. У.: Его влияние было неслыханно! Как говорила Анна Андреевна, «нашему рыжему делают биографию». Его биографию так высветили, что его слава полностью затмила существование рядом с ним такого прекрасного поэта, как Аронзон[67]67
Леонид Аронзон (1937–1970) – ленинградский поэт, одно время общался с Бродским. По официальной версии, застрелился в горах Средней Азии, по другой – погиб в результате неосторожного обращения с ружьем. (Прим. Г. К.)
[Закрыть]. Это очень серьезный поэт, рано ушедший. У него была сильная лирика в те же годы и в том же Питере. Тут нет ничьей злой воли, но на фоне Бродского, которому биографию писали, его биография осталась в тени.
Г. К.: А из московских поэтов вам нравился кто-то в те годы?
И. У.: Я знала многих, и Юлий хорошо знал поэтов, потому что сам переводил, но самыми близкими для нас были и остались Давид Самойлов – поэт номер один, и Булат Окуджава. Когда при Юлии очень прогрессивная интеллигенция начала говорить, что «зря Булат пишет прозу», мол, он поэт, не надо тратиться на глупости, Юлий точно сказал: «Это проза милосердия». Я ее очень люблю. А Булат обижался на Сарнова, на всю их компанию за то, что они не видели ничего в его прозе… Это были лучшие силы литературы. И еще Искандер. Эти три фигуры были ближайшими.
Г. К.: В октябре 1962 года Хрущев отдал распоряжение напечатать «Один день Ивана Денисовича», и буквально через месяц состоялся злополучный разгром в Манеже, а до этого был Новочеркасск. Как вы думаете, почему этот процесс – назовем его либерализацией или десталинизацией – шел то взад, то вперед, с такими абсурдными противоречиями?
И. У.: Ну, конечно, отсутствовала единая линия в поведении власти. Разоблачив «культ личности», Хрущев выпустил из кувшина весьма опасных для власти джиннов. Открыв лагеря, дав свободу тысячам (или миллионам?) узников, он спровоцировал лавину, которая, двинувшись с проклятого места, захлестнула и внелагерную жизнь. Думаю, каждый, независимо от своих убеждений, тогда в душе примерил лагерный бушлат. Так мы, обыватели, ординарные люди, прикоснулись к осознанию истины: что же такое наше отечество. Ну, а власть, несмотря на разоблачения культа, оставалась, в сущности, той же, и действия ее в Новочеркасске были привычными. И какие тут противоречия? Поносить умершего вождя – одно, но допустить голодный бунт – совершенно другое.
Можно сказать так: Хрущев в Манеже повел себя как самодержец-самодур, хотя до репрессий художников дело не дошло. Спасибо и на том, как говорится, но хамство в Манеже забыть трудно. Мне, во всяком случае. Но Эрнст Неизвестный, которого Хрущев персонально материл на выставке, совершил жест высокого благородства. Позвонил опальному вождю в день рождения: «Передайте Никите Сергеевичу – когда мы с ним не поладили в Манеже, это была такая мелочь по сравнению с тем, что он открыл лагеря».
И ведь действительно! Разоблачение «культа личности» уже само по себе, да и помимо воли самого Хрущева, привело к «оттепели», пошел процесс размораживания вечной мерзлоты, и все стало пробуждаться от советской летаргии: и поэзия, и проза, и театр; и живопись оживала. Поразительно было наблюдать за этим, еще поразительнее было вовлечение тебя в общее потепление. Ярче всего вспоминаю еженедельные «приемы» у Соостеров: они жили в подвале, где в черных коридорах бродили самые громадные тараканы, в уютной комнате же, полной гостей, шли споры о западной литературе, и мы, молодые и глупые, распустив волосы по плечам, чувствовали себя героинями Ремарка и пили кофе из огромных керамических чашек. Кто набивался в этот Соостеров подвал – иногда не знали и хозяева. Однажды некая компания, спеша в подвал, каким-то образом задела другую компанию, во дворе ошивавшуюся. Сообразив, что нанесена обида, те стали ломиться к Соостерам, требуя сатисфакции. Тщетно Лида хотела перекричать гостей и узнать, кого вызывать, – слушать ее никто не стал, так что ей самой пришлось идти драться – все же за спиной был опыт пребывания в женской зоне.
Возвращаюсь к литературе и искусству. У меня как-то никуда не вписывается проза «Нового мира», назову ее условно так. Проза, пребывающая в стадии куколки, бабочка из нее только собиралась вылупиться. Мы жадно отлавливали в журнале крупицы горькой жизненной правды, но собрать контур картины жизни, который очерчивает проза той поры, пожалуй, я не смогу.
Поэзия – другое дело. В поэзию вдруг вторглись «дети одного карасса», как говорил Курт Воннегут. Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский; Евтушенко, конечно же. Как будто природа присмотрела, куда следует высадить этот небесный десант и где он особенно необходим.
Да и вообще стихи в ту пору словно бы вырвались из тетрадей, рукописей и журналов, зазвучали в городе среди бела дня, как оттаявшие слова у Рабле. У памятника Маяковскому собирались люди стихи свои читать, нервируя городскую власть; «Реквием» Ахматовой вышел из глубокого подполья, зазвучал в полный голос. Философ Г. С. Померанц собирал группу желающих, объяснял, как следует читать и понимать стихи О. Мандельштама, выступившие из исторического забвения.
Короче говоря, «оттепель» набирала градусы. Температура менялась! Но власть-то оставалась прежней, конфликт не мог сойти на нет просто так, без взрыва.
Взрыв все же случился на поле литературы. Это и был процесс Синявского – Даниэля – первый открытый суд над литературой, и писатели свою вину не признали.
Суд спровоцировал мощное общественное бурление. Остановить его властям уже не удалось. Процесс общественного возбуждения оказался необратимым.
Ноябрь 2016 г., Москва
О Злотникове и не только
Виктор Умнов
…Злотников начал рано и резко, опередил всех, но остановился, не понимая, куда дальше ему идти. Он был трусоват, мудро тяготел к МОСХу и своим друзьям в правлении и опасался социальных последствий своего «свободного» творчества. Преподавал в кружке в доме пионеров, любил это занятие, но ограничивал свободу творчества учеников, поэтому из них ничего не вышло. Злотников умел говорить красиво, формулировать вопросы и на них отвечать, что дано далеко не всем. У него был несомненный ораторский талант, но на бумаге это отражалось слабо, смысл в его текстах часто пропадал, потому что там не было эмоционального эффекта присутствия, интонаций и пауз живой речи. Однако он считал, что все, что он вещал, было свято и великолепно и ни один пункт нельзя было подвергать сомнению. Всякий, кто пытался посягнуть на его систему, объявлялся мерзавцем, подлецом и антисемитом, даже если он был евреем. В общем, это был умный и обаятельный человек, страдавший чудовищным эгоизмом и эгоцентризмом, что накладывало на него отпечаток ограниченности: он не умел быть самокритичным и объективным.
Он блестяще знал русское искусство и русскую культуру, но очень плохо разбирался в западном искусстве, что было поразительно, потому что он следовал мировым тенденциям в искусстве начала века, судя по его основным работам. Когда он говорил об искусстве, он умел как-то соединять свои проблемы с общечеловеческими категориями, что выходило у него искренне и убедительно.
Г. К.: А когда вы с ним познакомились?
В. У.: В 1961 году. Но тут сначала надо рассказать о другом знакомстве. Я дружил тогда с Марком Клячко, который в 1950‐е годы стал известным книжным графиком. Он жил в одном доме на Б. Бронной с Георгием Дионисовичем Костаки, и однажды Костаки нас пригласил в гости. Я о нем раньше слышал от Клячко. А познакомились мы с ним на Арбате, где я жил в те годы на углу Арбата и Староконюшенного, при следующих обстоятельствах.
Костаки работал в канадском посольстве на Староконюшенном. Каждый вечер его джип, который я хорошо знал, потому что таких машин было всего две в Москве, останавливался у моего дома, и Костаки шел в комиссионный магазин на Арбате, дом 19, где продавали произведения искусства. Он там был свой человек, и у него был налажен контакт с продавцами, поэтому он мог там подыскивать работы для своей коллекции начала века. В основном там царили Шишкин, Айвазовский, какие-то немецкие мастера XIX века, но он отбирал для себя то, что ему было нужно, но никого особенно не интересовало и стоило относительно недорого.
Однажды вышло так, что двое мальчишек залезли в его джип – вероятно, Костаки забыл запереть двери. В этот момент мимо шел шофер из посольства и заметил этих мальчишек. Он попытался их задержать, мальчишки заверещали, образовалась толпа, защищавшая этих мальчишек, но вскоре подошел милиционер и стал выяснять, что произошло. Я же с какого-то момента тоже оказался свидетелем этой сцены. Тут появился и Костаки, и мы все пошли в отделение милиции составлять протокол. В отличие от прочих свидетелей я защищал шофера и доказывал, что он действовал правильно. В результате обратно мы пошли втроем – Костаки, шофер и я. Когда мы проходили мимо магазина, Костаки предложил зайти внутрь, купил бутылку вина, и мы втроем там ее выпили. Тут я объяснил Костаки, озадаченному моим появлением в его жизни, что я художник, друг Марка Клячко и Левы Збарского, а их он уже знал. Я оставил ему свой номер телефона, и через некоторое время он позвонил и пригласил нас с Марком в гости. А когда мы пришли к нему на Б. Бронную, то там нахохлившимся воробьем сидел Юра Злотников, с которым я и познакомился. На стенах квартиры Костаки висело множество шедевров русского авангарда – и графика, и живопись; многих авторов – Шагала, Сутина, Любовь Попову или Малевича – я уже знал, но далеко не всех…
После нашего знакомства со Злотниковым мы быстро подружились, потому что он был очень общительный и теплый человек, тонкий и преданный ценитель искусства. Поскольку мы с ним были в разных категориях, он стал моим ментором и гуру. Юра пришел ко мне, а жил я в огромной коммунальной квартире, где было 14 комнат и 10 семейств. Квартира производила ужасное впечатление, и для него это было знаком достоинства, потому что у Злотникова было обостренное социальное чувство, выражавшееся в приязни к униженным и оскорбленным и неприязни к золотой молодежи, к которой он справедливо причислял Збарского, а заодно и Клячко.
Г. К.: Какие процессы происходили в те годы в сфере культуры, что было нового?
В. У.: В это время «занавес» начал подниматься и довольно решительно уходить вверх. С Запада хлынула информация об искусстве вообще, и о современном искусстве в частности. Пушкинский ГМИИ перестал быть музеем подарков Сталину и стал заполняться западным искусством. То, что там появились импрессионисты и постимпрессионисты, стало шоком для большей части московской интеллигенции, далекой от искусства, и вокруг этого прямо в музее пошли горячие споры, а позже это перекинулось в другие выставочные залы. Собирались толпы слабо разбиравшихся в искусстве зрителей, удивлявшихся и возмущавшихся по поводу того, что они видели на картинах, скажем, Ван Гога или Матисса с Пикассо. Страсти разгорались повсеместно, и этот процесс познания протекал довольно бурно.
Я стал заниматься тогда в художественной студии при ДК МЭИ, и наш руководитель, когда я ему рассказывал про Матисса и Сезанна, отвечал так: «Нас этому не учили; нам говорили, что все это – „буржуазные выверты“. Но если это тебе нравится – пожалуйста, делай!»
Важно вспомнить одну особенность того времени для понимания оппозиции «официальное – неофициальное». Люди, обслуживавшие пропагандистскую машину государства и партии, относились к категории работающих по гонорарной системе. Поэтому все художники, композиторы, писатели, поэты, театральные деятели могли зарабатывать по договорам большие и даже огромные деньги в отличие от стандартных категорий граждан, получавших зарплату в 120 или 200 рублей. И контролировало эту систему через творческие союзы государство, платившее творческим людям за то, что они прославляли советскую жизнь. Под договоры с художниками, предположим, к праздничным датам, выдавались огромные суммы. Понятно, что руководство секций и фондов получало по максимуму, а рядовые исполнители – по минимуму. Если же кто-то не хотел прославлять или шел против течения, он выбрасывался из системы и лишался денег. Все было устроено просто и гениально.
Например, среди тех, кто учился вместе с Левой Збарским в Полиграфе у А. Д. Гончарова, были Колтунов, Дувидов и Юрлов. И Юрлов уже тогда был абстракционистом. Он брал заказ на книжку, делал ее за полгода, а затем на полгода уезжал не то в Сочи, не то в Сухуми и там делал абстракции. Попутно он увлекался буддизмом и разными восточными учениями, был молчаливым и замкнутым человеком, поэтому мало кто видел его абстракции в то время.
Г. К.: Виктор, а с какими работами лично вы подошли к 1962 году, когда состоялась ваша первая выставка в кинотеатре «Ударник»?
В. У.: Как я уже говорил, моим другом в те годы стал Марк Клячко, который отказался от профессионализма и пошел по пути, указанному Кандинским: «Художник должен освободить свою интуицию от гнета знаний и того мастерства, которое у него уже есть в руке, потому что они подавляют его как личность». Ему самому это не очень удавалось: он без конца повторял «зады» Сезанна. Но я часто приходил к Клячко домой, а у него было полно книг по искусству – он был богат и мог покупать такие книги. Мы и познакомились в книжном магазине «Дружба», где тогда продавались книги по искусству. Марк был хорошим другом и хорошим педагогом. Я ему показывал свои этюды, потому что к тому времени уже ушел из студии и ходил писать арбатские переулки. А Марк меня очень поддерживал и подсказывал, когда надо было.
Постепенно среда расширялась, появился Злотников, который старался всячески поддерживать все, что было неофициально. И он организовал мое участие в выставке в «Ударнике», где еще были представлены Алексей Каменский, Миша Гробман и Виктор Скалкин – традиционный, но тонкий живописец. Я показывал там свои пейзажи и рисунки, и выставка висела долго.
Сам Злотников там не участвовал, и я даже не знал еще его работы. Он тогда уже преподавал в художественной студии в Доме пионеров и этим зарабатывал деньги. Юра обладал талантом дружить со всей интеллигенцией Москвы, заводил связи и позже выставился сам в каком-то музее – возможно, Льва Толстого. Злотников всегда чувствовал среду, где ему надо было выставляться, и показывал соответствующие работы с совершенно разными акцентами. Поэтому сказать, какой это художник, было очень трудно. Но, поскольку он считал, что все, что он сделал, гениально, начиная с действительно выдающегося явления «Сигналы», он спокойно показывал любые работы. Юра в этих «Сигналах» забежал так далеко, что и сам испугался, как я понял, когда узнал его поближе. Он испугался как человек, тонко чувствующий социальную среду, потому что в то время[68]68
Вторая половина 1950‐х годов.
[Закрыть] это никак не могло лечь в какое-то русло и могло вызвать только преследования. Так что это его напугало.
Г. К.: Интересно, что в «Другом искусстве» эта выставка описана совсем по-другому, что в ней участвовали еще человек пять и организовывал некто Гуляев (вместе со Злотниковым).
В. У.: Нет, это недоразумение. Этих художников я и не знал в то время.
Г. К.: А вы были на выставке Злотникова в том «музее Толстого»? Что там было показано?
В. У.: Да, я там был и даже выступал на обсуждении. Там были крымские пейзажи, очень тонкие, свободные и эмоциональные. Он, несомненно, талантливый художник, и это проявлялось на выставке. Еще там были портреты разных известных и неизвестных людей, которые он писал также свободно и легко…
Г. К.: Но «сигналы» свои он не показывал?
В. У.: Нет.
Г. К.: Это очень важно.
В. У.: Но художникам показывал. Сначала к нему домой пришел Клячко, как супермен и красавец, как мэтр, у которого полно денег, потому что он хорошо зарабатывал, как любимец женщин. А Злотников – нищий человек, преподающий в детской студии и ощущающий социальную разницу и даже ненависть к этому Клячко.
Г. К.: То есть контакта у них не возникло. А у вас были другие выставки в 1960‐е годы?
В. У.: Была вторая выставка в кинотеатре «Иллюзион», тоже организованная Злотниковым, там были и другие художники, но я их не запомнил. Потом была еще одна выставка молодых художников, не членов Союза, в МОСХе на Беговой, и снова меня протолкнул туда Злотников. Участвовали также Лошаков, Гросицкий, Павлов, Коваль. На эту выставку даже приезжал Илья Эренбург, потому что он тогда проявлял интерес ко всему новому в изобразительном искусстве. Но ничего нового там не было.
В первой половине 1960‐х произошли важные для меня изменения в творчестве: сперва я увлекся русской иконописью, ходил в Третьяковку, наслаждался шедеврами, особенно в зале с Рублевым и Даниилом Черным; потом пришло восхищение перед Пиросманишвили и Анри Руссо: каждый раз, как я приходил в Пушкинский, я стоял перед его картинами завороженный. У этих непрофессионалов было грандиозное величие духа, и их работы вызывали потрясение. А еще в 1962 году я ушел из инженерии, стал работать в книге с помощью Збарского и Клячко, которые доставали мне заказы. И, конечно, очень много рисовал, в основном стилизуя под народное искусство.
Г. К.: Доводилось ли вам ходить по другим художникам? Что-то было интересное?
В. У.: Конечно. Большая часть моих знакомств была в сфере книжных художников. Мы с Клячко бывали у Нолева-Соболева, где я познакомился с Димой Лионом, и еще я подружился с Юло Соостером. Это был глубокий, очаровательный человек, и я много раз был у него в мастерской, смотрел его работы. Они меня удивляли и радовали, хотя по-настоящему я многого не понимал. Например, у него были «сексуальные картины», как он торжественно и серьезно объявлял, а мне это название казалось совершенно нелепым. Юло мне показывал стопку листов, где часто были нарисованы женские гениталии в окружении приклеенных кружевных вставок от женских трусов, и говорил, что это «очень сексуальные работы». Что было нелепо и смешно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































