Текст книги "Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы"
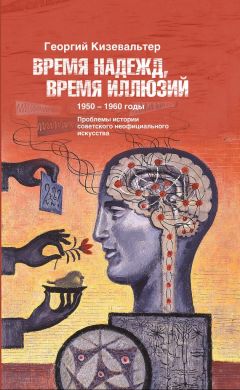
Автор книги: Георгий Кизевальтер
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
<…> Нельзя прожить только на занятия неофициальной живописью, несмотря на то что есть богатые коллекционеры такого искусства. Согласно советскому законодательству те, кто не работают на государство, подлежат высылке с места жительства. Соблюдение этого закона тщательно и регулярно контролируется милицией.
Также очевидно, что отсутствие возможности экспонировать произведения и недостаточные контакты с зарубежным искусством препятствуют развитию нового искусства в СССР. Оставляя без внимания некоторые другие, незначительные трудности, я теперь с гораздо большим удовольствием расскажу об обстоятельствах, благоприятных для молодых художников, работающих в стилях, отличных от социалистического реализма.
Три или четыре года назад в советской прессе можно было найти только туманные намеки на «нездоровые тенденции» у отдельных молодых художников. Эти сбившиеся с пути люди обычно представлялись как единичные случаи, не имеющие ни влияния, ни отклика у молодежи. По-видимому, предполагалось, что эта «модная болезнь» пройдет со временем без следа. Однако для безразличия прессы к новым тенденциям среди молодых художников были также и другие, более серьезные причины. Открытая критика любого течения в искусстве только способствует усилению интереса к нему и убежденности его защитников. Критика часто помогает художнику узнать, что он не единственный, кто работает в таком ключе.
То, что Иогансон, соратник Герасимова и портретист советских высокопоставленных лиц, недавно счел необходимым призвать советских художников сопротивляться любым отклонениям от социалистического реализма, а молодых художников – в особенности сопротивляться абстрактному искусству, доказывает, что такие «отклонения» стали частым явлением. Однако неясно, как Иогансон мог вообще узнать о существовании художников-уклонистов. Ведь те, кто в своем отклонении от социалистического реализма смеют шагнуть дальше импрессионизма, конечно же, не показывают свои работы в местах, часто посещаемых Иогансоном. Где же тогда можно увидеть картины таких художников?
Искусство, наука и будущее
По общему признанию, найти произведения неофициального искусства и его коллекционеров почти так же трудно, как обнаружить ракетные установки. Однако я знаю об одном таком месте и рискну рассказать о нем здесь. Это Международный объединенный институт ядерных исследований в Дубне, что недалеко от Москвы. В этом институте работают физики из разных социалистических стран. Там можно увидеть, или по крайней мере всего несколько лет назад можно было увидеть настоящую абстрактную живопись – картины, приобретенные физиками, работающими в институте. Я могу ручаться за подлинность этой информации, так как сам написал некоторые из этих холстов между 1956 и 1958 годами.
Связь между наукой и современным искусством, как отметили некоторые тонкие наблюдатели, не является простым совпадением. Однако, по-видимому, только в СССР эти отношения были сознательно признаны многими учеными и художниками и способствовали реальному общению между ними. Не будет преувеличением сказать, что поддержка и интерес, проявленные учеными по отношению к молодым художникам-экспериментаторам, являются самой важной гарантией существования нового искусства в СССР. Этот интерес проявляется особенно часто среди ученых, работающих в самых продвинутых областях науки, например в атомной физике, физической химии, математике, и особенно среди молодых исследователей в этих областях. Возможно, главная причина этой восприимчивости к новому искусству заключается в том, что большая часть интеллектуальной мощи страны сконцентрирована именно в этих областях науки. Трудно убедить человека, работающего с концептами квантовой механики, что художественные формы таких «социалистических реалистов», как Александр Герасимов, являются наивысшим достижением человеческого духа. <…>
Конечно, ученые не одиноки в своем интересе к современному искусству. Можно привести здесь имена выдающихся писателей, поэтов, музыкантов, актеров, режиссеров, не говоря уже о молодых людях во всех слоях общества, не менее чутко реагирующих на искусство, выходящее за пределы официальной догмы. Люди, занятые в областях искусства и культуры, отличаются от ученых тем, что от них время от времени требуют высказывать осуждение всех отклонений от социалистического реализма. Они больше, чем ученые, заняты общественной деятельностью, и это мешает им коллекционировать работы современного искусства. Есть, например, писатели, собирающие неофициальные художественные работы только в периоды, когда атаки на ревизионизм спадают.
Единственным исключением из этой системы является Илья Эренбург, которому с 1956 года было дано право выражать и в прессе, и в книгах свое восхищение западным искусством в диапазоне от Моне до Пикассо. Нельзя не восхищаться умением и энтузиазмом, с которым Эренбург использовал эту привилегию для выполнения задачи, которая в ином случае потребовала бы целой армии историков искусства – задачи информирования советского населения о самых важных событиях в искусстве прошлого века. Это благодаря его последней книге автобиографических воспоминаний «Люди, годы, жизнь» (1961)[53]53
Опубликована в 1961 году издательством MacGibbon & Key (London) под названием «Люди и жизнь».
[Закрыть] советские читатели узнают о таких художниках, как Шагал, Сутин, Модильяни, и о других великих современных новаторах.
Кажется достаточно ясным, что сложная последовательность событий после смерти Сталина создала в советском искусстве мощный тренд к экспериментированию. Хотя все больше подобных картин открывается для зрителей, такого рода живопись по-прежнему большей частью сокрыта от глаз. В данный момент для советских художников легче задумывать новые творческие идеи, чем выполнять их. И все же в этой ситуации есть некое преимущество, потому что такие художники не обременены мыслями о денежном вознаграждении или всенародном успехе и могут потому руководствоваться в своей творческой деятельности только непосредственным интересом.
Хотя было бы безрассудством рискнуть сделать сейчас точное предсказание, не исключено, что некоторые самые интересные события в искусстве последующих десятилетий произойдут на российской почве. Молодые советские художники, пройдя за несколько лет по дороге, на которой Западу потребовались 50 или более лет, могут оказаться менее скованными традицией и легче вдохновляться по поводу новых возможностей, чем их западные собратья. Их признание, однако, придет только если/когда существующая группа бюрократов-художников – всех этих могущественных пережитков эпохи Сталина – прекратит доминировать в художественной жизни страны.
© Перевод Г. Кизевальтера, 2016
Подвергать все сомнению
Габриэль Суперфин
Георгий Кизевальтер: Я недавно перечитал воспоминания Михаила Чернышова, где он рассказывает об общении с вами уже в конце 1950‐х и говорит, что вы ему передали вырезки из журнала Life или даже сам журнал, где была публикация о Звереве и других наших художниках. Он утверждает, что это было в 1959 году.
Габриэль Суперфин: Нет, это было не раньше конца 1960 или начала 1961 года. Мы познакомились примерно в то время.
Г. К.: А у вас сохранился этот журнал?
Г. С.: Ну что вы! Ничего не сохранилось. Эти вырезки мне подарил тогда Б. Б. Сосинский, реэмигрант.
Г. К.: То есть это была случайная «находка», попавшая по правильному адресу?
Г. С.: Конечно.
Г. К.: А чем вы занимались в то время?
Г. С.: Искал себя (смеется)… Нет, в основном книгами. Торговал, менялся. Это называлось «спекулянт». Я тогда как раз окончил школу, мне исполнилось 17 лет. Конечно, это громко сказано – «торговал». Пытался торговать… Это было чуть позже того момента, как у меня появился замечательный друг Саша Васильев[54]54
Александр Георгиевич Васильев – о нем см. интервью с Михаилом Гробманом «Мы – левые!», прим. 1 на с. 63.
[Закрыть], который, кажется, тоже упоминается у Миши Чернышова. А еще я познакомился тогда, с одной стороны, с собирателем «новой живописи», а с другой – с «маршаном», как он сам себя называл. Это был Геннадий Михайлович Блинов, сделавший ставку на Эрика Булатова, тогда еще работавшего под влиянием Фалька или Фонвизина. Гена меня познакомил с Васильевым, поклонником Володи Яковлева. Он был одним из первых собирателей таких художников, как Яковлев, Харитонов и т. п. Но он не любил Рабина.
Г. К.: И вы были, наверное, на американской выставке 1959 года?
Г. С.: Конечно, был. Прорвался туда в пересменок между заездами в пионерский лагерь…
Г. К.: Знаете, я читал и говорил об этом со многими. Об этом рассказывают Михаил Чернышов, Владимир Паперный, Александр Юликов, теперь вы… Удивительно, что такие молодые ребята, еще учащиеся школы, в то время вдруг начинали интересоваться абстрактным экспрессионизмом, поп-артом и пр. Почему это происходило, как вы думаете?
Г. С.: Если вы посмотрите газеты или журнал «Крокодил», определенным образом отображавший общество того времени, то вряд ли это можно будет определить только как «страсть к запретному», однако нас всех сформировал 1956 год с его посылом не воспринимать все как истину в последней инстанции, отбросить все детские верования, подвергать все сомнению. И если что-то плохое писали об абстрактной живописи, то это было интересно посмотреть и составить собственное мнение. У меня это пошло от увлечения Маяковским, усиленного делом Б. Пастернака в 1958 году. Возникло подозрение, что что-то здесь не то. Вскоре стихи Маяковского привели к увлечению футуризмом. А тогда еще за Таганкой существовала Библиотека-музей Маяковского, и в этой библиотеке можно было свободно брать из хранилища книги, принадлежавшие, допустим, Крученых, и так войти в поэзию ХХ века. Вот, собственно говоря, путь, по которому мы шли. Конечно, у каждого он был свой, но это как пример.
Далее, обязательно было ходить в Библиотеку иностранной литературы, где мы смотрели альбомы и журналы с недоступной нам живописью. А в букинистическом отделе магазина «Академкнига» продавались альбомы Skira, которые тоже можно было посмотреть…
Г. К.: Интересно, и кого из художников, представленных в альбомах, вы предпочитали в те годы?
Г. С.: Не помню, чтобы у меня был какой-то специальный интерес. Смотрели все, только шел выбор по «Полутораглазому стрельцу» Бенедикта Лившица[55]55
Бенедикт Константинович Лившиц (1887–1938) – русский поэт, переводчик и исследователь футуризма.
[Закрыть], которого я случайно прочитал, знал имена и полагал, что мне нравится Кандинский, хотя никакого реального представления о нем я не имел и его «Ступени» еще не читал. Скорее всего, наши понятия формировались понаслышке, и вдруг наяву у меня появилась живопись Рабина, Плавинского и Харитонова. Это происходило в результате хождений по художникам с моими новыми товарищами. Тогда ведь телефоном никто не пользовался, чтобы предупреждать о визите, а просто приходили с улицы. В качестве первого примера отчетливо помню поездку к Рабину в Лианозово (это было в сентябре 1960 года) с людьми, которые стали на много лет моими друзьями, Николаем Котрелевым и другими. Естественно, в гостях возникали новые знакомства. Помню визиты к Булатову в том же 1960 году и позднее, к Саше Харитонову и Плавинскому. Яковлева я узнал чуть позже.
Г. К.: Вот тут интересный момент, Гарик. Вы первый человек, упоминающий Булатова в то время. Чем он привлек тогда молодежь? Своей живописью?
Г. С.: Канон у нас складывался из только что увиденного. Поэтому я не могу сказать, что он чем-то «привлек». «Привлекали» они все, у каждого своя тема и почерк. Таких вопросов, как «нравится – не нравится», «хорошее – плохое», не существовало. Для нас это был просто «художник Булатов», без комментария. Я могу только вспомнить, что у него были такие тяжелые цвета…
Г. К.: Тяжелая пастозная живопись?
Г. С.: Да… Имели значение разговоры с художником, вот что было интересно! Потому что речь у всех была несколько косноязычная, эмоциональная… И еще, разумеется, из первых походов можно вспомнить Василия Ситникова; с кем-то пришел и к Вейсбергу. То есть мы можем так вспомнить почти все имена, а их источником служила та публикация в журнале Life, но не сама публикация, а ее описание в какой-то советской газете! «Вот, некий американец Маршак вместо нашей хорошей живописи представил каких-то бездельников!»
Г. К.: То есть привлекало все то, что отрицалось в официальной советской прессе?
Г. С.: Конечно! Без всяких критериев отбора.
Г. К.: А что можно было обнаружить интересного в советских музеях?
Г. С.: Одно время в середине 1950‐х я регулярно ходил в Третьяковку. Тогда и было только два музея – ГМИИ им. Пушкина и Третьяковка. Все остальные относились к случайным. Да, еще упоминавшийся Музей Маяковского. Хотя там картины не показывали. Даже одна картина уже была шокирующим обстоятельством. А еще было таинственное слово «запасник». Надо же было туда проникнуть, а мне это никак не удавалось… А так я помню выставки, которые все знают. Например, выставка художников стран народной демократии. Наверное, это 1957 год. Там были весьма неожиданные скульптуры поляка Ксаверия Дуниковского. Они произвели на меня, да и не только на меня, большое впечатление. Много было и других неожиданных работ, посвященных теме войны. Весьма интересной была экспозиция чешского стекла в Манеже с ее интересными формами, рождавшимися буквально на глазах. Далее, в маленьком зале Союза художников на Кузнецком мосту открылась выставка Николая Рериха – одной из первых. А поскольку я жил на Малой Бронной, я очень часто ходил на выставки в переулок Жолтовского, где был МОСХ. Одноклассники Миши Чернышова, учившегося неподалеку, потом рассказывали мне, что тоже ходили в эти залы.
Г. К.: А куда пошла эта волна интереса к запретному в 1960‐е годы?
Г. С.: Ну, интерес этот ослабел. Я уже искал свое собственное дело, поэтому оставались только личные дружеские отношения, скажем, с Володей Пятницким. С Яковлевым было дружить сложно; была краткая дружба с Мишей Гробманом. Но задушевные отношения оставались только с Пятницким и Эдиком Курочкиным. В остальном я пытался отстраниться от художников, потому что их питье меня сильно мучило. Приходилось постоянно страдать от того, что человек не мог выйти из такого состояния. Такой богемной жизнью отличался круг Васильева – Игорь Ворошилов и др.
Г. К.: А какие-то иные имена вызывали интерес в то время? Скажем, те, кого вы не знали лично, но слышали?
Г. С.: Да в общем-то все имена уже были известны, я думаю. Питерских художников я не знал, хотя они приезжали в Москву. Скажем, во время французской выставки случился «набег» людей во главе с красочным Борисом Понизовским, имевших к живописи опосредованное отношение. А я с 1962 года начал уже заниматься архивами, филологией, потом занялся лингвистикой и все равно вернулся к архивным источникам.
Г. К.: Вы интересовались современной поэзией?
Г. С.: Я прошел через увлечение Мариной Цветаевой и Пастернаком, знал (благодаря самиздатскому «Синтаксису») культовые имена типа Севы Некрасова или Станислава Красовицкого[56]56
Станислав Красовицкий (р. 1935) – поэт из группы Леонида Черткова. «Чертковская компания молодых снобов регулярно посещала коктейль-холл на ул. Горького – тогдашний светский центр в памятные 1950‐е. Самым крупным поэтом в этой группе был и остается С. Красовицкий» (Г. Сапгир).
Издавал собственные рукописные сборники в конце 1950‐х. В начале 1960‐х отказался от поэзии, якобы уничтожил все написанное. В 1990‐е вернулся к творчеству. Стихи его были напечатаны в альманахе «Аполлон-77», изданном в Париже М. Шемякиным.
[Закрыть], но меня больше привлекала поэзия тех, кто начинал до 1917 года и столкнулся с последующими событиями. Увлечение Хлебниковым меня миновало, а художники (Пятницкий и его круг) жили его стихами («классик» Булатов был увлечен стихами Ахматовой).
Г. К.: И художественная жизнь ушла на второй план?
Г. С.: Да. Выставки я иногда посещал, скажем, помню выставку Володи Яковлева в каком-то институте на Котельнической или в ДК на шоссе Энтузиастов, которую устраивал Глезер, то есть общие места встреч.
Г. К.: Как выглядели подобные выставки? Они устраивались где-то в фойе?
Г. С.: Я не могу сказать точно. Работы висели между окнами, на стенах. Но это были не закуточки, а вполне приличные залы с профессиональной развеской.
Г. К.: И сколько «выдерживали» эти выставки?
Г. С.: От дня до трех дней, точно не скажу. Впрочем, чтобы выставка длилась больше одного вечера, я не помню. Слухи по Москве об этих выставках распространялись быстро; все мчались туда, а там уже было закрыто. Еще помню: в 1970‐м в мае не состоялась доведенная до открытия выставка Олега Целкова.
Г. К.: Интересно, в Тарту в тот период была художественная жизнь?
Г. С.: Была, но, поскольку она была эстонской, казалось, что это жизнь подражательная, провинциальная. Появился там уже коллекционер Матти Милиус, я его видел, но не особенно общался. В Тарту было всего два-три места для общения и знакомств, в основном студенческие кафе.
Г. К.: А Соостера вы знали?
Г. С.: К Соостеру в Москве я не пошел. Кстати, к Кабакову меня все время тянул один мой друг, он занимался романскими языками, Сережа Высоцкий. Он дружил с Кабаковым и говорил, что это самый замечательный собеседник и художник. Это было в середине 1960‐х, если не ошибаюсь.
Г. К.: Вернемся к Олегу Целкову: он был хорошо известен уже в конце 1950‐х, но вы его не упомянули ранее.
Г. С.: А он считался питерским художником. Помню, однажды я проходил по Малой Бронной и вижу: оформление спектакля «Дамоклов меч» – Олег Целков. Это вот интересный момент – неофициальный художник и в то же время занимается оформлением спектаклей. Один из пограничных случаев.
Г. К.: А почему вы называете его неофициальным, когда он был вполне официальным?
Г. С.: Ну, видимо, потому, что он в нашем круге общения считался неофициальным. Как будто не был никем другим. Это такой удачный художник, который признавался и теми, и другими. То же самое было с оформлением книг – скажем, Игорь Куклес или кто-то еще этим занимался, – да, он подрабатывает этим.
Г. К.: То есть такие параллельные линии в жизни и искусстве признавались за данность и норму?
Г. С.: Да, и тогда не было еще идеи политизации, что, дескать, «продался». Это появилось гораздо позже.
Июнь 2016 г., Бремен – Москва
Мы открыли окно в мир
Пол Съеклоча (Каттер)
Георгий Кизевальтер: Как получилось, что вы вдруг решили в 1963 году поехать с американской выставкой в СССР? Кем вы там работали – экскурсоводом, куратором?..
Пол Съеклоча: Я был там всем сразу (смеется). Конечно, у меня была и другая работа, но об этом я не могу говорить. Всего у нас работало человек двадцать, и Игорь Мид в том числе. Когда мы встречались в Калифорнии, у меня еще не было никаких планов, что я буду писать книгу. Но после того, как я поездил по Союзу с выставкой, я многое понял в дополнение к тому, что уже знал.
А началось все потому, что в СССР в академическом отпуске побывал один итальянец, Франческо Мэлия, приехавший туда изучать русское искусство, и у него возникла эта идея с выставкой.
Г. К.: А какое отношение имел этот Мэлия к вам или к вашей работе?
П. С.: Профессор Франческо Мэлия был историк искусства из Университета Рима; в течение целого года он занимался исследованиями русского искусства, неоднократно приходил ко мне в американское посольство и постепенно познакомил меня с некоторыми подпольными художниками, а вскоре я подружился с Сашей Гинзбургом и Ильей Эренбургом. И Мэлия предложил устроить в СССР выставку американского искусства.
Вначале мне даже и не хотелось заниматься выставкой, но потом я поговорил с людьми в Вашингтоне, и мне сказали: «А почему нет?», и я согласился. Кстати, впоследствии Игорь получил от книги гораздо больше славы, чем я, потому что это была его профессия, а для меня эта тема была не так важна…
Г. К.: Ну тем не менее вы занялись выставкой и художниками?!
П. С.: На самом деле я редко бывал на выставке и больше времени проводил в отделе культуры в посольстве.
Г. К.: Но по профессии вы с искусством никак не были связаны?
П. С.: Никогда!
Г. К.: Почему же вы стали писать эту книгу о неофициальном искусстве?
П. С.: В 1965 году я был одним из организаторов симпозиума «Плюрализм в коммунизме» в Лионе (Франция). Он организовывался разными правительственными службами, а я был, кстати, на военной службе в DIA[57]57
Разведывательное управление министерства обороны США. (Прим. Г. К.)
[Закрыть], и это мы, а вовсе не ЦРУ с его идеей противостояния с СССР, поставляли всю информацию по русским ракетным комплексам в правительство. Я начал постоянно работать в России в 1961 году, за два года до выставки, и к 1963 году уже поездил по городам, а ребята из ЦРУ сидели на вечеринках и никуда не ездили. И я тысячу раз писал в докладах, что у России нет никакого плана нападения на США, но мне тут же замечали, что так писать нельзя, иначе мы ни цента не получим от правительства! И в общей сложности я провел в России 12–13 лет с небольшими перерывами.
Так вот, я написал тогда доклад о том, что в России есть движение неофициальных художников и что там в свое время был серьезный авангард, который повлиял на все развитие западного искусства – если вспоминать книгу Камиллы Грей[58]58
Gray C. The Great Experiment: Russian Art 1863–1922. Thames & Hudson, 1962.
[Закрыть]. На симпозиуме я впервые употребил понятие «неофициальное искусство» в своем докладе. Все материалы участников симпозиума были переведены на 32 языка и опубликованы под редакцией американского издательства тиражом два миллиона экземпляров. После этого мне предложили написать книгу о шестидесятниках и в целом о советской интеллигенции. И книга стала мне очень интересна с точки зрения того «великого эксперимента», что описан у Камиллы Грей.
Г. К.: Следовательно, вы прочли тогда ее книгу?
П. С.: Да. Конечно, соцреализм не давал художникам нормально работать и развиваться. У меня в Москве сложились очень хорошие отношения с теми людьми, которые повлияли на мои знания и помогли мне понять ситуацию, например, с Эренбургом, который жил недалеко от Кремля. А когда судили Иосифа Бродского, я как раз был в Питере, потому что мы вели там переговоры в американском консульстве об открытии в Сан-Франциско русского консульства. Это вовсе не было нашей идеей – тут больше были задействованы ваши люди, которым было очень важно как можно шире открыть Россию Западу. Но кто мешал этому процессу, так это ЦРУ, которое изо всех сил закрывало эту дверь. Хрущев стремился к открытию России, но конгресс этого не хотел и стремился поддерживать антикоммунистическую идеологию и конфликт между ведомствами, чтобы они боролись между собой за деньги для своих программ. ЦРУ получило славу антикоммуниста № 1, притом что они и так получали какие-то деньги от старой аристократии. Одним из моих профессоров, например, был Глеб Струве, сын Петра Струве.
А польский поэт Чеслав Милош часто сидел у меня на кухне после того, как в 1960 году меня отправили в Париж, а я вытащил его оттуда и привез в Калифорнию. Он стал преподавать в университете литературу – так заманивали в Штаты многих прогрессивных людей, и создавалась основа для пропаганды идеи, что Америка – выразитель идеалов интеллигенции, хотя там никогда не было никакой интеллигенции, и сегодня нет. В царской России, для сравнения, было четыре миллиона людей, называвших себя интеллигентами, а в Америке такого никогда не было и не будет, потому что там иное, индивидуалистическое общество.
Г. К.: Хорошо, но ваш соавтор Игорь Мид все же был искусствоведом?
П. С.: Нет, Игорь был не искусствовед, а художник. Ну, а что особенного он знал о России? Вот я – как политолог – разработал связи всего этого движения в Москве, потому что очень часто они ничего не знали друг о друге. Я успел повидать всех главных людей и начал думать о том, что можно будет что-то написать об этом в будущем, и так и получилось. Я использовал выражение «unofficial art» в той статье 1965 года, а после выхода книги[59]59
Unofficial Art in the Soviet Union. University of California Press, 1967.
[Закрыть] и роста ее популярности в Штатах открылось более 50 галерей, якобы занимавшихся неофициальным искусством!
Г. К.: И как же они получали картины из Советского Союза?
П. С.: Привозили разные деловые люди, дипломаты.
Г. К.: Давайте вернемся к выставке. В каких городах СССР вы побывали с ней?
П. С.: Выставка побывала в четырех городах: в Москве, Алма-Ате, Ереване и в Ленинграде. После выставки, как я знаю, был сделан каталог в двух томах, но я его никогда не видел.
Г. К.: Это была выставка графики? А какие художники были представлены?
П. С.: Нет, там была и живопись. А художники были самые разные, весь спектр.
Г. К.: Как проходила выставка в Алма-Ате и Ереване? У тамошней публики был интерес?
П. С.: Конечно! Но главное для нее было то, что они могли поговорить с живыми американцами. Как мне казалось, люди приезжали главным образом для того, чтобы взглянуть на нас! В штате было двадцать человек, но, когда меня не было на выставке, меня всегда искали, потому что я был, наверное, единственным, кто понимал это движение и весь этот «великий эксперимент» с Малевичем, Габо, Поповой и т. д. Иногда приходили и местные художники, и мы общались как могли.
За годы работы в СССР я познакомился с очень многими людьми. Я знал Солженицына, Эрнста Неизвестного, братьев Медведевых, Женю Евтушенко, даже семейство Хрущева (хотя с ним самим не знакомился).
Г. К.: В книге есть несколько иллюстраций, подписанных «неизвестный художник». С чем это было связано?
П. С.: Мы не могли указывать некоторые имена, потому что сами художники просили нас об этом. В то время я всегда находился в двояком положении, не столько опасаясь за себя, сколько за людей, с которыми встречался, подвергая их опасности преследований, так как их могли отправить рубить лес в весьма удаленные места. Времена были очень тяжелые, творческая интеллигенция была под колпаком КГБ…Хотя позже они показывали всем эту книгу и говорили, что «это мои работы», и уезжали на Запад зарабатывать деньги.
Конечно, были и такие, как Неизвестный, которые ничего не боялись. Я, кстати, был в Манеже, когда Хрущев пришел на выставку в 1962 году. Позже мы и с Белютиным подружились. И вот они считали, что смогут пройти этот «смотр», используя связи с Радой, Сергеем[60]60
Дети Н. С. Хрущева.
[Закрыть] и зятем Хрущева Аджубеем; они хотели свободы слова, свободы картины, поэзии… но не получилось. Кстати, отметьте, что, когда эти люди уехали за границу, они ничего больше не написали… Мы много разговаривали об этом позже с Сашей Гинзбургом, который уехал и жил в Париже. Как и Рабин.
Г. К.: Вы ездили к нему в Лианозово в те годы?
П. С.: Конечно. Я встречался с ним и позже. И мне до сих пор непонятно, как он успевал всех собирать вокруг себя и работать. Встречались мы и с Белютиным, но это совсем другой человек, бизнесмен, он немалые деньги заработал на своей группе.
Г. К.: Каким образом?
П. С.: Продавал их работы бизнесменам, дипломатам и туристам.
Г. К.: А из группы Рабина вам еще кто-нибудь нравился?
П. С.: Я помню Немухина, его жену Мастеркову, остальных плохо. Был еще художник, который часто сидел в психушках, – Яковлев? Да, Яковлев был очень интересный художник… И еще Василий Ситников – он жил совсем рядом со зданием МГБ-КГБ на Малой Лубянке, и его несколько раз сажали… Другие художники, которых я особенно выделил в книге, были Вида Рабина[61]61
Имеется в виду Валентина Кропивницкая.
[Закрыть], Анатолий Брусилов[62]62
Анатолий Брусиловский.
[Закрыть], Анатолий Каплан, Евгений Кропивницкий, Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Дмитрий Краснопевцев, Эрнст Неизвестный, Александр Харитонов.
Конечно, большую роль сыграл в те годы Эренбург, потому что он их всех защищал и сам начал с той важной повести, которая вышла вскоре после смерти Сталина, – «Оттепель».
Эренбург в 1963 году настоял, чтобы я вывез и опубликовал первую книгу поэзии Иосифа Бродского, изданную YMCA на русском языке в Вашингтоне (под правительственной крышей, позволявшей печатать разные деликатные материалы) в октябре 1964 года в виде довольно большой книги с мягкой обложкой зеленого цвета. Я рискнул и взял этот сборник у Саши Гинзбурга в Лианозове, а моя первая жена вывезла его оттуда под одеждой в посольство. Это было в декабре 1963‐го, а потом я по-русски написал к сборнику предисловие под псевдонимом Георгий Стуков и отослал его в Штаты осенью 1964 года. Я чертовски рисковал тогда с этим сборником и этим предисловием, оставаясь в СССР. Но книга была издана, потому что Илья Эренбург на меня рассчитывал и я не мог ему отказать.
И точно так же я вывез из Лианозова три тома «Синтаксиса» Гинзбурга, написал к ним длинное предисловие и отослал одному пожилому коллеге из Калифорнийского университета, а он уже переправил материалы в «Грани» во Франкфурт, где они были опубликованы осенью 1964 года. У Гинзбурга была алкогольная зависимость, вызывавшая серьезную озабоченность у многих моих коллег в посольстве: они боялись, что КГБ скомпрометирует нас обоих. И я, и моя жена – мы пытались помогать Гинзбургу с этой проблемой, но это не сработало. Позже в Париже, когда моя дочь училась в Сорбонне, я пытался установить с ним контакт, но не нашел его.
Стоит заметить, что самиздат не входил в мою компетенцию – это было дело Гинзбурга! Да, мы оказывали помощь таким людям, как Гинзбург, хотя сейчас я не могу вспомнить ничего из того, что написал Саша. И он очень сильно рисковал, приходя к нам с женой в гостиницу «Украина», где в начале 1960‐х жили некоторые сотрудники посольства, пока нам не построили квартиру в Москве…
Еще я помогал с выездными документами братьям Медведевым, хотя я их не знал, как не знал лично и Бродского. А Бродский вел себя как высокомерная провинциальная балерина, когда приехал в США: он нагло врал в интервью одной известной корреспондентке (я тогда слушал прямую трансляцию) о том, каким он был важным в России, и почему КГБ ничего не мог с ним сделать, и как его ждали в Штатах. Хотя без публикации его сборников на Западе и моего доклада вашингтонским богам его никуда бы не пустили и отправили бы в лагерь (как я думаю). И все в русской диаспоре в Штатах знали это. Его роль диссидента помогла ему и въехать в Штаты, и получить позже Нобелевскую премию. На тех же коньках въехал и Солженицын, и тоже получил премию; при этом у меня нет сомнений, что Бродский писал все же лучше, хотя был «просто поэт».
Откровенно говоря, я считаю, что самиздат был основан на политике и не представлял собой реального творческого прогресса, а был тогда просто главным «информационным поводом» для американской прессы, поэтому я впредь решил не тратить на него время.
Г. К.: В общем, вы узнали тогда очень много о творческой интеллигенции в Союзе. И все же, возвращаясь к книге – почему вы ее написали? Это был увлекательный эксперимент по анализу современного искусства в СССР?
П. С.: Да, так получилось. В Вашингтоне тоже об этом узнали и попросили, чтобы я что-нибудь написал. Первая статья так и называлась – Unofficial Art[63]63
Progress and Ideology in the USSR. Washington: U. S. Government Printing Office, 1965.
[Закрыть], по-моему, она вышла в 1965 году… да, в декабре. Это была большая книга о плюрализме в коммунизме – и моя статья нанесла первый удар по социалистическому реализму. Правительство ее перевело на 32 языка и сделало два миллиона копий! Денег не брали, книги просто раздавали.
Вообще, проблема этого движения в СССР заключалась в том, что у художников не было значимых людей, которые могли бы подтягивать их движение на нужный уровень и продвигать его. Никто ничего не знал и не знает о русском искусстве. Конечно, большую роль сыграла книга Камиллы Грей «Великий эксперимент», но это всё. Литература – в лучшем положении, она проникает через границы. Когда Чеслав Милош (а он был очень влиятельным на Западе, у него были встречи с папой и т. п.) получил Нобелевскую премию, он сказал: «Эту премию надо было бы дать моим переводчикам, вот они настоящие поэты!» С их помощью его поэзия проникла в западный мир.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































