Читать книгу "Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы"
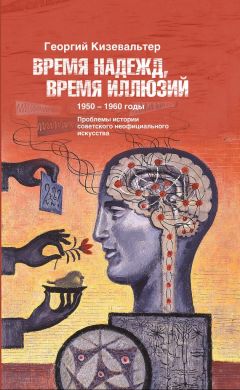
Автор книги: Георгий Кизевальтер
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Г. К.: Какие интересные выставки того периода вы могли бы выделить?
М. Г.: Ну, началось все с выставки Пикассо – ему коммунисты не могли сказать «нет», потому что он был тогда большой фигурой. Потом открыли залы импрессионистов и постимпрессионистов – это были очень важные для нас экспозиции, и мы там пропадали часами. Разумеется, не только мы – многие ходили туда, а некоторые сделали себе из этих французов целую религию. Например, был такой художник Скульский, считавший, что самый гениальный художник – Сезанн, поэтому он торчал в музее целыми днями и читал о Сезанне лекции посетителям.
Потом была американская выставка, французская выставка – там мы увидели потрясающие вещи. Мы жили с этими художниками – это была наша жизнь. Хотя на кого-то эта энергетика произвела плохое воздействие – зачем было повторять зады американского или европейского искусства? Мы это не очень-то принимали. Требовали, чтобы была своя позиция, что-то свое.
Были очень важные выставки футуристов в Музее Маяковского. У Харджиева в коллекции были их работы. Мы с ним сделали много выставок в этом музее – Ларионова, Гончаровой, Матюшина, Экстер, они совершенно изменили московскую ситуацию. Мы вместе с Ириной[24]24
Ирина Врубель-Голубкина, жена художника.
[Закрыть] помогали ему делать экспозицию. А Николай Иванович много рассказывал нам об этих художниках.
Вообще жизнь была чрезвычайно активной. В 1966 году философ и искусствовед Джон Берджер написал большой материал в Sunday Times Magazine, который изменил отношение Запада к русским художникам. И сложилась такая ситуация, что о нас стали регулярно писать в западных СМИ. Ведь нас было 35 человек, связанных друг с другом и друг друга признававших. И все отношения в дальнейшем возникали на этой базе.
При всей нашей свободе волеизъявления художники не всегда в то время понимали, зачем и почему я что-то делал. В частности, работы с использованием советской символики не очень-то воспринимались. Я уже с 1964–1965 годов занимался разрушением советских мифов, и мой коллаж «Генералиссимус» с фигурой Сталина был сделан в то время. Это был первый Сталин, поставленный в другой контекст. Кабаков проложил ступени в том же направлении своими абсурдистскими работами 1960‐х годов, и в конце концов это направление стало понятным даже людям неподготовленным.
Вообще первые левые художники появились около 1959 года. Второй «набор» включал Янкилевского, Кабакова и т. п. Это были выпускники институтов, решившие отказаться от того, чему их учили. Третий «набор» состоял только из одного художника – Михаила Шварцмана, появившегося позже всех в этой компании.
Г. К.: А вы относите «лианозовцев» к художникам 1959 года?
М. Г.: Да, это «лианозовская группа» и Яковлев, но были и другие художники-анахореты вроде Рогинского, которого мы увидели первый раз на выставке на Мещанской, где еще участвовали Нусберг и другие, а также впоследствии исчезнувшие или умершие художники. Можно почитать «Второй русский авангард» и «Варианты отражений» Галины Маневич – там карта неофициальной художественной Москвы прочерчена довольно точно.
Г. К.: Кто участвовал в выставке в Музее Достоевского в 1962 году?
М. Г.: Там были Яковлев, Эдик Штейнберг, я и группа ребят из ВГИКа: Коновалов, Тюрин, Шилова, которые своими корнями уходили к Саше Васильеву[25]25
Александр Георгиевич Васильев – сын кинорежиссера Георгия Васильева, был известен как букинист и «маршан» в 1960–1970‐е годы. К так называемому «васильевскому кругу» (нареченному так поэтом Геннадием Айги) принадлежали художники В. Пятницкий, И. Ворошилов, В. Яковлев, Э. Курочкин, С. Афанасьев и др. О нем читайте: Про Сашку Васильева. Пробел-2000, 2012.
[Закрыть]. Васильев был удивительно талантливый человек, который просто пропил свою жизнь, уничтожил сам себя. Но это именно он открыл Яковлева, он безупречно чувствовал, понимал и собирал картины.
И вот еще важный момент. Художники не были какой-то отдельной кастой. Кроме них были и поэты. Среди последних большое признание получили Станислав Красовицкий и его друзья Валентин Хромов и Леонид Чертков, игравшие важную роль в объединении поэтов. Мы собирались, читали свои стихи, смотрели картинки. То же самое было и у «лианозовцев» с Евгением Кропивницким, Холиным и Сапгиром.
Позже я концептуализировал это соединение визуального и поэтического и стал делать «визуальные стихи». Часть моих визуальных стихотворений написана на обложках советских книг. Я сделал 40–50 таких обложек, дорисовывая и дополняя в стихотворной форме имеющиеся изображения. Это была очень важная для меня серия: моя цель была разрушить советскую культуру изнутри. Сейчас это вновь стало очень актуально, потому что теперь ее экспонируют заново! Помню, как-то раз мы стали спорить с Юло Соостером и Ильей Кабаковым о том, что станет в будущем с нашими картинами и сочинениями. Соостер был самым резким оппонентом и сказал, что все то, что сейчас не признается в СССР, станет самым важным и ценным. Кабаков ухмылялся, но не готов был спорить с Юло. А мне тогда и в голову не приходило, что вся эта советская дрянь будет и в XXI веке висеть в музеях и выставочных залах.
Г. К.: То есть вы тогда никак не разделяли устремления художников, допустим, сурового стиля?
М. Г.: Нет, мы категорически отказывались принять их в ряды актуального искусства.
Г. К.: А почему тогда вы общались с Жилинским, Костиным[26]26
Имеется в виду Владимир Иванович Костин, искусствовед.
[Закрыть] и другими из СХ?
М. Г.: Человеческие отношения всегда были. Мы не особо и общались. Просто была молодежная секция, и там можно было показать такие вещи, которые в других местах нельзя было пристроить. Я этим пользовался, и потому получились выставки Яковлева и других.
Г. К.: Иными словами, они оказывали вам поддержку?
М. Г.: Да, они все вели себя прилично. И это дало мне возможность и даже обязанность сказать теплые слова в некрологе о Жилинском. Они не были партийной сволочью, хотя не нужно забывать, что они были воспитаны на ОСТе, РОСТе и прочих советских художественных образованиях. Даже сейчас эти остовские художники сидят на коне, однако если рассматривать их серьезно, то это не искусство. Хотя их называют «левый МОСХ», это ничего не меняет. Это все был советский мрак. По большому счету они боролись с официозом за деньги правительства. И после грома и грохота вокруг выставки в Манеже они пришли к власти.
Г. К.: У меня возникло ощущение, что многие в конце 1950‐х и чуть позже начинали заниматься искусством потому, что им хотелось бежать от советской действительности, уйти в свой мир. Вы согласны с этим?
М. Г.: Нет, это никак не было связано. Нас интересовало только искусство. Никаких целей делать что-то против советской власти ни у кого не было. Чтобы делать какие-то политические вещи, до этого русское искусство тогда еще не дошло.
Г. К.: Нет, я не о политике как средстве самовыражения, я о способах ухода от реальности. Почему вдруг вы начали заниматься искусством? Кстати, вы ведь наверняка работали где-то в те годы, иначе вас бы обвинили в тунеядстве.
М. Г.: Да, такая опасность была. Я спасался тем, что работал в магазине оформителем витрин, санитаром в 5‐й градской клинике и т. п. А потом я стал иллюстрировать книжки, работал в журналах, и меня приняли в МОСХ.
Началось все с того, что мы шли как-то с Соостером по улице и он сказал мне: «Почему у тебя нет денег? Ведь тебя все знают, ты можешь делать все – ведь евреи все умеют делать! – и зарабатывать большие деньги!» И действительно, в один прекрасный день мне все надоело, и я стал рисовать иллюстрации к рассказам и статьям. Книги мне было делать лень, а вот все наши друзья вроде Булатова, Кабакова или Янкилевского трудились в поте лица, делали книги. К Янкилевскому невозможно было приходить, это было пугающе, потому что, когда бы ты ни пришел, он в любое время был занят. Все они всегда были заняты и по-настоящему не пили так, как художники «первого призыва»[27]27
Про художников «первого и второго призывов» см.: Гробман М. Второй русский авангард. С. 525.
[Закрыть]. Целый ряд художников вроде Пивоварова в то время были только иллюстраторами и лишь позже, в 1970‐е годы, стали делать вещи, не связанные с книжными заказами. И Чуйков начал поздно. На них сильно повлияла новая волна, начатая Кабаковым и продолженная Комаром и Меламидом, к которым присоединились разные другие люди.
Из «несоветских» гнезд, дававших нам работу, надо вспомнить важный журнал «Знание – сила». Он был известным рассадником свободомыслия. Один украинский художник позже рассказал мне, что они ждали каждый месяц выхода нового номера «Знания – сила» так, как будто это был журнал «Америка», «Польша» или что-то в этом роде. Мы все их ждали с нетерпением. Любопытно, что ни в каких воспоминаниях не отражается достоверная история этого журнала.
Г. К.: А заказы на иллюстрации вам давал Юра Соболев, верно?
М. Г.: Нет, это не так было. Соболев пришел в журнал позже нас. В наши времена журнал хорош был тем, что предложил новый формат иллюстраций, отличный от традиционного. То есть иллюстрации могли существовать в нем сами по себе, не были привязаны к тексту. Все организовал там Боря Алимов. Он был художественным редактором до того момента, пока не набил морду какому-то советскому функционеру. Его за это выгнали из Союза журналистов и с работы. После него журнал попал в руки Бориса Лаврова, который позвал меня, и мы заправляли там вдвоем, как Чапаев и Фурманов. И тут началась вакханалия, потому что все серьезные художники хотели печататься в журнале – не как иллюстраторы, а со своими работами. Впервые настоящие работы Кабакова, к примеру его «Муха» и др., были напечатаны в «Знание – сила». Целкова я буквально заставил одну работу для журнала нарисовать – все отказывался. Штейнберг был совершенно неспособен, но все же что-то сделал там. У Яковлева тоже там была самостоятельная работа. И если открыть журналы «Знание – сила» тех лет, все это можно там увидеть. Так что при советской власти первые работы многих известных художников были напечатаны в этом журнале. Когда в 1966 году пришел Соболев, он по приказу сверху стал развивать там эстетику иллюстрации, и это было уже менее интересно.
Наше художественное свободомыслие никак не было связано с борьбой с советской властью. Даже Рабин никогда не был политическим художником. На советскую власть никто не обращал внимания. Мы ее игнорировали. Мы занимались искусством, а не политикой. Большую роль в нашей жизни сыграли и чехи. В один прекрасный день поляки, а за ними и чехи обнаружили нас в Москве и стали писать о нас в газетах и журналах, а затем устраивать наши выставки у себя. К нам приезжали такие критики, как Халупецкий, общепризнанный искусствовед, и постепенно статьи стали появляться в журналах и газетах на Западе.
Г. К.: Давайте опять вернемся немного назад. Почему же молодежь начала рисовать что-то совершенно иное в 1950‐е годы? Рабин сказал мне, что он начал делать что-то новое только после фестиваля 1957 года.
М. Г.: И не только Рабин. Фестиваль был тем фактором, который поменял очень многое и повлиял на всех художников. Ведь на фестивальной выставке были представлены все тенденции современного искусства в мире, хотя далеко не в самых лучших образцах. Впрочем, я начал заниматься творчеством еще до фестиваля и, возможно, невпопад, когда это еще не было нужно. Я очень поздно понял, что быть первым невыгодно. Нужно делать как все и в нужное время. Моя проблема еще и в том, что я уехал очень рано и меня сразу вычеркнули из всех списков. Я-то занимался продвижением своих друзей на Западе, а они меня забыли, и я исчез из России, независимо от того, кто тут был первый. И только сейчас, после выставки на Ермолаевском, которая была в 2014 году, мое имя возвращается на свое место.
Г. К.: А с Михаилом Чернышовым вы общались в те годы?
М. Г.: В 1960‐е годы Миша Чернышов занимался главным образом культуртрегерством. У него все время были новые репродукции, новые книги, новые альбомы. А впервые он выставился вместе с Рогинским и кем-то еще. На Большой Марьинской был какой-то клуб, и его директор разрешил там выставки целого ряда художников, включая и группу «Движение». Помню, как там ходил великий Королев, а Нусберг ему все непрерывно объяснял и показывал. Потом ее прикрыли, и кончилось, как всегда в СССР, ничем. Но посетило ее множество зрителей. И эти выставки очень важны, потому что сейчас у каждого из бывших кинетистов своя версия истории, и настоящую историю направления очень трудно восстановить.
Вот и со Злотниковым сейчас поднимается такая же муть вокруг его имени. Злотников действительно существовал с очень ранних времен, сделал некоторое количество интересных работ под влиянием Мондриана, а также больших гротескных бытовых сцен, но быстро вышел из этого движения и занялся конвенциональной педагогической деятельностью. Нигде не принимал участия в выставках, сидел тихо. Его следующее появление на художественной сцене с декоративно-ташистскими абстракциями случилось намного позже, уже в 1980‐е годы. А теперь благодаря, наверное, его ученикам, которые хвалят его на всех углах, оказывается, что он чуть ли не первая фигура нашего времени. Я не против Злотникова, но не так это было, как пишут. И на все такие явления приходится откликаться, потому что каждый пишет историю по-своему. Иерархия нового русского искусства еще не построена, это предстоит сделать молодым искусствоведам.
Сентябрь 2016 г., Тель-Авив – Москва
Попали под раздачу…
Борис Жутовский
(Сначала мы смотрим на уже привычные фотографии молодого Жутовского на печально известной выставке в Манеже в декабре 1962 года: Хрущев, Ильичев и прочая братия… Тут как раз вскипает чайник, мы садимся за стол, делаем себе кофе и начинаем неспешный разговор.)
Георгий Кизевальтер: Так кто же снимал тогда в Манеже?
Борис Жутовский: Это был фотокорреспондент «Правды» Николай Устинов. Когда он выходил на пенсию, мне удалось через приятеля из «Советского фото» выпросить у него отпечатки. Потом уже я их переснял и стал свои отпечатки раздавать всем желающим, поэтому все фотографии, которые появляются в печати, прошли через меня.
Г. К.: Это снималось на втором этаже?
Б. Ж.: Да, которого теперь нет и где была наша выставка… Белютин тогда побаивался, что ученики его слабоваты, и обратился ко мне как к одному из своих любимчиков с предложением выставить работы кого-то из моих друзей. А у меня в это время «эксгумировалась» дружба с Эрнстом Неизвестным, с которым я познакомился в 1956 году, когда после института поехал работать на Урал и там повстречал сначала его маму, писательницу и поэтессу Беллу Дижур, а потом и его самого. Я говорю: да, давайте позовем друзей. Таким образом, в выставке участвовали Эрнст Неизвестный, Юра Соболев, Юло Соостер, Володя Янкилевский и белютинская студия. Там было три зала: в одном – эта студия, в другом – Соболев, Соостер и Янкилевский и в третьем – Неизвестный. Понятно, что, когда все это закончилось, мы оказались без работы и в полном дерьме.
Г. К.: Получилось так, что в общественном сознании того времени две выставки – экспозиция к 30-летию МОСХа и белютинская – слились в одну и вместе с белютинским этажом заодно оказалась обругана и мосховская выставка, да?
Б. Ж.: Конечно. Тут стоит начать с такой прелюдии. Белютинская студия каждое лето выезжала на пленэр. Причем выезжала, наняв пароход, который гонял по Волге и останавливался по нашему приказанию там, где мы хотели. В том году мы тоже отправились на пароходе, после чего устроили отчетную выставку – в том же флигеле на Большой Коммунистической, 9, где и занимались. А так как к тому времени мы обросли огромным числом корреспондентов и прочих знакомых, на выставку пришло несметное количество народа. На следующий день вся западная пресса писала о том, что в России есть абстрактное искусство…
Г. К.: Это ноябрь 1962 года?
Б. Ж.: Да, 26 ноября. И почти вся эта публика кинулась к Микояну, который в это время уговаривал Фиделя Кастро отпустить советские ракеты с Кубы. Карибский кризис. Микоян в недоумении звонит в Москву, там вызывают на ковер Поликарпова (был такой первостатейный подлюга, дрянь с чудовищной репутацией и биографией, заведующий отделом культуры ЦК, всем рубил головы, сейчас на Новодевичьем), но он ничего не знает. Выяснив обстоятельства, Поликарпов позвонил Белютину и предложил всем нам привезти свои картинки на выставку в Манеже. Кстати, уже на второй день нашей выставки приехали человек десять в серых костюмах и переписали всех авторов. Мы все поняли, тут же сняли выставку и разобрали по домам. На третий день приехали черные «Волги», чтобы забрать картины, а их уже не было! И вот вскоре Поликарпов предложил Белютину выставиться в Манеже. Мы собрались и решили, как дураки, что «приедет барин, барин нас рассудит»; решили выставляться. Ночь мы все это вешали, целую ночь. Нас было 14 человек, всем дали пропуск. А наутро предстали пред светлые очи; так все и произошло.
Г. К.: Что за человек был Элий Белютин?
Б. Ж.: Это был, безусловно, талантливый педагог. Тем более что окончил он пединститут. Это раз. Во-вторых, он был единственный в то время – ведь не с кем было сравнивать! И как педагог он был любопытен. Но как человек он был сумасшедшее чудовище. Капризный, вздорный, малоприятный в общении. Сам он жил вкусно, потому что торговал графикой, картинами. Помню, как-то раз он открыл шкаф (роскошный шкаф XV века!) и достал оттуда толстую пачку рисунков из Дрезденской галереи.
Г. К.: Откуда они у него?
Б. Ж.: Думаю, ворованное. Вообще, по слухам, он брал все, хотя я этому и не верю. Скорее всего, он наменял эти рисунки, потому что это был его всегдашний заработок. А когда мы ему давали какие-то копейки за обучение, он говорил: «Уж мне эти ваши деньги!» Ведь что такое белютинская студия? Был такой комитет художников книги, графики и плаката, так называемый Горком. Создан он был в 1935 году, потому что имелось огромное количество внештатников, которых надо было как-то собрать. В общем, в Горкоме сделали тогда маленькую щель, через которую пытались выпустить пар. Председатель Горкома Евгений Курочкин, человек воевавший, очень благосклонно к этому относился. При комитете организовалась студия повышения квалификации – Белютин начал преподавать там с 1958 года. Официально это называлось «Курсы повышения квалификации при Горкоме художников книги, графики и плаката».
Потом он организовал свою студию и в Доме моделей трикотажа, и на Кузнецком. У него были три или четыре такие группы. Вот они все и ездили на пароходе. И это все живет до сих пор!
Г. К.: В какой форме?
Б. Ж.: Он существует как легенда! Кто-то из больших начальников сказал ему: «Что ты все это делаешь в Москве? Поезжай за город». Он купил дачу в Абрамцево, и там они стали царствовать и учиться. Буквально на прошлой неделе мне позвонила Рябишка[28]28
Инесса Васильевна Рябинина, художник студии Белютина.
[Закрыть] (была в Доме моделей трикотажных изделий такая художница) и рассказала, что они до сих пор на этой даче живут, рисуют и неистовствуют, потому что вроде бы откупили эту дачу у Молевой… Она сама жива и здорова и только что устроила «дар президенту» в виде Леонардо да Винчи и Кранаха! Это был грандиозный скандал. Легенда звучала так: когда они въехали в свою теперешнюю квартиру на Суворовском бульваре, под потолком они обнаружили какие-то схроны, где были спрятаны картины Леонардо да Винчи, Кранаха и т. п. И вот эту коллекцию она решила подарить президенту. Разумеется, президент якобы приезжал, но даже кофе не выпил… Молева – грандиозная мошенница и мифотворец. Когда она издала книжку про 1962 год в Манеже, я ее почитал – сплошное вранье… Поэтому понятно, что никакой президент не приезжал и никакого подарка не было. Вот такая история. А для тех художников из студии Белютина дача была большой отдушиной в жизни.
Г. К.: В какие годы вы занимались у Белютина?
Б. Ж.: С 1957 по 1961 год.
Г. К.: То, что вы все у него делали, называлось абстракцией?
Б. Ж.: Нет, там было все: и пейзажи, и натюрморты…
Г. К.: Но вы сами занялись тогда же абстракцией? Так сказать, сами по себе?
Б. Ж.: Да, это приветствовалось. Хотя сам Белютин не говорил: делайте абстракцию. И ни одного из нас он никогда не пускал в мастерскую, которая якобы была. Первый раз я увидел, как и что он рисует, на пароходе. Он рисовал тушью, какая-то смятая бумага была, рисовал экспрессивно, но это не была абстракция: он рисовал людей, то есть это был фигуратив, а больше никто никогда ничего не видел.
Г. К.: А разве на выставке в Манеже его работ не было?
Б. Ж.: Нет, что вы! Он был гуру, а гуру должен оставаться таинственным. Много врать и напускать тумана…
Г. К.: Формальный вопрос: когда вы окончили институт?
Б. Ж.: Я окончил Полиграфический в 1956‐м.
Г. К.: В то время вы как-то ощущали «оттепельные» изменения в социуме? Чувствовался ли интерес к абстракции и другим «измам»? Или это проходило мимо вас?
Б. Ж.: Ну конечно, чувствовали! Первая весна была прелестна. Мы устраивали выставки черт знает где, и мы не оглядывались, хотя после выставок директоров снимали! Сняли директора Дома кино, сняли директора Дома культуры на шоссе Энтузиастов, хотя туда приезжал Евтушенко, стоял крик и гам, но… И эта весна была для всего: раскрылось кино, зарождались новые театры, пошла новая литература – все рвались порадоваться! Возникло немалое число художественных групп. Как говорил Костя Рудницкий, «настало время делать искусство шайками»! Появляются команды Белютина, Оскара Рабина, кинетистов с Лёвой Нусбергом, ну и немалое количество одиночек вроде Краснопевцева, Шварцмана и т. п. Горком устраивал выставки живописи, графики, книги, плаката – у меня есть материалы 1961 года – написано: «первая выставка», обсуждение; все рвались, и всем хотелось, и все выставлялись сломя голову, не оглядываясь. Я помню, как на выставку в доме Герцена на Пушкинской пришел старик Алпатов! У меня есть фотография, где выставку открывал Борис Слуцкий. Все это было до 1962 года. Это была весна – робкая, но весна по сравнению со всем тем, что было до этого. А раньше я много путешествовал. Куда бы я ни ехал в те годы, я должен был получить разрешение, а приехав на место, его предъявить. Будь то Карелия, или Саяны, или Памир…
Так что «весна» была истерической – так всем хотелось свободы. И все закончилось в конце 1962 года. Почему, в чем было дело? Я много раз задавал себе этот вопрос… мосховская девятка – Андронов, Никонов и т. д. – рвалась к власти. Реформы и перемены в нашем сознании означали только одно: захватить власть. Другой формы существования мы не представляли (мы же сталинские люди!). Эта девятка рвалась к власти в Союзе художников, и выставка к 30-летию МОСХа была замыслена держащими стариками для того, чтобы дискредитировать эту команду. И привезли для этого Хрущева. Я помню, после того как меня четырежды облили говном, я вышел покурить в маленький коридор между тремя залами. В это время Хрущев – после Белютина – перешел в зал, где были Соостер, Янкилевский и Соболев. Там он уперся в Соостера и привычно запел: «Да вас всех сажать надо!» А Юло ему отвечает: «А я уже сидел семь лет». И Хрущев быстро оттуда ретировался.
Я стою себе, курю. В это время из зала выходят Серов и Преображенский, который как бы «вел экскурсию». Они посмотрели на меня как на пустое место, после чего Серов обнял Преображенского и сказал: «Как здорово мы все это сделали!» Я даже папиросу уронил… Им хотелось все вернуть в прежнее состояние: свои льготы, свою власть… Вот в чем было дело. А мы просто случайно попали под колеса этой машины, под разборку. Это было случайное совпадение многих обстоятельств вследствие того, что мы невпопад устроили выставку, корреспонденты подняли шухер, Поликарпов взбесился, потому что не знал, что делать, и т. д.
Никоновцам, висевшим внизу, в основной экспозиции, тоже досталось. Там же стояли скульптуры Неизвестного, потому что он был членом союза (у нас был еще один член союза – Леонид Рабичев). Так что смысл этой акции состоял в том, что старикам надо было разгромить новых претендентов на власть, и тогда это удалось.
Г. К.: А вы когда вступили в МОСХ?
Б. Ж.: В 1969‐м, как художник книги. Бюрократия требует своего, а без членства в союзе жизнь была совсем тоскливая.
Г. К.: Как складывалась жизнь после Манежа: вы продолжали что-то делать для себя в условиях отсутствия выставок?
Б. Ж.: Конечно! Три большие программные картины у меня потом купило семейство шоколадного короля из Кельна, Людвига. Они представлены в начале коллекции русского искусства, где Володя Янкилевский, Эдик Штейнберг и я.
Г. К.: Любопытно: кем вы себя считали в те годы: официальным художником, неофициальным художником или просто художником?
Б. Ж.: Ну, наверное, просто художником. Ведь что такое неофициальный художник? Это значит встать в конфронтацию с властями предержащими. И все. А это скучно.
Г. К.: Вы интересовались в те годы западным искусством?
Б. Ж.: А как же!
Г. К.: И кем конкретно?
Б. Ж.: Первым, в кого я был влюблен, был Матисс. Потом Клее. Потом очень короткое время Сальвадор Дали. Дальше очень долго был влюблен в Пикассо.
Г. К.: И где вы находили о них информацию?
Б. Ж.: Все приносили картиночки… Меня же выгнали из художественной школы за то, что я принес маленькую книжечку о Модильяни. Для нас эти книжечки были полным откровением, при том что мы не понимали, откуда, как и что. Но это нас ужасно привлекало, и каждый носил такие книжечки и картиночки, напечатанные в 1910–1920‐е годы. Позже появились и современные книги, привезенные в подарок. Как правило, эти корреспонденты, бравшие наши работы, денег нам не платили, а привозили потом две-три монографии. А пока мы учились, конечно, кто-то знал больше, кто-то меньше; у кого-то родители были художники, и это имело значение.
Г. К.: А Полиграф относился к либеральным заведениям?
Б. Ж.: Конечно! Как нам говорили преподаватели: «Мы вас учим вкусу. А мастерство вы должны потом наработать сами». Вообще основная наша проблема заключалась в образовании и воспитании. Уходило дикое количество лет на то, чтобы поумнеть и понять, что и как в этом мире устроено.
Г. К.: Кто в те годы оказал на вас наибольшее влияние?
Б. Ж.: Конечно, Белютин и Дмитрий Иванович Архангельский, художник из Симбирска (Ульяновска). Он также был учителем Аркадия Пластова. В музее в Ульяновске на сегодняшний день есть два этажа его акварелей и улица, названная его именем. Но умер он под Москвой, в Удельной, куда зарылся с семьей на много лет.
Отмечу, что Белютин был педагог, а Архангельский – Учитель. Это разные вещи.
Г. К.: Какие связи и знакомства к моменту Манежной выставки оказались наиболее важны?
Б. Ж.: Ну, с Юрой Соболевым мы учились вместе в институте. Когда возникла ситуация с выставкой, я пригласил Юру, а он очень сильно дружил в то время с Юло Соостером. А Соостер обитал в драной мастерской где-то на Серпуховке вместе с Кабаковым. Так, собственно, и возникла вся компания, или «группа»: Эрнст Неизвестный, Юра Соболев, Юло Соостер, Володя Янкилевский, я, и еще был Толя Брусиловский. Но он организовал потом какуюто выставку в Италии в галерее Il Segno, если не ошибаюсь, а когда мы стали спрашивать его о наших работах, он сказал, что ему их не вернули. Позже выяснилось, что он их продал, а деньги зажал. И мы его из приятелей выгнали, что называется.
Г. К.: Как же организовывались эти загадочные выставки на Западе в 1960‐е годы?
Б. Ж.: Работы понемногу вывозили дипломаты, журналисты. Тогда вокруг нас вращалось огромное количество журналистов. После 1962 года моя мастерская просто не закрывалась, потому что всем было интересно, что же это за художник. Я недавно подумал, что все это было наследием жизни при Сталине, при его системе: если на него закричал вождь, значит, он состоятелен, достоин, на него надо пойти посмотреть. Хотя я в то время был только начинающим художником. Приходил Костаки, какие-то мидовские ребята: всем было любопытно.
Г. К.: И вы бывали у Костаки?
Б. Ж.: Конечно. Ну, его биография достаточно известна: шофер и завхоз канадского посольства. И вдруг на него сваливается все наше наследие. Например, Валентин Воробьев устроил ему огромную коллекцию Ольги Розановой – за копейки! А таких примеров полно; он платил везде копейки…
Г. К.: …потому что никому это не было нужно…
Б. Ж.:…и так он собрал хорошую коллекцию…Вот я часто об этом думаю: как, каким образом на гребне политики, литературы, искусства иногда оказываются люди, которые до этого были как бы ничем? Например, нынешний папа римский Франциск был когда-то вышибалой в баре. Шофер, собравший коллекцию авангарда, – это в том же ключе, это «нормально». Или ефрейтор, руководящий страной. Все в русле неутихающего тщеславия…
Или вот такая история. Я много лет работал в издательстве «Молодая гвардия». Меня там любили. И вот смотрю, ходит по коридору какой-то несчастный, серенький человечек. Разговорились… «Вот, приехал я из Тбилиси, не знаю, как тут жить, что делать?» Я вспомнил про свободную комнату у сына главного художника, позвонил, порекомендовал этого парня. Это оказался Саша Глезер, который устроил нам в 1967 году первую выставку в Тбилиси. Был и каталог издан. И вот Саша вился, вился вокруг нас, но все наши – что Соболев, что Соостер, что Неизвестный – люди с большим самомнением, не подступишься. И тогда он перебазировался к Рабину и начал всех упрашивать дарить ему картинки. У меня он тоже выпросил одну картинку, дал пять рублей и сказал, что придет еще. Когда пришел, я почему-то решил не открывать ему. Тогда он стал ковырять в замке своим ключом, пытаясь открыть дверь мастерской. К счастью, не открыл… В общем, не очень приличный был человек[29]29
Комментарий Лианы Рогинской: «Рихтер и Волконский, люди большой культуры, безусловно, были коллекционерами, покровителями искусств и художников (в случае Рихтера это была, если можно так выразиться, монокультура). Русанов и Вадик Столляр собирали из интереса и по дружбе. Глезер был большим энтузиастом, которому мешали непрофессионализм и иногда попросту нехватка вкуса, что сказалось на его коллекции, где наряду с Вейсбергом или Мастерковой было полно кошмарного московского и питерского сюра типа Кандаурова. Эта всеядность впоследствии очень отрицательно сказалась на отношении к российскому искусству на Западе.
По поводу Кандаурова такой анекдот: когда Саша Глезер решил уехать, определенное количество людей, которые тоже собирались уезжать, дали ему деньги на покупку картин, поскольку у него была возможность вывозить их. На Западе эти картины должны были быть проданы, а выручка поделена, не знаю, в какой пропорции.
Короче, Саша решил ехать к Кандаурову, приобретать шедевры. Предложил мне поехать с ним, я уклонилась от чести, и поехала Лорик, впоследствии Лариса Пятницкая. Привезли орясину, чудовищную. Заплатил 500 рублей, что по тем временам было очень много. Когда Оскар узнал об этом, он был в ярости: ведь все „лианозовцы“ продавали Саше за копейки – по дружбе. После драматической сцены пришлось Глезеру отвезти работу обратно.
Таких историй полно. Я не хотела бы очернять Глезера, я в общем-то ничего против него не имею, но эти инвесторы, о которых я говорила выше, не получили ни копейки от продаж на Западе, и мне кажется, эти вещи должны учитываться тоже».
[Закрыть].
Приличными людьми были Краснопевцев, Шварцман – люди с достоинством по жизни.
Г. К.: А они тоже ходили к Белютину?
Б. Ж.: Нет. Шварцман приходил два раза к Белютину и предлагал ему тоже вести занятия. Но для Белютина это было неприемлемо. Помню, как-то раз на пароход к нам подсели три известных художника, так Белютин с каждым днем свирепел все больше, и в конце концов они сошли. Он был очень ревнив.
Вообще, оглядываясь назад, вижу, что во всех этих обстоятельствах было мало чего приличного. Были азарт, желание славы, успеха в жизни, а поскольку мы все были неопытны, все это носило, я бы сказал, хамский характер. Не думаю, что я был чем-то лучше. Хотя для меня успех в жизни стал потом менее важен; мне важно самосовершенствование. Это очень важно. Успех в жизни – вещь случайная и преходящая. Успеха хотели все, но никто не понимал, что сначала надо обсудить цену этого успеха. А самосовершенствование… Как говорится, кто виноват, что ты ничего не делаешь? Подойди к зеркалу, посмотри! Нельзя предавать друзей – это стыдно. Хотя сейчас я стал снисходительнее, я понимаю, что у нас все, как у людей… Вот, Володя Янкилевский написал в воспоминаниях, что в Манеже на самом деле было два человека: он и Эрнст Неизвестный… Хотя как раз два человека – Янкилевский и Юра Соболев – оказались тогда «обойденными» вниманием Хрущева… Володя старательно делает себе биографию. Вероятно, он полагает, что ни фотографий, ни записей, ни других воспоминаний нет и не было. И потом, чем гордиться-то? А у него совершенно неуемное тщеславие, заставившее его перессориться со всеми, включая добрейшего Эдика Штейнберга.









































