Читать книгу "Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы"
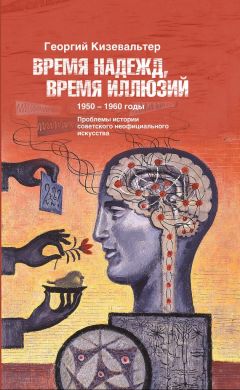
Автор книги: Георгий Кизевальтер
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Хочу в заключение добавить, что мои высказывания и приведенные факты носят все же неполный, выборочный характер. Поэтом прошу простить всех, кого я не упомянул как пионеров или флагманов движения Новой музыки.
Февраль 2017 г., Москва
Мы понимали, что нужно что-то менять
Павел Никонов
Георгий Кизевальтер: Я хотел бы начать с упоминания того факта, что вы были одним из центральных героев 1950‐х. В прессе вас и ругали, и хвалили; во всяком случае, вы были в центре внимания.
Павел Никонов: Ну, тогда было много героев. А началось все с Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. На мой взгляд, это был переломный момент. Многие говорят об «оттепели», но в изобразительной культуре все началось с фестиваля. До 1957 года наши фонды были закрыты, информации по западной живописи не было никакой, да и не только по западной – по нашему авангарду тоже ничего не было. Все это существовало только в виде слухов, а конкретно мы ничего не видели. И вот на фестивале открылась некая щель. (Хотя приехали туда в основном ребята из Латинской Америки, Африки, Азии.) В Парке культуры имени Горького был один павильон, называвшийся «Шестигранник»: там проходили выставки наших художников, а тут нужно вспомнить, что, кроме залов на Кузнецком, 11 и 20, ничего не было. А те залы были достаточно привилегированными, и нам, молодежи, выставляться там было совершенно нереально. И вот в этом «Шестиграннике» организовалась студия для художников, приехавших из разных стран. Там мы впервые увидели абстракцию в исполнении этих молодых авторов. Они работали открыто, и туда кинулись все, кто хотел что-то узнать, увидеть, услышать. Туда прибежали Эрнст Неизвестный, все «лианозовцы», все, кто потом поднялся в нашем андеграунде или полуофициальном, «левом МОСХе»: Николай Андронов, Олег Целков, Эдик Штейнберг, Володя Вайсберг[36]36
В то время фамилия Вейсберг многими произносилась именно так. (Прим. Г. К.)
[Закрыть] и т. д. Эта студия стала толчком для свободного волеизъявления. А для меня (я был немного моложе и менее информированным, чем другие) толчком стал момент, когда наши работы вывесили (в советском павильоне), а рядом висели другие художники. Помню какого-то англичанина, написавшего портрет шахтера и получившего медаль, по сравнению с нашими работами это был просто шедевр. Наши выглядели консервативными, зажатыми, черными… В общем, мы поняли, что нужно что-то менять.
Г. К.: Однако вы не занялись абстракцией после фестиваля, а стали искать что-то под себя…
П. Н.: Я не стал заниматься абстракцией, потому что не знал, как к ней подобрать ключи. Не был к ней готов. Но потом пошли другие события. Во-первых, я тоже был награжден медалью, но не золотой, а серебряной. Еще один скульптор, Олег Фивейский, получил золотую медаль. И стали говорить, что нас наградят неким путешествием на Запад, но кончилось это тем, что нас отправили в Чехословакию. Это была моя первая и последняя поездка за границу в советское время. Сама Чехословакия на меня особого впечатления не произвела, а жил я в квартире председателя Союза художников Чехословакии, женатого на сестре Бурлюка. Однажды я стал пылесосить там комнату и уперся во что-то под кроватью. Смотрю, там кипа дореволюционных и белоэмигрантских журналов! И я уже больше никуда не ходил, а залез в эти журналы с головой. Это стало моим первым знакомством с другим искусством. Я увидел таких художников, как Шагал, Борис Григорьев, и других наших уехавших эмигрантов. С этого момента начался интерес к другой изобразительной культуре.
А потом «возникла» искусствовед Мюда Яблонская, работавшая в Третьяковке. Она нас провела в запасник в церкви, и там мы впервые увидели «бубнововалетовцев» и других авангардистов.
Г. К.: А когда это было?
П. Н.: Это было примерно в 1959–1962 годах.
Г. К.: Но к этому времени вы уже начали делать свой так называемый «суровый стиль»?
П. Н.: Нет, он возник немного раньше; это было общее движение, общий порыв. Я помню пятую молодежную выставку 1959 года, где Гелий Коржев выступил с «Влюбленными», у Неизвестного была великолепная скульптура «Торс» – если я не ошибаюсь, он же был и на фестивале; была хорошая серия «Окраины Москвы» Оссовского, у Андронова – «Куйбышевская ГЭС». Так, не сговариваясь, все выступили с работами, которые легли в основу этого «сурового стиля». И тогда все началось.
Г. К.: Но дружили вы в основном с Андроновым, Егоршиной?
П. Н.: У меня есть старший брат Михаил, и он стал инициатором «группы восьми». Туда входили мой брат, Николай Андронов, Наталья Егоршина, Михаил Иванов, Володя Вайсберг… А когда я вернулся из Чехословакии, то и меня вовлекли в эту группу. То есть это было достаточно широкое движение. Фактически лидировали там Коржев, Петр Оссовский, Андронов. Позже туда вошли Таир Салахов, Виктор Попков и другие.
Г. К.: А вы встречались друг с другом и обсуждали свои работы?
П. Н.: Очень часто! Это был у нас почти обряд. Володя Вайсберг к этому особенно ревниво относился и считал, что нам обязательно нужно периодически встречаться, показывать свои работы, обмениваться мнениями… Еще там организующим началом служил Борис Биргер. Фактически это была первая группа после всех запрещенных до 1932 года объединений в СССР.
Г. К.: Интересно, что в журнале «Лайф» в 1960 году неким Маршаком была сделана публикация о советских художниках, куда попали Наталья Егоршина, Анатолий Зверев, Дмитрий Краснопевцев и другие. Почему, как вы думаете, он выбрал именно Наталью?
П. Н.: Потому что она была самым ярким и одаренным явлением в нашей группе. Она невероятно громко прозвучала в самом начале и в конце своей творческой жизни. И своим мощным выступлением могла заинтересовать этих искусствоведов.
Г. К.: Еще туда был включен Юрий Васильев по прозвищу Мон.
П. Н.: Да, был такой. Но это я не совсем понимаю. Он учился с моим братом в институте, но я не разделял интереса к нему. Я знал его с разных сторон, и он мне не казался интересным художником.
Г. К.: Как вы думаете, почему одни художники из этого круга ушли в эксперименты с формой/цветом/светом, как, например, Вейсберг, а другие, как вы, допустим, сохранили приверженность этому стилю? В чем причина?
П. Н.: Я пытался опереться на какие-то традиционные истоки нашего искусства, поэтому после нескольких картин, которые сделали меня «родоначальником» «сурового стиля», я почувствовал какую-то пустоту, уехал в деревню и почувствовал, что надо мне с натуры работать. Мне этого как-то не хватало, как я понял. А Володя созрел как художник, как личность значительно раньше, он уже прошел через эти этапы и опирался на опыт художников типа Сезанна.
Почему, кстати, возник этот «суровый стиль»? Почему молодые художники того времени обернулись к таким как бы героическим темам? В этот момент наше официальное искусство претерпевало невероятный кризис, и обозначался он тем, что на официальных, всесоюзных выставках появилась некая форма мелких, слащавых жанров. Мы это видели и знали о том, что существовал Дейнека со своей «суровой» культурой…
Г. К.: А его разве не выставляли?
П. Н.: Что вы! Он был запрещен, снят с поста директора МИПИДИ, фактически репрессирован!.. Так вот, появилась эта мелкая, слащавая жанровость. В чем причина? Например, картина некоего Григорьева, если не ошибаюсь, «Вернулся»: стоит какой-то жирный человек в кожанке и с чемоданом в руке; на него с укором смотрит женщина, окруженная детьми. Вроде вернулся в семью, которую когда-то бросил?
Далее: «Прием в комсомол»… «Исключение из комсомола»… «Вселение в новую квартиру» Лактионова… Мы помнили его «Письмо с фронта», это была мощная картина, а тут кто-то входит с фикусом. Или Решетников – «Опять двойка». Утвердилась вот такая сусальность. Но больше всего нас поразила маленькая картина, получившая Сталинскую премию: суворовец идет по мосту, вероятно, возвращается с парада, окруженный девочками с бантиками, а название такое – «Он видел Сталина». И это было отвратительно. Или: муж моет посуду, ругается с женой. Вдруг пошел наплыв таких картин. Нам показалось, что эта культура просто все заполонила, другого ничего не рисовали.
А жизнь была совершенно другой. Мы захотели поднять другие стороны жизни. Тем более что тогда действительно начались все эти стройки. Так что интерес к «другой стороне» жизни был спровоцирован засильем этой бытовщины, получившим вдруг официальную поддержку. Но нужно сказать, что к нам, молодым в то время художникам, с большим вниманием отнеслась старшая плеяда художников, которая в 1930–1940‐е была вытеснена из жизни и творчества. Например, был такой Константин Вялов из ОСТа, Дейнека, купивший у меня «Рыбаков», Фальк и многие другие. И произошла спайка людей пожилых, которые все репрессивные годы уже пережили, и молодых. Это было очень интересное явление. Мы познакомились тогда с Кончаловским, ходили к нему в мастерскую. Но многих мы просто не знали, например Никритина. Он приходил на комиссию, сдавал что-то, у него не принимали. Опять приходил. Было его жалко, но его имя нам ничего не говорило. А Вялов мне просто говорил: «Ты что думаешь, Никонов, вы что-то новое придумали? Да было все это уже!» Только потом мы увидели его работы в Третьяковке.
Г. К.: В 1962 году, когда Хрущев разгромил выставку в Манеже, вы ведь там участвовали. Вам тоже досталось?
П. Н.: Это событие преувеличено. Это была инициатива советской номенклатуры в сфере культуры, особенно литературы. После истории с Пастернаком вся эта номенклатура была возмущена. Как мне кажется, в основе была элементарная ревность, что «Доктора Живаго» взяли и напечатали за рубежом. Началась жуткая травля, Пастернак отказался от Нобелевской премии, но им надо было это дело как-то развивать. А процесс этот захлебнулся, потому что он умер. Однако им хотелось реванша, какой-то серьезной победы. И тут возникла фигура Серова[37]37
Владимир Александрович Серов (1910–1968) – советский живописец и график, президент Академии художеств СССР в 1962–1968 годах. Лауреат двух Сталинских премий (1948, 1951).
[Закрыть]. Он очевидно рассчитывал стать президентом Академии художеств, но для этого ему надо было совершить нечто необыкновенное. И тут настало время этой выставки к 30-летию МОСХа. А в тот момент изобразительное искусство как-то вышло вперед прочих. С самого начала, когда формировался состав участников, у Шмаринова, возглавившего выставком, возникла идея. А я был членом выставкома вместе с Андроновым и Мишей Ивановым. Шмаринов собрал выставком и сказал: «Нам бы хотелось показать всех художников, которые были в МОСХе в 1930‐е годы» – ведь многие были репрессированы. И он предложил найти этих художников. Нам дали адреса, сказали, ходите по мастерским, ищите… И вот мы стали приносить на выставком их работы. Мы узнали, что есть такие художники, как Древин, Фальк, Щипицын, Щукин… Мы их вытащили на свет. Для нас это было просто открытие. Но многие члены выставкома говорили: «А зачем нам эта поддиванная живопись?» И действительно, художники эти работы часто доставали из-под дивана!..Вопрос был поставлен на голосование, но нас было большинство. Тогда часть выставкома вышла в знак протеста. Это уже был конфликт. В это время еще подвернулась выставка студии Белютина на Б. Коммунистической. И Серов понял, что из этого можно сделать колоссальную провокацию. Были разосланы пригласительные билеты, хотя в то время такие выставки были закрытыми. И выставки нашей группы были закрытыми – как бы для внутреннего просмотра. А тут вдруг пригласили все посольства и иностранную прессу. После открытия Ильичев[38]38
Леонид Федорович Ильичев (1906–1990) – советский философ и партийный деятель. В 1961–1965 годах секретарь ЦК, председатель Идеологической комиссии.
[Закрыть] положил подборку материалов на стол Хрущеву: «Абстракция на Коммунистической улице». До этого Хрущев отказывался идти на ту выставку. А тут он не мог не реагировать. Поэтому он пришел такой взвинченный и стал на всех орать… Но нужно сказать о том, что часто опускают в рассказах: после всех коммюнике и обсуждений, после встречи с творческими союзами на Воробьевых горах, куда свезли работы в качестве доказательств, все вернули на выставку, и выставка продолжала работать.
Г. К.: Однако считается, что после этой выставки все либеральные тенденции в культуре были задушены.
П. Н.: Нет, это неверно. Окончательный кризис наступил гораздо позже, когда начался процесс над Даниэлем и Синявским[39]39
Осенью 1965 года А. Синявский (А. Терц) был арестован вместе с Ю. Даниэлем (Н. Аржак) в связи с их разнообразными публикациями на Западе. В феврале 1966 года они были осуждены по статье 190-1 на семь лет ИТК и пять лет лагерей соответственно.
[Закрыть], когда стал выступать Галансков[40]40
Имеется в виду «Процесс четырех» – дело Гинзбурга, Галанскова, Добровольской и Лашковой, арестованных в январе 1967 года. В результате процесса в январе 1968 года они были приговорены к разным срокам заключения.
[Закрыть], когда начались чешские события и демонстрации протеста[41]41
Август 1968 года.
[Закрыть]. Но это были уже брежневские времена. Что касается выставочной деятельности, изобразительного искусства, то джинн уже был выпущен из бутылки: обратно дороги не было. Уже пошли разнообразные западные выставки, было открыто всё. И кто-то правильно сказал, что «оттепель» в изобразительном искусстве была гораздо более ярким, более значимым для нас явлением, чем горбачевская перестройка. Это было время, когда занавес открылся, пошла информация оттуда – и книги, и выставки, и мы уже все могли видеть.
Г. К.: Любопытно. А вы общались с «лианозовцами» и другими независимыми?
П. Н.: Конечно, общался.
Г. К.: Но их ведь уже не допускали потом на выставки!
П. Н.: Дело вот в чем. Это были очень хорошие, талантливые ребята. Рабин мне очень нравился, Эдик Штейнберг, Яковлев. Но они уж очень политизировались. И в их выступлениях, и в их работах, особенно у Рабина, это чувствовалось. Они все подавали документы на прием в Союз художников. Рабин в начале 1960‐х не прошел одним голосом. Когда человек не проходит одним голосом на заседании секции, по уставу он имеет право подать апелляцию на заседании правления, а в правлении был уже более прогрессивный состав художников за счет разных секций. Мы с Попковым за него болели, вместе подошли потом к Оскару, и я говорю ему: «Оскар, ты имеешь право подать апелляцию, и ты пройдешь, только не приноси некоторые работы – вот эти с паспортом, бутылкой „Столичной“ и селедкой на газете „Правда“ и т. п. Ну зачем ты их показываешь, зачем гусей дразнишь? Твоя задача – поступить в МОСХ, и все уже знают прекрасно эти работы. Не надо! Пройдешь – живи, как хочешь!» Рабин апелляцию не подал, а позже, когда уехал за границу, в интервью говорил: «Вот, я подавал заявление, а меня не приняли!» Для него там это был козырь! Они оказались в такой ситуации, когда интерес к ним со стороны западной прессы подогревался только этой стороной. Главным было наличие скандала. И ребята, к сожалению, поддались.
Г. К.: Но надо отметить, что Рабин участвовал во многих выставках еще в 1950‐е!
П. Н.: Конечно, во многих участвовал! И художник он был великолепный. Если бы он вернулся… Как Эдик Штейнберг – и там жил, и в Тарусу возвращался! И это его даже как художника подогревало – он получал какой-то импульс здесь. А Оскар, конечно, оторвался… И мне было за него очень обидно.
Г. К.: Хорошо, а с какими-то другими художниками вы общались?
П. Н.: Мы были очень дружны с Олегом Целковым. Он очень ценил моего брата. Вообще, явление Целкова в искусстве было настолько своеобразным и ярким, что он был кумиром для нас. Как-то раз были у него на выставке. Официально выставиться этим ребятам было невозможно, но физический институт имени Курчатова, Институт крови и прочие НИИ могли это устроить, им это разрешалось. Так что были такие полуофициальные выставки, и они выступали на них очень здорово, и Олег в том числе. И то, что они потом уехали, это был не совсем точный ход с их стороны.
Г. К.: В общем, на вашу группу эти художники никакого влияния не оказали.
П. Н.: Думаю, что это были параллельные пути. Володя Вайсберг как-то общался и с теми, и с другими. Он бывал у Костаки, а мы в той тусовке не участвовали.
Г. К.: Однако ваша линия вскоре значительно усилилась, вы стали занимать посты уже в 1960‐е, не правда ли?
П. Н.: Мы занимались общественной работой очень активно, но это никак не сказывалось на нашем материальном состоянии. Почему советская номенклатура почувствовала опасность со стороны нашего активного движения? Они видели в нас угрозу для своего материального положения и социального статуса. А для нас это не играло никакой роли. Материально мы жили, как и все, и нам нечего было терять. Да, была неплохо поставлена система заработка через фонды – «Росизо» и т. п. Можно было принести работу на совет, тебя принимали, вешали в салоне, потом стали заключать договоры ехать в колхозы, выполнять заказы. А настоящая номенклатура пользовалась тем, что занимала посты, и заключала совсем другие договоры. Суммы были совершенно разные.
А когда мы стали членами правления (Миша Иванов был даже членом президиума МОСХа), это нам ничего не принесло, потому что те (старые) просто не пускали нас в свою кухню. Мы были в составе советов, которые распределяли работы, но номенклатурой не становились. «Сталинская гвардия» очень долго держалась за свои привилегии, до 1970–1980‐х годов. Основным источником были закупочные комиссии, а нас туда и не пускали, и не покупали. И за границу нас не пускали.
Г. К.: А с Булатовым, Кабаковым и их кругом вы были знакомы?
П. Н.: Они были в секции книжной графики; у них были заказы, материально все было хорошо, но они четко разделяли свою творческую жизнь: это – для заработка, а вот это – для выставок. Но тоже были очень политизированы. И еще были настроены на то, чтобы получить признание за рубежом. И это им удалось. Возникло целое направление – соц-арт. У Эрика была замечательная работа: женщина (это его мама) сидит перед телевизором, ее фигура развернута вполоборота со спины, смотрит «Время», и этим все было сказано. Я бывал у них в мастерских; мы вместе учились в художественной школе, только Кабаков был тогда Толей, почему он стал Ильей, я не знаю. Потом были с ним в одной волейбольной команде, так что мы хорошо были знакомы.
Г. К.: Читая прессу 1950‐х, я обратил внимание, что тогда было очень много шума и дебатов вокруг абстракции и других «измов»; одни требовали громить и давить, другие защищали «новые» направления и пытались что-то объяснить.
П. Н.: Это все подогревалось тем фактом, что наш авангард долгое время был спрятан от зрителей. Запреты всегда подогревают интерес! Я помню день, когда открылась та выставка к 30-летию МОСХа в Манеже. Да, интерес был, ничего не скажу. Но, как только после визита Хрущева выпустили коммюнике, на следующий день вокруг Манежа стояла очередь на несколько лет, потому что напротив был Университет с искусствоведческим, и уже случился скандал! То есть любая критика приводила к обратному результату. Любой скандал только подогревал интерес.
Г. К.: И примерно то же самое происходило с успехом Глазунова в 1950‐е годы.
П. Н.: Да, я хорошо помню его первую выставку в ЦДРИ, серию его дипломных листов, посвященных Достоевскому… Он эту выставку долго пробивал, потом приглашал каких-то нужных людей и был настроен на то, чтобы выставка прозвучала любой ценой.
Г. К.: Его «Обнаженная утром» стала притчей во языцех и поводом для скандала…
П. Н.: Конечно, он прекрасно понимал, что только через скандал можно обрести какую-то популярность! А потом это многие стали использовать.
Июль 2016 г., Москва
Нас объединяла только общая судьба
Оскар Рабин
Георгий Кизевальтер: Я бы хотел поговорить сегодня о 1950–1960‐х годах. Мне кажется, что в начале движения за свободу творчества многое было связано с Союзом художников. Вы ведь тогда участвовали во многих выставках?
Оскар Рабин: Нет, я не участвовал в выставках Союза художников. Только в рамках выставки Фестиваля молодежи и студентов. Да, при Московском отделении Союза художников была организована молодежная секция, но там проводился свободный, независимый конкурс на участие в ней. Проводились просмотры в несколько этапов, выставком отбирал работы. Кстати, в выставкоме были два человека, с которыми я вместе учился в Суриковском институте. Они уже окончили институт и даже сделали себе какую-то карьеру в Союзе художников, но я-то не имел к ним никакого отношения, абсолютно. На тот момент я уже долгое время работал на железной дороге десятником. И рисовал просто для себя, в свободное от работы время. Как правило, это были обычные этюды, которые писали все художники. Независимо от того, что те ребята занимались официальными заказами в то время, как я был десятником, каждый считал себя художником и в свободное время писал этюды просто для души.
А с Союзом художников у меня ничего не получилось. Один раз я попытался нарисовать тематическую картину на «их» тему. Конечно, я выбрал не политическую, не Ленина-Сталина. Это был сюжет о рождении советского ребенка, как его радостно приносят домой, весна, все вокруг цветет и т. п. Отнес эту картину в Союз художников и надеялся, что ее хоть как-то одобрят, но нет, не одобрили. Я даже на их среднем, сером уровне не подходил им, это я и сам понимал. Многие мои друзья-художники могли сделать картину практически в любом стиле; они могли следовать какому-то стилю и преуспеть в нем, на что я не способен, знаете, я однобокий такой. Я не берусь судить о своем творчестве, но я могу сделать хорошо только то, что делаю от души, от себя. С этим и связано то, что я не увлекался никакими направлениями в искусстве XX века, несмотря на то, что это было очень заманчиво и многим было трудно противостоять соблазну. Это были дороги, по которым развивалось передовое искусство в то время. Помню, ко мне приехал то ли в первый, то ли во второй раз Георгий Костаки, похлопал меня по плечу и сказал: «Ты не расстраивайся, это постепенно придет. Нельзя вот так сразу взять и перейти от предметного искусства к абстракции». По сути, тогда считалось, что может существовать только абстрактное искусство, а концептуального еще не было. Он с очень добрыми намерениями подбодрил меня, и помню, что я даже попробовал тогда написать абстрактные беспредметные вещи, построить на холсте пятна, линии, но вдруг увидел, что я абсолютно не могу добавить к этому ничего своего. Я понимал, что абстракция – это некая свобода, даже дикость, в которой есть смысл, но я все же мог писать только то, что я видел и воспринял, нравилось это кому-то или нет. Я не мог следовать тому, что уже кем-то открыто.
Г. К.: На этой выставке к молодежному фестивалю вы, наверное, познакомились с другими участниками. Например, с Брусиловским, Плавинским?
О. Р.: Брусиловского я узнал значительно позже. Плавинского тоже, просто в силу того, что он лет на десять моложе меня и художников моего поколения, например Немухина. Но помню, тогда у меня осталось яркое впечатление от одного просмотра, а выставкомы проходили тогда совершенно открыто. Сам я принес туда свои честные этюды, которые я очень любил, написанные с натуры, но на них и тут махнули рукой. Тогда я стал просто ходить на другие просмотры и прислушиваться, что говорят на выставкомах.
Дело в том, что все тогда понимали задачи фестиваля и этой выставки так, что мы не должны обидеть зарубежных участников. Всерьез исходили из того, что мы делаем искусство будущего, самое передовое, а «они» – вчерашний день, но нужно соблюдать приличия и подыграть им, сделать что-то, что они поймут, что-то левое. Раньше никогда такого не было, это впервые стало возможным. На одном из просмотров я успел познакомиться с молодым человеком, который выставил свои левые работы, и на меня очень сильное впечатление произвела реакция на них. Это были небольшие квадратные холстики, четыре или пять, и на них какая-то метла или ведро, то есть по одному или по два примитивных предмета, обведенных контуром и плоско закрашенных двумя-тремя локальными цветами, и надписи. Выставком их воспринял с большой радостью и полчаса обсуждал их, от чего я испытал какой-то психологический шок, ведь у меня-то были более сложные по технике работы! Несмотря на то что работы молодого человека не прошли на следующие этапы конкурса, тут был полный триумф. И художник этот был Олег Целков, который прекрасно понимал такие приемы. Он петербуржец, и я знаю, что он имел возможность видеть ранние работы Малевича, Кандинского самых боевых периодов в запасниках Русского музея, знал и использовал их технику. Здесь, в Москве, он уже уверенно практиковал ее. Мне же оставалось только подстроиться, конечно, не подражая этому, надо было что-то придумать. Я пришел домой и подумал: «Значит, вам такую живопись нужно?!»
А моя дочка тогда прекрасно рисовала, и меня привлекли ее типично детская манера и простые сюжеты. У детей сперва не ярко проявляется индивидуальность, скорее можно назвать это общим «детским направлением» в искусстве, которое, в свою очередь, близко к искусству примитивистов, таких «народных» художников, – их приемы схожи, хотя у последних уже проявляется индивидуальная манера и их включают в общую историю искусства, например работы Руссо. Так вот, у моей дочери талантливо получалось, ее рисунки даже отправляли на международный конкурс в Индию, где она получила какую-то премию. Потом, когда она пошла в школу, перестала рисовать и больше не возвращалась к этому.
Но это только длинное предисловие. Главное, что тогда я взял ее рисунки за основу, чтобы сделать новую работу и представить на конкурсе. Маленькие по формату, рисуночки были сделаны цветными карандашами, я же взял большой холст и работал мастихином, наносил масло густыми мазками так, чтобы появилась фактура. Получились яркие, веселые работы, эту серию я назвал «Бабушкины сказки», хотя там уже была, конечно, другая, недетская энергия. У меня даже сохранились фотографии работ, мне их привезла потом одна итальянка. Я принес эту серию на просмотр, и о ней выставком заговорил уже всерьез, что для меня стало настоящим подарком. В первом туре работы прошли, но опять же на выставку не попали. Просто это дало мне смелость работать так и дальше, развиваться в этом направлении, а этому стали способствовать разные новые обстоятельства.
Уже после Фестиваля молодежи и студентов я впервые услышал о технике монотипии от моего учителя, художника Юрия Васильева[42]42
Юрий Васильев-Мон (1925–1990). (Прим. Г. К.)
[Закрыть], который, в свою очередь, когда-то тоже был учеником моего учителя и тестя Евгения Леонидовича Кропивницкого. Они поддерживали отношения, и как-то Евгений Леонидович предложил пойти к Васильеву и посмотреть его вещи в этой технике. В принципе Кропивницкий с иронией относился к таким экспериментам, говорил: «Абстракция – замечательно, я и сам делаю абстрактные картины, но если мне дать дюжину совсем молоденьких учениц, предоставить им холсты и краски, то, уверяю вас, дней через десять они у меня также начнут делать прекрасные абстракции».
Но в мастерской Васильева было удивительно. Он считал необходимым попробовать себя едва ли не во всех ранних направлениях XX века, от сюрреализма до абстракции. Когда мы пришли к нему, помню, в мастерской была невероятная, огромная картина, где Дон Кихот спускается по какой-то уходящей в бездну лестнице на своем коне вместе с Санчо Пансой; по технике там была и абстракция, чувствовалось и влияние Ван Гога, и импрессионизм, – он считал нужным применять разные стили одновременно. Но самой удивительной была другая вещь – огромный полуобработанный ствол дерева в центре мастерской, в который он вбивал, ввинчивал, вклеивал найденные мусорные предметы, а также рисовал на нем[43]43
Похоже, Юрий Васильев значительно опередил некоторые работы концептуалистов 1970–1980‐х годов.
[Закрыть]. Собственно, это уже был объект или инсталляция, хотя тогда мы не знали, как это назвать и к чему отнести.
И все же, когда подуло свободой, мы стали гораздо более информированными. Если вернуться к молодежному фестивалю, та выставка, первая такого рода, дала нам многое для понимания происходящего. Знаменитостей среди участников, конечно, не было, но были представлены все направления, в том числе абстрактный экспрессионизм. Один американец[44]44
Не очень-то преуспевавший у себя на родине Гарри Колман на несколько недель стал звездой среди художников фестиваля URL: http://kumu.ekm.ee/en/the-free-art-workshop-in-moscow-1957-archives-in-translation/.
[Закрыть] публично проводил сеанс, во время которого он, как Поллок, расплескивал краски по холсту. Тогда же прозвучало имя Анатолия Зверева. Мы по привычке искали смысл в том, что видели, считали обидным слово «декоративность» и понимали, что эта живопись больше, чем «декоративность». Наше отношение к новому тогда определялось очень просто: все, что было нам незнакомо, – все хорошо и интересно; мы принимали подобные вещи на ура, едва услышав о них, и даже прежде, чем увидим.
Однажды в связи с таким подобострастием случилась курьезная история. Я не помню, где и когда мы познакомились с Ильей Глазуновым, но он над нами коварно подшутил, когда мы пришли к нему в мастерскую группой, человек восемь художников. Его мастерская была в однокомнатной квартире на Садовом кольце. Хотя уже тогда нас удивляло, что какой-то студент из ленинградской академии получил однокомнатную квартиру в Москве. Конечно, прежде он обошел всех знаменитостей и прославился уже после своей первой выставки в Центральном доме работников искусств. В среде интеллигенции весьма многие на той выставке нашли его очень талантливым. Может, там и познакомились. В мастерской у Глазунова мы увидели каталог парижской выставки Бернара Бюффе с дарственной надписью. В этом смысле Илья Глазунов – удивительный человек, он видел такие вещи значительно раньше всех. И тут он стал нам рассказывать, что случайно открыл художника, который живет за много километров от Москвы, в глуши, а мы, возможно, заинтересуемся и сможем его поддержать. Дальше мы стали смотреть работы якобы этого художника, но в них не чувствовалось индивидуальности, просто абстрактные работы, в каком-то смысле нам уже знакомые, но в целом мы нашли их вполне приемлемыми. Сработало наше всегдашнее отношение – все, что необычно, – хорошо. И тут выяснилось, что Глазунов сам нарисовал их, чтобы показать, что мы ничего в искусстве не понимаем, разыграл нас[45]45
А вот и художник-персонаж 1970‐х!
[Закрыть], но нас это нисколько не расхолодило. Это был больше жест, определявший его самого, его позицию неприятия абстракции.
Г. К.: Вы сказали, что ваш стиль сформировался после фестиваля. То есть фестиваль послужил сильным стимулом для творчества?
О. Р.: Да. Конечно, кое-какие вещи я делал и раньше, но это были эксперименты, я искал свой стиль живописи и поначалу путался, не совсем знал, какую выбрать тематику, что получится и удовлетворит меня. Но через год-полтора я поставил себе задачу показать, что меня окружает, и одновременно передать свое настроение, волнующие меня проблемы и близкие мне темы. Поскольку мы все были воспитаны вне индивидуального, очевидно, что в моих работах много народного начала, но в них можно различить и какие-то маленькие личные истории. Контекст работы часто составляют мотивы из русской литературы и живописи, настроения Достоевского, Толстого; вначале стараешься передать грусть, как у Левитана или Саврасова, потом рассказать что-то общенародное, а не только свое. Например, одним из символов я выбрал бутылку с водкой или вином. Это было понятно всем. Собственно, это общепринятый в мире и очень емкий символ некой личной стороны жизни.
Не буду отрицать, что тогда уже, в самом начале, проявилось мое неприятие официальной стороны. Думаю, что такой интерес к неприглядным, невзрачным сюжетам восходит ко времени моей юности. Мне в первый год войны исполнилось 13 лет. Четыре года войны и последующие полуголодные годы наложили свой отпечаток. И хотя потом с едой стало нормально, давление советской идеологии вызывало во мне такое же отрицание и едва ли не слепое стремление найти «иную» действительность, которое многие приобретали в кругу художников, их поклонников или, наоборот, неприятелей, какие иногда посещали наш барак в Лианозове и ругали то, что мы делаем. И это напоминает мое отношение к искусству – только чтобы не было похоже на официальное искусство! Даже если не нравилось!!









































