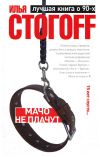Текст книги "Уважаемый господин М."

Автор книги: Герман Кох
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Войдя в квартиру, он сразу проходит в кухню, берет из холодильника банку пива, открывает ее и подносит к губам. В гостиной включает музыку – компакт-диск, который он чаще ставит, когда никого нет дома. Он вспоминает заключительную часть своего выступления, когда мужчина в безрукавке встал и широкими шагами двинулся к выходу.
– Я не обязан все это выслушивать! – выкрикнул мужчина.
М. пытается восстановить, что именно послужило поводом, – и не может как следует вспомнить. Это началось с Кубы. У М. не было никакого желания признать свою неправоту в отношении Кубы. Он всегда считал, что они слишком уж торжествуют, все эти деятели, которые после падения Берлинской стены и развала Советского Союза сразу заговорили, будто уже давно предсказывали, что это так и кончится, что у коммунизма нет никакого будущего.
– Что было хорошего в революциях? – сказал он мужчине в безрукавке. – Суть? Что сначала надо было все разрушить, чтобы можно было по-настоящему начать что-то заново. Сровнять с землей. Баррикады, подожженные автомобили и здания; памятники, опрокинутые с помощью веревок. В первую очередь это праздник. Улыбающиеся лица, бородатые революционеры на захваченных танках; все кругом поднимают кверху большие пальцы или изображают викторию, знак победы. Если можно без кровопролития, то почему бы и нет, сказали бы вы. Есть примеры революций, при которых никого не убивали. Ненасильственное сопротивление, ненасильственный переворот, мирные солдаты с розами в дулах винтовок, ликующие женщины с гвоздиками в волосах. Но и в ненасильственности тоже есть что-то несправедливое. Переметнувшиеся военные, военные, которые вдруг отказываются стрелять в толпу, – надо ли нам заключать их всех в свои объятия? Возможно ли прощение для информаторов спецслужб, для коллаборационистов, для любовниц диктатора, который кормил своих крокодилов человеческой плотью? Или надо с ними всеми покончить, желательно поскорее, без суда и следствия? Ведь их вина установлена, к чему еще длительное судопроизводство? Революция – это классная доска, вытертая мокрой тряпкой. Начисто вытертая. Но у доски все еще стоит учитель. Дадим ли мы ему новый шанс? Позволим снова исписать доску своим толкованием вещей? Или это наша классная доска?
Потом разгорелся спор. Домохозяйки беспокойно заерзали на стульях, их взгляды перескакивали с мужчины в безрукавке на М. и обратно. «Добро и зло, – сказал он в какой-то момент, пристально глядя на мужчину, – все это слишком просто, это ведет только к обобщениям».
Вот тогда-то и надо было закрыть рот, понял М. теперь. Тут-то и надо было бросить. Но он знал себя не первый день. Победы по очкам ему было мало, ему нужен был нокаут.
Он открыл балконные двери и, все еще держа в руке банку пива, вышел на воздух. Все возвращалось, слово за словом.
Рассматривая историю прошедшего века, неизбежно приходишь к выводу, что вожди, которые действовали из лучших побуждений, погубили не меньше жизней, чем те, кто в глубине души сознавал, что творит зло, сказал он тогда. Ленин, Сталин, Мао, Пол Пот – во имя добра, в которое верили, они принесли в жертву миллионы людей. Тогда как фашисты, нацисты всегда орудовали по возможности скрытно. Лагеря уничтожения были строго засекречены. К концу войны фашисты сделали все, чтобы замести следы. Они по сей день не признают своих преступлений. Но что есть отрицание холокоста, как не голос совести? Тот, кто отрицает холокост, фактически говорит: этого не могло быть, потому что это слишком страшно. Значит, мы не были такими плохими, кричат отпирающиеся. Мы и сейчас не такие плохие, кричат они заодно. Мы считаем это настолько ужасным, что не в силах поверить, будто люди на это способны.
Еще раньше – примерно на середине обсуждения – безрукавный мужчина встал и зашагал к выходу. Когда М. даже еще не приближался к тому, о чем думал на самом деле. Он еще только взялся пальцами за краешек завесы. Пожалуй, и этого достаточно, сказал себе он. Раз эти кверулянты уже при первом булавочном уколе покидают зал, то, наверное, свои истинные мысли лучше оставить при себе. Еще несколько минут спустя библиотекарша взглянула на часы.
С балкона он смотрит на террасу, где утром не смог выпить кофе с молоком.
Он наклоняется через перила – не слишком далеко, на балконах он всегда страшится одного и того же: потерять равновесие. Точка опрокидывания. Верхняя часть туловища вдруг становится тяжелее нижней, ноги отрываются от пола, еще пытаешься уцепиться, но уже поздно.
М. видит кусочек балкона своего соседа снизу, уголок белого деревянного сиденья, цветочный горшок без цветка.
Он залпом допивает остатки пива, шагает в комнату и закрывает балконные двери.
18
В понедельник утром Мари Клод Брейнзел сидит за столиком у окна в самой глубине совсем пустого в это время кафе наискосок от его дома. Она не встает, когда М. протягивает ей руку, но он колеблется. Она уже однажды интервьюировала его раньше. То было публичное интервью в каком-то из залов на книжной ярмарке; сначала оно шло со скрипом, однако, прощаясь, они троекратно расцеловали друг друга в щеки.
Он берет ее за руку и наклоняется через столик. Поняв его намерение, она подставляет ему щеку – по-прежнему сидя.
– Очень мило с твоей стороны, что ты позвонил мне уже вчера, – говорит она. – Так я не упираюсь в дедлайн.
Мило. Он дает этому слову осесть, он не может вспомнить, чтобы они переходили на «ты», – наверное, лед был разбит во время того, первого интервью, предполагает он.
На этот раз молоко к кофе есть. И обслуживает не та девушка, что в субботу утром, а худой мужчина с обритой наголо головой и трехдневной щетиной на лице.
– Капучино для?.. – спрашивает он, прежде чем неуверенным жестом сунуть ему под нос чашку с блюдцем, причем часть пены переливается через край. Вопрос излишний, потому что чашка, стоящая перед Мари Клод Брейнзел, все еще почти полная. Когда худой мужчина наклоняется над столом, М. замечает что-то в мочке его уха – сережку, пирсинг или нечто подобное, что-то черное в форме улитки или креветки. Сквозь тонкие волосы на лице мужчины он видит несколько пятен. Не прыщей. Пятен. Привычка подмечать избыточные подробности сильнее его; он же писатель, наставляет он себя, но это просто непреодолимо. Зачастую к вечеру, после дня, проведенного в городе, и обеда в полном ресторане он совершенно выбивается из сил от всех этих лиц с их шероховатостями.
Он видит, как клочок молочной пены стекает по чашке вниз до самого блюдечка. Но он не собирается ничего об этом говорить. Все так и должно быть в кафе вроде этого, которым управляют непрофессионалы. Или молока нет вовсе, или оно переливается через край, середины для них не существует.
Теперь он смотрит на лицо Мари Клод Брейнзел. Он и забыл, как она хороша собой. Может быть, многовато косметики, но это макияж, который скорее подчеркивает достоинства, чем скрывает изъяны. Она высоко заколола волосы; он провожает взглядом локоны, свисающие до самой шеи, потом поднимает взгляд – через подбородок и блестящие розовые губы – и смотрит прямо ей в глаза.
Одно из немногих преимуществ интервью: можно бесстыдно смотреть в глаза собеседнику, а если собеседник, как в данном случае, женщина – притом такая красивая, как Мари Клод Брейнзел, – то можно и дольше, чем необходимо.
Он это хорошо умеет, смотреть. Никогда не отведет и не опустит глаза первым.
– Ах, мне еще столько надо сделать, – говорит он. – Жена уехала из города. Я дома один.
Говорит без всякой задней мысли, но в этих словах вполне можно услышать сообщение с подтекстом, сразу осознает он. Ах, ну как же! Она ведь из целевой группы. Его целевой группы. Хоть он и стар, но она сидит здесь, потому что он талантлив. Если бы ее не тянуло к старым мужчинам с талантом, к болтовне об этом таланте, она выбрала бы другую профессию.
– I’m all yours[2]2
Я в вашем распоряжении (англ.).
[Закрыть], Мари Клод, – говорит он.
Может, это и преувеличение, но он говорит с улыбкой. Он знает, что женщинам нравится, когда их называют по имени. Не слишком часто – иначе это уже становится собственничеством, – но точно дозированно. Небрежно. Кроме всего прочего, ему нравится произносить ее имя – словно он заказывает что-то во французском ресторане, specialité de la maison[3]3
Фирменное блюдо (фр.).
[Закрыть], которое не значится в меню.
Она улыбается в ответ. Это договор о взаимном согласии, понимает он. В течение тех полутора часов, что займет интервью, ему можно продолжать смотреть в ее карие глаза. В качестве ответной услуги он не должен быть слишком скрытным. Должен не только рассказать об источниках и о том, как функционирует его талант, но и дать ей что-то, что еще никогда не предавал гласности. Внебрачного ребенка. Угрожающую жизни болезнь. Сожженную в камине рукопись. Интересно, когда она заговорит о его матери?
– Ну? – начинает она. – Провалился ли ты в пресловутую черную дыру, закончив «Год освобождения»? Или нет? Сама-то я не считаю, что ты из тех, у кого бывают эти черные дыры.
Первые пятнадцать минут он отвечает на автопилоте. Не слишком кратко, не слишком длинно. Лишь время от времени отводит взгляд, чтобы посмотреть в окно и притвориться, будто что-то обдумывает. Но за окном мало что происходит. Он видит свою тихую улицу, толстые деревья, наискосок на противоположной стороне – свой подъезд. Ему видно только до угла. Из-за этого угла только что появился почтальон с тележкой.
Он слышит свой голос. Все это он уже говорил прежде. Он с удовольствием ответил бы совсем иначе, дал новые ответы на старые вопросы, но по опыту знает, что это неразумно. Новые ответы редко лучше прежних. Раньше он перечитывал свои интервью – как до публикации, так и после, – но перестал. Он больше не может выносить собственную болтовню, в напечатанном виде она часто еще ужаснее, чем в действительности.
– Черных дыр не существует, – слышит он свои слова. – Как и творческого тупика писателя. Это пошлые отговорки писателей, лишенных таланта. Слышал ли кто-нибудь о плотнике, у которого кризис с молотком? О плотнике, который после укладки паркетного пола не знает, какой пол он будет укладывать потом?
Он пытается улыбаться. Он старается казаться оживленным и жестами изображает укладку паркета. Он орудует воображаемым молотком и забивает в деревянную столешницу, рядом с чашкой капучино, воображаемый гвоздь. Надо смотреть так, будто я рассказываю об этом впервые, наставляет он себя, но подозревает, что взгляд выдаст его скуку. Поэтому он сосредоточивается на глазах Мари Клод Брейнзел и представляет себе, как бы он смотрел, если бы это было вовсе не интервью, если бы он просто сидел напротив красивой женщины, которую скоро пригласит к себе домой, чтобы выпить «не кофе, а чего-нибудь другого».
Чего он ждет в действительности, так это момента, когда она копнет глубже; точнее, когда она переступит границу между его общественной и частной жизнью. Он, конечно, может закрыться, он может сделать холодное лицо и покачать головой. Прости, это личное. Но он знает, что с Мари Клод Брейнзел это не пройдет. Он только спрашивает себя, что это будет. Его мать? Эта утрата? Другие женщины на фоне двух его официальных браков? Или, может быть, все-таки приближающаяся смерть? Его смерть. Что останется.
В который раз он отводит взгляд от карих глаз Мари Клод Брейнзел, снова якобы для того, чтобы подумать над ее вопросом (Теперь ты покончил с войной? Или в тебе сидит еще одна книга на эту тему?), но на самом деле – чтобы взять передышку, чтобы отдышаться, чтобы увидеть что-нибудь обычное. Почтальон еще не дошел до его подъезда, он берет почту из стопки, которую вынул из тележки, и раскладывает ее по ящикам.
Возможно, почтальон был бы лучшим примером, чем плотник. Что там с черной дырой у почтальона, когда все письма доставлены? Мог бы он внезапно оказаться в кризисе завтра или послезавтра, в начале следующего цикла доставки?
– Дело не в том, покончил ли я с войной, а в том, когда война покончит со мной, – отвечает он, уже не впервые. – То же относится и к книге. Сидит ли во мне еще одна книга о войне, определяю не я сам. Это делает книга. Книга всегда впереди меня.
Потом она переходит к его матери. Он изо всех сил старается снова не посмотреть в окно. Никаких движений, по которым Мари Клод Брейнзел могла бы сделать преждевременные выводы. От силы минуту назад худой мужчина с трехдневной щетиной подходил спросить, все ли их устраивает и не хотят ли они заказать еще что-нибудь. Она заказала эспрессо, а он еще капучино, но в таком кафе, как это, понял он, пройдет сто лет, прежде чем принесут заказанное.
«Утрата» – это слово попадает уже в первый вопрос. Существует ли, по его мнению, прямая связь между этой утратой и войной. Или тот факт, что в своих книгах он так часто возвращается к войне, имеет отношение не столько к самой войне, сколько к тому, что в разгар войны заболела его мать. И тогда существует ли, может быть, также связь между возрастом, который он так часто называл, – возрастом, после которого, по его мнению, не приходит никакой новый опыт, – и тем, что его мать умерла вскоре после того, как он достиг этого возраста. Он усмехается. Не надо этого делать, думает он. Он усмехается против собственного желания. «Все это слишком личное, – должен был бы он ответить. – Я бы лучше поговорил о чем-нибудь другом». Но надо отдать должное Мари Клод Брейнзел, которая хорошо выполнила свою домашнюю работу. Нет, это больше, чем домашняя работа: она сложила вместе разные вещи и проложила новые взаимные связи. Взаимные связи, которых, насколько он помнит, до сих пор никто не находил – во всяком случае, таким образом и все сразу.
Он писал о войне и о больных матерях. Об умирающих матерях и об утрате. И о возрасте, в котором все застывает, о возрасте, после которого новый опыт больше не нов и его можно разве что сравнивать с прежним, – но он никогда не писал обо всем этом вместе в одной книге.
– Если начать с утраты… – говорит он, чтобы выиграть время, но не знает, как продолжить.
Он хочет помешать ложечкой кофе, но его чашка пуста.
– Мне ее недостает, – говорит он. – Мне недостает матери, может быть, больше, чем когда-либо.
Мари Клод Брейнзел выжидательно смотрит на него большими карими глазами. Она ждет следующей фразы. Следующей фразы, в которой он объяснится подробнее.
Он откашливается, чтобы прочистить горло. Я же всегда могу это потом убрать, думает он. Убрать самые ужасные вещи. Только бы не забыть спросить, можно ли ему прочитать это перед публикацией, один-единственный раз, в порядке большого исключения.
– Вначале это главным образом шок, – говорит он. – Или нет, не шок, ведь, в конце концов, уже в течение долгих месяцев было видно, как это надвигается. Болезнь. Лечение. Надежда на выздоровление. Рецидив. Ты к этому готов. И все-таки это странно, когда происходит в действительности. До последнего дня я продолжал надеяться на чудо. И все-таки это происходит. В тот миг ты пересекаешь какую-то грань, все делится только на «до» и «после». С каждым днем удаляешься от этой грани, и все, что было до этого, становится важнее. Сильнее, приобретает больше веса. Не хочется забыть мать, но, главное, не хочется забыть, что было до этого. И есть еще другие ощущения, о которых не так часто говорят в связи со смертью. Первое такое ощущение – сенсация. «Это правда, – думаешь ты. – Это случилось со мной». Никто другой не может этого сказать. Это было в разгар войны, что играло немаловажную роль. Смерть не была редким событием. То, что и сейчас используется как общая фраза, – иначе не назвать в этой связи. Бывают, наверное, в этом мире вещи и пострашнее, не так ли? Тогда это в самом деле было так. В мире случались вещи и пострашнее, чем смерть чьей-то матери. За неделю до смерти моей матери у нас за углом подстрелили коллаборациониста, который ехал на велосипеде, а потом добили его, пустив пулю в затылок. Через две недели после ее смерти над самым нашим домом в английский бомбардировщик попали из немецкого зенитного орудия. Помню огненный хвост, дым и пламя, бессильный вой пропеллеров, которые тщетно пытались удержать самолет в воздухе, вспышки от взрывающихся снарядов; была надежда, нет, ожидание, что из него выпрыгнут люди, пилот, члены экипажа, что они спасутся на парашютах. Но этого не произошло. Бомбардировщик накренился набок и, описав широкую дугу, рухнул в лугах за несколько километров от нас. Первое, о чем я подумал, – что надо рассказать маме, но в следующую секунду я осознал, что ее больше нет. Я даже уже начал, мысленно я описал последние минуты бомбардировщика в воздухе. Еще до того, как сперва огненный шар, а потом столб дыма поднялись с луга, рассказ с моей версией падения был уже готов. Но не прошло и минуты, как я понял, что жил так уже очень давно: все происходящее в моей жизни – по дороге в школу, в самой школе, по дороге домой – всегда сразу приобретало форму истории, которую я мог рассказать дома. Маме, иногда отцу, но больше все-таки маме. Падение бомбардировщика было первой историей, которую я пережил совсем один, которую никому не надо было рассказывать, которой даже не надо было становиться рассказом.
Он ненадолго умолкает – он знает, что теперь будет; он сам, вольно или невольно, добивался этого.
– Потому что твоего отца не было, когда мать умерла, – действительно говорит она теперь. – Его вообще не было в Нидерландах. Так?
– Сначала я хочу сказать кое-что другое. После долгой болезни, когда все кончено, всегда наступает облегчение. И для больного, которому не надо больше страдать, но все-таки прежде всего для тебя самого. В этом трудно признаваться, во всяком случае в моем нынешнем возрасте, но я почувствовал огромное облегчение, что можно наконец все избыть. Что снова можно раздернуть занавески, чтобы впустить свет. «Тут начинается моя жизнь, – думал я про себя. – Моя новая жизнь. Моя свободная от долгих болезней жизнь». Но я думал не только об этом. «Я хочу еще видеть падающие бомбардировщики», – думал я. Шло лето высадки в Нормандии, война приближалась и должна была добраться и до нас тоже, это был только вопрос времени. Я надеялся, что она не обойдет наш город. Я чувствовал себя виноватым, что упавший бомбардировщик взволновал меня больше, чем смерть матери, но теперь я мог оставить это чувство вины при себе. Это было мое чувство, о котором мне тоже больше никому не нужно было рассказывать.
На этом он остановился. Он мог бы еще многое сказать об освобождении и об утрате, но решил оставить при себе и это. Для книги, как думал он последние двадцать лет, но теперь он так больше не думает.
Это началось лет через тридцать после смерти матери и продолжалось до сего дня. Первые годы это было исключительно облегчение, и освобождение, и чувство вины от этого – то, что люди называют «переработкой» или, еще хуже, «процессом скорби». Иногда ему недоставало матери, но чаще нет. Каким-то образом – он никому не смог бы это объяснить – она стала частью его самого. Буквально. Он ощутил это в тот вечер, когда она испустила последний вздох. Легкий свистящий вздох, а потом стало совсем тихо.
Это была не душа, но нечто поднявшееся из этого исхудавшего и в то же время распухшего тела. Оно огляделось вокруг – может быть, уже по пути на небеса, которых нет, – и тогда увидело сына, стоящего у изножья кровати.
«Я буду всегда носить тебя с собой», – прошептал он в тот вечер ее мертвому телу, но, в сущности, это обещание было излишне. Она уже сделала это сама. Последним напряжением сил она освободилась от собственного тела и скользнула в тело сына. Там, где-то так глубоко и далеко, что никто, кроме него, не узнает, что она там, она останется до конца его дней.
Именно по этой причине в его доме на стенах не висели ее фотографии. Они хранились в коробке, иногда он их доставал. Полгода назад – впервые вместе с дочкой. «Это тоже твоя бабушка, – сказал он, – бабушка, которой больше нет».
Но ему не нужно было видеть ее фотографии каждый день. Он лучше помнил ее без фотографий.
– Твоего отца здесь не было, – говорит Мари Клод Брейнзел. – Твоего отца не было дома, когда мать умерла.
Нет. Он качает головой. Он чувствует, что устал. Он уже слишком много рассказал, слишком много вспомнил. Надо ли теперь обсуждать еще и отца? Он чувствует, как закрывается; пора заканчивать.
Чего он ни за что не расскажет Мари Клод Брейнзел об этой утрате, так это того, как он ощущает ее по сей день. Через тридцать лет. «Мне ее недостает, – думает он. – Я ношу ее с собой, в себе, у меня нет ее фотографий на стенах. Тем временем расстояние между ее смертью и мной становится все больше. Но это тянется, наверное, слишком долго». Вот что он думает последние годы: это продолжалось достаточно.
Первые тридцать лет после ее смерти он постоянно видел ее во сне. В этих снах она всегда была больна; иногда лежала в постели, а иногда, еле волоча ноги, шаркала по дому.
Но после первых тридцати лет ушли и сны. Тридцать лет без матери – это еще можно вынести. А пятьдесят лет? Шестьдесят? Ему не хватало этих снов.
– Твой отец поступил на службу в армию захватчика и тем летом воевал на Восточном фронте, – говорит Мари Клод Брейнзел.
– С ним не сразу смогли связаться, – говорит он.
Но ему уже неинтересно. Ему хочется домой. Лучше всего сразу в постель. Задернуть занавески, закрыть глаза.
– Когда отец узнал, он вернулся так скоро, как смог. И потом больше никогда не оставлял меня одного.
За исключением того времени, когда был интернирован за сотрудничество с оккупантами, – он, вообще-то, ожидает, что она это скажет. Или спросит, не был ли для отца отъезд на восток бегством прочь от смертного одра жены, отношения с которой у него в эти годы были, мягко выражаясь, прохладными.
Но она этого не делает. Она помешивает ложечкой эспрессо, который меж тем поставили на стол, как и его капучино; он этого не заметил – момент, когда худой мужчина принес их заказы, прошел мимо его внимания.
– Нидерландский институт военной документации недавно начал новое расследование по поводу подразделения, в котором служил твой отец, – говорит она. – Тебе это известно?
Он усмехается, но лучше бы ему не усмехаться, мысленно говорит он сам себе. Он об этом слышал. Прежде всего он удивился тому, что в институте явно работают люди, которые придают такому расследованию значение. А между тем ведь все уже как-то выяснилось? Возможно, им больше нечего делать. Возможно, этим расследованием, которого только и не хватало, они должны оправдать свою зарплату в правительственном учреждении.
Он говорит, что слышал об этом. Он отпивает слишком много слишком горячего капучино, и раскаленный, жгучий след мучительно медленно тянется вниз по пищеводу; он чувствует, как на глаза наворачиваются слезы.
Почему она завела об этом речь? Ведь он и так уже предоставил ей куда больше материала, чем собирался? Он не может вспомнить, чтобы когда-нибудь раньше так распространялся о смерти матери.
– Результаты расследования будут обнародованы только через несколько месяцев, – говорит она. – Но у меня есть в институте свои источники. Предварительный вывод таков: подразделение, где состоял твой отец, не было простым армейским подразделением.
Он ничего не говорит, тыльной стороной руки он вытирает слезы.
– Это подразделение действовало в тылу, – продолжает Мари Клод Брейнзел, пристально глядя на него теплыми карими глазами. – Не во вражеском тылу, а на территории, уже занятой регулярными войсками. Там они выполняли особые задания. Думаю, тебе не надо рассказывать, в чем заключались такие задания в то время.
Чтобы не смотреть ей в глаза, он отводит взгляд и смотрит в окно. Между тем тележка почтальона остановилась у его подъезда, из которого только что вышел мужчина. Мужчина тоже останавливается и, как видно, что-то говорит почтальону.
Сосед, сразу узнает М. этого мужчину. Сосед снизу. Когда он встречает его где-нибудь вдалеке от дома, то видит лицо, которое кажется ему смутно знакомым, как в последний раз в ресторане «Ла Б.», когда Ане пришлось напомнить ему, что это сосед снизу сидит у стойки бара, попивая пиво. Теперь он узнает его сразу.
Сосед и почтальон разговорились. М. видит, как сосед пожимает плечами, а почтальон улыбается, наклоняется над своей тележкой и передает соседу стопочку почты.
– Да? – слышит он голос Мари Клод Брейнзел. – Ты знал об этом особом подразделении?
– Знаешь что, Мари Клод? – говорит он. – Прежде всего, здесь, в Нидерландах, были миллионы людей, которые совсем ничего не делали. Подавляющее большинство сидело дома и дремало на диване. Меньше одного процента присоединилось к Сопротивлению, возможно, чуть больше одного процента искало приключений как-то иначе. Поступая на службу в армию, которая тянулась в русские степи. Правда в том, что я всегда восхищался людьми, которые делали хоть что-то. Хотя что-то одно было правильно, а что-то другое, может быть, ошибочно.
Тем временем почтальон снова пошел дальше со своей тележкой, а нижний сосед начал раскладывать стопочку почты по ящикам – он останавливается, разглядывает что-то, какое-то письмо, поворачивает его в руках. На таком расстоянии не видно, что это. Конверт? Открытка? Теперь сосед осматривается вокруг, еще раз поворачивает письмо или открытку, не больше трех-четырех секунд держит в руке, а потом бросает в верхний ящик слева от двери, ящик четвертого этажа, ящик М.
– Но это же невыносимо! – говорит Мари Клод Брейнзел. – Собственно говоря, это ужасно – то, что ты тут говоришь. Как будто кто-то добровольно записывается в команду убийц только в поисках приключений.
Он глубоко вздыхает. Отец никогда не держал это от него в секрете. Он никогда не замалчивал неудобные подробности. Мало-помалу он рассказал М. все. Репрессивные меры. Казни. Массовые захоронения. Никто не невинен, говорил отец. И уж я совсем не невинен. Кто не хочет пачкать руки, должен сидеть дома, в тепле у печки.
– Я устал, – говорит М. – С меня хватит.
И лишь тогда он замечает небритого мужчину, который подошел к их столику. Шевелюра мужчины в художественном беспорядке, на плече висит сумка; в такой сумке может быть только камера, понимает М. и чувствует, как его сердце проваливается на несколько сантиметров; такое ощущение, как в воздушной яме, как в слишком быстро опускающемся лифте. У этого мужчины при себе еще много сумок: круглые сумки, продолговатые сумки, сумки со множеством молний, закрепленный на штативе зонт. Ему требуется некоторое время, чтобы разложить все по четырем свободным креслам и столику рядом с ними.
– Ну как, вы уже готовы? – спрашивает он.
Он осматривается, вбирая в себя интерьер кафе; прищурившись, разглядывает столики на уличной террасе. Вздыхает.
– Я еще сомневаюсь, здесь снимать или на улице, – говорит он. – Полчаса, а то и три четверти, все устанавливать, потом час-полтора на съемку, так что лучше всего было бы начать прямо сейчас.
Потом он впервые смотрит прямо на М.
– Ведь вы писатель, не так ли? – говорит он. – Тогда, я полагаю, у вас дома есть книжный шкаф. Там мы могли бы закончить. Еще несколько снимков, на всякий случай.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?