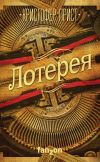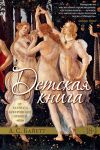Читать книгу "Искупление"

Автор книги: Иэн Макьюэн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но возможно – он перевернулся на спину, – не следует принимать ее гнев за чистую монету? Разве этот гнев не был театрально-показным? Наверняка, даже демонстрируя ему ярость, она имела в виду что-то другое. Даже в ярости она хотела напомнить ему, как она хороша, вызвать его восхищение. Или он выдает желаемое за действительное, потакая своим надеждам и желаниям? А что еще ему остается делать? Скрестив ноги и заложив руки за голову, Робби наслаждался прохладой, ощущавшейся высыхающей кожей. Что бы сказал в этом случае Фрейд? Ну, например: прячась за маской гнева, она подсознательно хотела разоблачиться перед ним. Жалкая надежда! Скорее это было демонстрацией того, что Сесилия не считает его мужчиной. Приговор. И муки, которые он теперь испытывает, – наказание за то, что он испортил дурацкую вазу. Ему вообще не следовало бы больше встречаться с Сесилией, но придется, причем сегодня вечером. У него нет выбора – он пойдет. И она будет его за это презирать. Да, конечно, следовало отказаться от приглашения Леона, но в тот момент у него заколотилось сердце, и «спасибо» само собой сорвалось с языка. Вечером они окажутся в одной комнате, и он будет знать, что под одеждой скрывается тело, которое он видел, бледная кожа, родинки и то клубничное пятно… Лишь он один, ну и Эмилия, разумеется, будут это знать. Но думать об этом будет только он. А Сесилия не станет с ним разговаривать и смотреть на него. Все же и это лучше, чем лежать тут и стонать. Нет, не лучше. Хуже, но он все равно этого жаждет. Он должен через это пройти. Он хочет, чтобы было хуже.
Наконец Робби встал, кое-как оделся, отправился к себе в кабинет, уселся за пишущую машинку и стал думать: что же ему ей написать. Так же как спальня и ванная, приплюснутый кабинет располагался под южным скатом крыши и представлял собой лишь узкий проход между ними, не более шести футов в длину и пяти в ширину. Так же как два других помещения, он освещался через слуховое окно в грубой сосновой раме. В углу была свалена альпинистская амуниция Робби – ботинки, альпеншток, кожаный рюкзак. Большую часть комнатки занимал иссеченный ножом кухонный стол. Откинувшись на задних ножках стула, Робби обозрел поверхность стола, как обозревают прожитую жизнь. На одном конце, прислоненная к скошенной стене, лежала стопка папок и тетрадей, оставшаяся там с тех пор, как он несколько месяцев назад готовился к выпускным экзаменам. Записи ему больше не пригодятся, но в них вложено слишком много труда и слишком много успехов связано с ними, чтобы он мог уже сейчас равнодушно выкинуть их. Наискосок от папок лежали его туристские карты – карта Северного Уэльса, Гэмпшира, Суррея и еще карта, по которой он прокладывал маршрут несостоявшегося похода в Стамбул. Там же находился компас со смотровой щелью, им Робби пользовался, когда без карты совершал поход в бухту Лалворт.
Еще дальше – томик стихотворений Одена и «Парень из Шропшира» Хаусмена. На другом конце стола были сложены книги по истории, теоретические трактаты и практические руководства по парковому дизайну. Поверх листков с десятью напечатанными на машинке стихотворениями лежал официальный отказ, присланный из журнала «Критерион». Он был подписан лично мистером Элиотом. Поближе к тому месту, где сидел Робби, были собраны книги, отражавшие его нынешние интересы. «Анатомия» Грея была заложена стопкой листов с его собственными рисунками. Робби поставил себе цель зарисовать и выучить наизусть все кости руки и сейчас попытался отвлечься, просматривая их и бормоча названия костей: головчатая, крючковатая, трехгранная, полулунная… Лучшие из сделанных им пока чернилами и цветными карандашами рисунков изображали сечение пищеварительного тракта и дыхательных путей и были прикреплены кнопками к балке над столом. Из высокой оловянной пивной кружки с отломанной ручкой торчали перья и карандаши. Пишущую машинку, новейшую модель «Олимпия», ему подарил и вручил в библиотеке перед обедом Джек Толлис в день, когда ему исполнился двадцать один год. Леон, так же как его отец, произнес тогда речь. Сесилия, разумеется, при том присутствовала, но Робби не помнил, что она тогда сказала. Не злится ли она теперь именно потому, что он много лет не обращал на нее внимания? Жалкая надежда.
На дальнем конце стола – фотографии: участники спектакля «Двенадцатая ночь» на лужайке перед колледжем, он сам – в роли Мальволио, с перекрещенными подвязками. Весьма кстати. Был там еще один групповой снимок: Робби и тридцать французских школьников, которым он преподавал в интернате неподалеку от Лиля. В выкрашенной ярь-медянкой металлической рамке – фотография родителей, Грейс и Эрнеста, сделанная на третий день после их свадьбы. На заднем плане переднее крыло автомобиля – разумеется, им не принадлежавшего, а еще дальше на фоне кирпичной стены сушилка для хмеля. Грейс любила рассказывать, как чудесно они провели медовый месяц: две недели вместе с семьей мужа собирали хмель и спали в цыганском таборе, расположившемся во дворе фермы. На отце была рубашка без воротничка. Шейный платок и веревочный поясок на фланелевых брюках должны были, вероятно, шутливо символизировать романский колорит. У него была круглая голова и круглое лицо, но он отнюдь не казался веселым, улыбке перед объективом, лишь слегка тронувшей губы, не хватало добродушия. Отец не держал за руку молодую жену, а стоял, сложив руки на груди. Мать же, напротив, склонилась к нему, положив голову на плечо и неловко вцепившись обеими руками в его рукав. Всегда задорная и добродушная, Грейс улыбалась за двоих. Но жаждущих рук и доброго нрава оказалось недостаточно. Казалось, уже тогда Эрнест в мыслях был где-то далеко, там, куда семь лет спустя он отправился без вещей, презрев должность садовника Толлисов и свое бунгало, не оставив даже прощальной записки на кухонном столе, бросив жену и шестилетнего сына гадать о причинах его поступка.
Среди листков с проверочными упражнениями по парковому дизайну и анатомии валялись письма и почтовые открытки: конверты официальных учреждений, послания от наставников и друзей, поздравлявших Робби с первым местом по итогам экзаменов, – их он до сих пор любил перечитывать – и более поздние, в которых они интересовались его дальнейшими планами. Самое последнее, написанное коричневыми чернилами на бланке одного из департаментов Уайтхолла, было от Джека Толлиса и уведомляло о согласии оплатить его учебу в медицинском колледже. Там же лежали бланки приемных документов – целых двадцать страниц – и толстые, с плотным текстом справочники для абитуриентов, присланные из Эдинбурга и Лондона. Педантичный, занудный стиль изложения наводил на мысль о ранее неведомом Робби академическом ригоризме. Сегодня эти книги сулили ему не приключение и новое начало, но изгнание. Думая о будущем, он представлял унылую улицу, находившуюся далеко отсюда, с рядом стандартных домов, келью со стенами, обклеенными обоями в цветочек, кровать, застеленную вышитым «фитильками» покрывалом, серьезных новых приятелей, гораздо более молодых, чем он, ванночки с формальдегидом, гулкие лекционные залы – все совершенно чуждое Сесилии.
С полки, где стояли книги по парковой архитектуре, Робби достал том о Версале, позаимствованный в библиотеке Толлисов в тот день, когда он впервые заметил, что неловко чувствует себя в присутствии Сесилии. Наклонившись, чтобы снять грязные рабочие башмаки, он обратил внимание на свои носки, продырявленные на пальцах и пятках, дурно пахнувшие, и не раздумывая стянул их. Каким же идиотом он выглядел, шлепая за ней босиком в библиотеку через холл! Единственным его желанием было тогда убраться оттуда как можно скорее. Уходя, он прошмыгнул через кухню и вынужден был позднее послать Дэнни Хардмена к парадному входу за башмаками и носками.
Наверняка Сесилия не читала этого трактата по гидравлике Версаля, написанного в восемнадцатом веке неким Даном, восхвалявшим на латыни это гениальное творение рук человеческих. С помощью словаря Робби одолел утром пять страниц, потом сдался и ограничился просмотром иллюстраций. Эта книга не во вкусе Сесилии, да и вообще ни в чьем, но именно ее, стоя на стремянке, она достала и вручила ему, и, следовательно, на книге есть отпечатки ее пальцев. Приказывая себе не делать этого, Робби тем не менее поднес книгу к лицу и вдохнул. Запах пыли, старой бумаги, мыла, которым он мыл руки, – ничего, что принадлежало бы ей. И почему это он незаметно погрузился в трясину фетишизации предмета обожания? Несомненно, у Фрейда в «Трех этюдах о сексуальности» об этом что-то сказано. А также у Китса, Шекспира, Петрарки и прочих, и в «Романе о розе» тоже. Три года Робби хладнокровно изучал симптомы болезни, казавшиеся ему не более чем литературным вымыслом, и вот как какой-нибудь длинноволосый рыцарь в шляпе с плюмажем, в одиночестве бродящий по опушке леса и созерцающий объект мечтаний, он сам теперь боготворит любимые следы – даже не платок, а отпечатки пальцев! – и чахнет, не замечаемый своей прекрасной дамой.
При всем при том, заправляя бумагу в пишущую машинку, Робби не забыл о копирке. Поставив дату и напечатав приветствие, он немедленно приступил к светским извинениям за свое «неловкое и необдуманное поведение». Потом остановился. Следует ли ему открыть свои чувства, и если да, то до какой степени?
«Если это может служить хоть каким-то оправданием, то в последнее время я стал замечать, что в твоем присутствии теряю голову. Никогда прежде я и помыслить не мог войти в чей-то дом босиком. Должно быть, у меня был жар!»
Как беспомощно выглядели эти оправдания! Робби напоминал себе человека, тяжело больного туберкулезом, но притворяющегося, будто у него лишь простуда. Дважды нажав на рычаг перевода строк, он начал заново:
«Знаю, это едва ли меня оправдывает, но в последнее время рядом с тобой я впадаю в какое-то умственное расстройство. Чего стоит один проход босиком по твоему дому! И разве когда-нибудь раньше я разбивал старинные вазы?»
Прежде чем опять напечатать ее имя, он посидел немного, положив пальцы на клавиатуру.
«Си, не думаю, чтобы дело было в высокой температуре!»
Теперь вместо шутки получалась мелодрама или жалоба. Риторический вопрос звучал холодно, а за восклицательными знаками обычно прячется тот, кто не может выразиться яснее. Подобную пунктуацию Робби прощал только матери, в чьих письмах частокол из пяти восклицаний обозначал очень веселую шутку. Сдвинув валик назад, он забил последнюю фразу:
«Сесилия, не думаю, что во всем виновата лихорадка».
Теперь предложение оказалось лишенным всякого юмора и приобрело жалостливый оттенок. Восклицательный знак, пожалуй, следовало вернуть на место. Очевидно, его роль не сводится исключительно к тому, чтобы усиливать интонацию.
Робби еще с четверть часа пытался усовершенствовать текст с помощью мелких поправок, потом вставил в машинку чистую бумагу и начал печатать набело. Ключевые фразы выглядели так:
«Никто не осудил бы тебя, если бы ты сочла меня сумасшедшим за то, что я разулся при входе в твой дом или выхватил у тебя из рук старинную вазу. Дело в том, что в твоем присутствии я глупею и становлюсь почти безумным. Си, не думаю, что причиной тому – жар! Можешь ли ты простить меня? Робби».
Потом, балансируя на задних ножках стула, он несколько минут поразмышлял о том, что его «Анатомия» в последние дни неизменно открыта на одной и той же странице, придвинулся к столу и быстро застучал:
«В мечтах я целую твою промежность, твою сладостную влажную промежность. Мысленно я дни напролет предаюсь с тобой любви».
Ну вот – испортил. Испортил страницу. Робби выдернул лист из машинки, отложил в сторону и написал письмо от руки, сочтя, что это придаст посланию личностный оттенок, более соответствующий задаче. Взглянув на часы, он вспомнил, что нужно еще успеть начистить туфли, и встал из-за стола, не забыв пригнуть голову, чтобы не стукнуться о балку.
Он никогда не испытывал неловкости из-за своего социального положения. Как-то во время ужина в Кембридже во внезапно наступившей за круглым столом тишине некто, не симпатизировавший Робби, громко спросил его о родителях. Глядя прямо в глаза вопрошавшему, тот со всей любезностью ответил, что отец бросил их много лет назад, а его мать служит уборщицей и иногда подрабатывает в качестве ясновидящей. Его тон был исполнен спокойной терпимости к невежеству человека, задавшего вопрос. Робби детально изложил обстоятельства своей жизни, после чего вежливо поинтересовался родителями собеседника. Кое-кто считал, что такое поведение объяснялось невинностью или стремлением игнорировать существующее мироустройство, попыткой защититься от болезненных ударов судьбы. Некоторые даже полагали, что Робби был своего рода блаженным, который может пройти по враждебной гостиной, как маг по горячим углям, не причинив себе вреда. Но Сесилия знала: правда много проще. Все свое детство Робби свободно курсировал между бунгало и хозяйским домом. Джек Толлис был его покровителем, Леон и Сесилия – лучшими друзьями, по крайней мере в школьные годы. В университете, поняв, что он гораздо умнее большинства окружающих, Робби окончательно избавился от комплексов. Там даже заносчивость была ни к чему.
Грейс Тернер с радостью обстирывала его – как еще, если не считать горячих обедов, могла она выказать материнскую любовь двадцатитрехлетнему сыну? Но чистить обувь Робби предпочитал сам. В белой майке и брюках от костюма он сбежал по короткому лестничному маршу в одних носках, держа в руках черные спортивные башмаки. Перед гостиной был узкий коридорчик, заканчивавшийся входной дверью. В нее было вставлено «морозное» стекло, через которое с улицы проникал красновато-оранжевый свет. Этот свет делал неожиданно выпуклыми бежево-оливковые обои, разрисованные огненными сотами. Удивленный подобным эффектом, Робби, уже взявшись за дверную ручку, задержал на них взгляд, потом вошел в гостиную. Воздух в комнате был влажным, теплым и чуть соленым. Должно быть, только что кончился сеанс. Мать лежала на диване, положив ноги на валик, на кончиках пальцев болтались ковровые тапочки.
– Молли приходила, – сказала она и села, чтобы продемонстрировать готовность к беседе. – Рада тебе сообщить, что у нее все будет хорошо.
Поставив принесенный из кухни ящик с обувными принадлежностями, Робби сел в ближайшее к матери кресло и разложил на полу «Дейли скетч» трехдневной давности.
– Ты молодец, – сказал он. – Я слышал, ты занята, поэтому прошел прямо в ванную.
Он знал, что скоро нужно будет уходить, а до этого еще предстояло начистить туфли, но откинулся на спинку кресла, вытянулся во весь свой немалый рост и зевнул:
– Пора отделить зерна от плевел! Что я делаю со своей жизнью?
В его тоне было больше иронии, чем горечи. Сложив руки на животе, он уставился в потолок.
Мать посмотрела куда-то поверх его головы.
– Слушай, я чувствую, что-то происходит. Что с тобой творится? Только не вздумай этого отрицать.
Грейс Тернер начала служить у Толлисов через неделю после того, как сбежал Эрнест. У Джека Толлиса даже мысли не возникло выселить молодую женщину с ребенком из бунгало. Он нашел в деревне нового садовника и мастера, который не нуждался в жилье. Поначалу было решено, что домик останется за Грейс еще на пару лет, пока она не надумает переехать или снова не выйдет замуж. Ее добрый нрав и мастерство в полировке мебели – пристрастие Грейс именно к этой работе даже стало предметом семейных шуток – снискали ей популярность, но истинным спасением и возможностью вывести в люди Робби стала для нее пылкая любовь к шестилетней Сесилии и восьмилетнему Леону. Во время каникул Грейс разрешалось приводить с собой шестилетнего сына. Робби позволяли играть в детской и прочих комнатах, доступных детям, а также в саду. В лазанье по деревьям компанию ему составлял Леон, Сесилия была сестренкой, которая доверчиво держалась за его руку и для которой он был кладезем знаний. Несколько лет спустя, когда Робби завоевал стипендию на обучение в местной классической гимназии, Джек Толлис сделал первый шаг на пути долгосрочного патронажа, оплатив школьную форму и учебники юного Тернера. В том самом году родилась Брайони. Роды были трудными, и Эмилия долго хворала. Как незаменимая помощница в доме Грейс еще более укрепила свои позиции. На утро Рождества 1922 года Леон в высокой шляпе и брюках для верховой езды по поручению отца протопал по снегу к бунгало, держа в руках зеленый конверт. Поверенный мистера Толлиса уведомлял, что отныне бунгало официально принадлежит Грейс, независимо от того, будет ли она и дальше служить у Толлисов. Но Грейс не захотела уходить, просто теперь, когда дети выросли, вернулась к хозяйственным заботам, особое внимание уделяя безупречной полировке мебели.
Что касается Эрнеста, то ее легенда гласила, будто он отправился на фронт под чужим именем и не вернулся с войны. Иначе полное отсутствие у бывшего мужа Грейс желания узнать хоть что-то о собственном сыне выглядело бы бесчеловечным. Каждое утро, направляясь из своего бунгало в большой дом, Грейс размышляла о милостях, которые даровала ей судьба. Эрнеста она всегда немного побаивалась. Возможно, с ним она и не была бы так счастлива, как счастлива теперь, живя в собственном маленьком домике со своим гениальным сыном. Конечно, если бы мистер Толлис оказался другим человеком… Среди женщин, которые приходили к ней за шиллинг заглянуть в будущее, было немало таких, которых бросили мужья, еще больше – потерявших мужей на войне. Они вели весьма скромную жизнь, нуждались, и сама она легко могла бы оказаться на их месте.
– Ничего, – вопреки ее просьбе ответил Робби. – Со мной ничего не происходит. – Он смазал туфли гуталином и взял в руки щетку. – Значит, будущее Молли обещает быть радужным?
– В течение пяти лет ей предстоит снова выйти замуж. Она встретит мужчину с Севера, имеющего профессию, и будет очень счастлива.
– Меньшего она и не заслуживает.
В мирной тишине Грейс наблюдала, как Робби полирует свои туфли желтой бархоткой. Мышцы его красивых скул подергивались в такт движениям, а на руках то взбухали, то опадали, играя под кожей. Должно быть, есть высшая справедливость в том, что Эрнест подарил ей такого сына.
– Стало быть, ты уходишь?
– Леон приехал, я встретил его, когда он въезжал в поместье. Он уговорил меня прийти на ужин. С ним его друг, ну, тот, шоколадный магнат, знаешь?
– Конечно, я ведь полдня начищала серебро и убирала в его комнате.
Робби встал с туфлями в руке.
– Глядя на свое отражение в серебряной ложке, я буду видеть тебя.
– Да ладно тебе. Твои рубашки висят в кухне.
Он сложил в ящик обувные принадлежности, отнес его на место, в кухню, там же из трех висевших на плечиках рубашек выбрал льняную, кремовую. Когда Робби снова проходил через гостиную, ей захотелось еще немного задержать его:
– Эти маленькие Куинси… Бедные овечки. Один из мальчиков даже промочил постель.
Замешкавшись в дверях, Робби пожал плечами. Сегодня утром он видел их у бассейна. Визжа и хохоча, мальчишки пытались закатить на глубину его тачку и сделали бы это, не помешай он им. А Дэнни Хардмен, которому положено было работать, околачивался рядом, пялясь на их сестру.
– Ничего, они как-нибудь выживут, – сказал Робби.
Ему не терпелось поскорее уйти. Взбежав по лестнице через три ступеньки к себе в комнату, чтобы наскоро завершить туалет, он, наклонившись и глядя в зеркало на внутренней стенке дверцы гардероба, напомадил и причесал волосы, фальшиво при этом насвистывая. У него не было музыкального слуха, он не мог отличить одну ноту от другой, но, окончательно решившись идти на ужин, чувствовал себя взволнованным и, как ни странно, свободным. Хуже, чем есть, все равно быть не может. Методично, словно готовясь к рискованному путешествию или воинскому подвигу и наслаждаясь своей сноровистостью, он привычно положил в карман ключи, проверил бумажник – там лежала банкнота в десять шиллингов, почистил зубы, прикрыл рот ковшиком ладони и выдохнул, чтобы проверить чистоту дыхания, схватил со стола письмо, вложил его в конверт, набил портсигар, нащупал в кармане зажигалку. В последний раз осмотрел себя в зеркале: широко улыбнулся, приоткрыв зубы, повернулся в профиль, потом спиной – обозрел вид сзади через плечо. Наконец, охлопав карманы, ринулся вниз по лестнице, снова прыгая через три ступеньки, крикнул матери «пока» и вышел на узкую, мощенную кирпичом дорожку, бежавшую меж цветочных бордюров к воротцам в заборе из штакетника.
В последующие годы он нередко будет мысленно возвращаться к этим минутам, вспоминать, как, срезая угол, шагал через дубовую рощу по тропинке, потом вышел на дорогу там, где она сворачивала к озеру и вела дальше – к дому. Он не опаздывал, но с трудом сдерживал шаг. В насыщенности тех минут сплеталось множество отчетливых и смутных приятных ощущений: красноватая догорающая заря, неподвижный теплый воздух, напоенный ароматами высохших трав и разогретой земли, расслабленные после дневной работы в саду ноги и руки, кожа, гладкая от долгого лежания в ванне, ощущение прикосновения к ней рубашки и ткани костюма – его единственного костюма. Предвкушение и страх увидеть ее были тоже своего рода чувственным наслаждением. И надо всем этим, словно осеняя все вокруг, царил душевный подъем. Это могло причинять боль, рождать чувство страшной неловкости, из этого могло ничего хорошего не выйти, но Робби открыл для себя, что значит быть влюбленным, и испытывал приятное возбуждение. Радость вливалась в него и по другим притокам: он все еще гордился тем, что оказался лучшим в своем выпуске. А теперь вот и от Джека Толлиса пришло подтверждение: он готов субсидировать продолжение учебы Робби. Нет, впереди вовсе не изгнание, а новое приключение – внезапно Робби это отчетливо понял. Хорошо и правильно, что он решил изучать медицину. Он не мог бы объяснить причину своего оптимизма, просто был счастлив и, следовательно, обречен на успех.
Одно-единственное слово заключало в себе все, что он чувствовал, и объясняло, почему впоследствии он будет так часто вспоминать именно эти минуты. Свобода. Свобода в жизни, свобода в мышцах. Давным-давно, когда он еще ничего не слышал ни о какой классической гимназии, его записали на экзамен, который вскоре предстояло сдать. Как бы ни нравился ему Кембридж, этот университет тоже был не его выбором, а выбором честолюбивого классного наставника. Даже профессию предопределил Робби харизматический учитель. Но теперь наконец начинается самостоятельная взрослая жизнь. Робби словно сочинял рассказ, героем которого был сам, и начало истории немного шокировало его друзей. Парковый дизайн был не более чем богемной фантазией, равно как и сомнительная амбиция – так он сам анализировал свои психологические мотивы по Фрейду – заменить или превзойти отсутствующего отца. Школьное наставничество – через пятнадцать лет должность руководителя секции английского языка и литературы и табличка «М-р Р. Тернер, магистр искусств в области педагогики, Кембридж» – не находило отражения в сюжете, не было там и преподавания в университете. Несмотря на первое место в выпуске, изучение английской литературы казалось ему теперь лишь увлекательной интеллектуальной игрой, а чтение книг и рассуждения о них – не более чем желательным атрибутом цивилизованного существования. Но оно не было стержнем жизни, что бы ни говорил на лекциях доктор Ливис. Оно не являлось объектом священного поклонения, смыслом жизненно важных исканий пытливого ума, и даже не было первой и последней линией защиты перед лицом варварских орд, оно ничем не отличалось от изучения живописи, музыки или естественных наук.
В последний год учебы, посещая всевозможные собрания и лекции, Робби слышал, как психоаналитик, представитель коммунистического профсоюза и физик ратовали за свою область деятельности с той же страстью и убежденностью, что Ливис – за свою. Вероятно, то же делали медики, но для Робби все имело личный характер: его склонной к практицизму натуре и неосуществленным научным устремлениям нужен был выход, занятия гораздо более изощренные, чем те, каким он предавался на ниве практической литературной критики. Кроме всего прочего, это будет его собственный выбор. Он снимет квартирку в чужом городе – и все начнет сначала.
Выйдя из рощи, Робби дошел до того места, где тропинка вливалась в главную дорогу. Гаснущий день укрупнял сумеречное пространство парка, и мягкий желтоватый свет в окнах на дальнем конце озера делал дом почти величественным и красивым. Она была там, возможно, в своей комнате, одевалась к ужину – ее окна отсюда не видно, оно на другой стороне дома, на третьем этаже, и выходит на фонтан. Он отогнал от себя пылкие мысли о ней, не желая являться в дом в возбужденном состоянии. Толстые подошвы его туфель громко шлепали по щебню – словно тикали гигантские часы, – и он обратился мыслями ко времени, его колоссальным запасам, к роскошеству неистраченного будущего. Никогда прежде он не чувствовал себя столь трепетно молодым и никогда не ощущал такой жажды, такого нетерпения начать новую жизнь. В Кембридже были преподаватели, обладавшие живым умом и все еще мирно игравшие в теннис и занимавшиеся греблей, хотя были на двадцать лет старше его. По крайней мере еще двадцать лет он сможет разворачивать свою жизненную историю, находясь приблизительно в такой же хорошей физической форме, – это почти столько же, сколько он уже прожил. Двадцать лет перенесут его вперед, к футуристической дате: 1955 год. Что важное, что не дано ему понять сейчас, откроется тогда? Суждено ли ему после этого прожить еще лет тридцать, отмеченных большей вдумчивостью?
Робби представил себя в 1962 году, в возрасте пятидесяти лет, то есть стариком, но не настолько дряхлым, чтобы стать бесполезным. К тому времени он будет опытным врачом, хранящим секреты многих трагедий и успехов в шкафах своего кабинета. В этих же шкафах будут собраны тысячи книг. Кабинет будет огромным, освещенным приглушенным светом, с развешанными по стенам трофеями, знаменующими этапы его жизни: редкие травы из тропических лесов, стрелы с отравленными наконечниками, несостоявшиеся изобретения в области электричества, фигурки из мыльного камня, ссохшиеся скальпы… На полках – медицинские справочники и, разумеется, собственные заметки и размышления Робби, а также книги, переполняющие сейчас его каморку в мансарде, – поэзия восемнадцатого века, почти убедившая его стать парковым дизайнером, третье издание Джейн Остин, его Элиот, Лоренс, Уилфред Оуэн, полное собрание сочинений Конрада, бесценное издание «Деревни» Крабба 1783 года, его Хаусмен, экземпляр «Танца смерти» Одена с автографом автора. В этом весь фокус: будучи столь начитанным, он станет гораздо лучшим врачом, чем другие. Какие глубокие толкования его обостренная чувствительность сможет извлечь из человеческого страдания, саморазрушительного безрассудства или простого невезения, подталкивающих человека к болезням! Рождение, смерть, а между ними – бренность бытия. Восхождение и падение – это сфера ответственности врача, но и литературы тоже. Робби думал о романе девятнадцатого века: безграничная терпимость и широта взглядов, неназойливая душевная теплота и холодность суждений. Обладающий подобными качествами врач сможет противостоять чудовищным ударам судьбы и тщетным, смехотворным попыткам отрицать неизбежное; он уловит едва заметный пульс, услышит затухающее дыхание, почувствует, как начинает холодеть рука мечущегося в горячке больного, и осмыслит все, как умеют лишь литературные и религиозные учителя, ничтожество и благородство человечества…
В тишине летнего вечера мерный стук его шагов ускорялся в такт бегу ликующих мыслей. Ярдах в ста впереди появился мост, а на нем – что-то белое, что поначалу показалось ему частью светлого каменного парапета. От усилий рассмотреть предмет очертания его расплывались, но, когда Робби подошел на несколько шагов ближе, они обрели абрис человеческой фигуры. С того расстояния, где он теперь находился, невозможно было определить, стоит человек к нему лицом или спиной. Фигура была неподвижна, но Робби чувствовал, что за ним наблюдают. Минуту-другую он тешил себя мыслью о привидении, хотя никогда не верил ни во что сверхъестественное, даже в то исключительно нетребовательное существо, которое осеняло старую церковь в деревне. Теперь он рассмотрел, что это ребенок в белом платьице, стало быть, Брайони – он встречал ее сегодня в этом наряде. Да, вот она уже отчетливо видна. Он поднял руку и, помахав, крикнул:
– Это я, Робби.
Девочка осталась неподвижной.
Подходя, он вдруг подумал, что было бы лучше, если бы письмо предвосхитило его появление в доме. Иначе ему придется вручать его Сесилии в присутствии посторонних, быть может, при ее матери, которая относилась к нему прохладно с тех пор, как он вернулся домой. А может, ему и вовсе не удастся передать письмо, потому что Сесилия постарается держаться от него подальше. Если письмо принесет Брайони, Сесилия успеет прочесть его и поразмыслить над ним в одиночестве. За эти несколько минут она, бог даст, смягчится.
– Не могла бы ты сделать мне одолжение? – спросил Робби, приблизившись.
Брайони молча кивнула.
– Беги вперед и отдай эту записку Сесилии. – Он вложил конверт девочке в руку, она приняла его, не произнеся ни слова. – Я приду через несколько минут, – продолжил он, но Брайони уже повернулась и побежала по мосту.
Облокотившись на парапет и наблюдая, как маленькая фигурка, подпрыгивая, удаляется, постепенно растворяясь в сумерках, Робби достал сигарету. Трудный у нее сейчас возраст, сочувственно подумал он. Сколько ей – двенадцать, тринадцать? Через несколько секунд Брайони скрылась из виду, потом он снова заметил ее, когда она бежала через остров – светлое пятно на фоне чернеющей массы деревьев, – потом снова потерял из виду и увидел опять лишь тогда, когда, миновав второй мост, она свернула с дорожки, чтобы срезать путь по траве. И вот тут-то его, внезапно пронзенного догадкой, охватил ужас. Неопределенный крик невольно вырвался у него. Он сделал несколько быстрых шагов, споткнулся, побежал, но вскоре снова остановился, поняв, что погоня бессмысленна. Сложив ладони рупором, он громко позвал Брайони, но и это уже не имело смысла. Робби пристально вглядывался в сгустившиеся сумерки, словно это могло помочь, и напрягал память, отчаянно пытаясь убедить себя, что ошибся. Но ошибки не было. Рукописный текст он оставил на «Анатомии» Грея, раскрытой на главе «Внутренние органы», страница тысяча пятьсот сорок шестая, раздел «Влагалище». А в конверт вложил печатный текст, лежавший рядом с машинкой. Здесь не требовалось даже никакого фрейдистского умствования – объяснение было предельно простым: текст безобидного письма чуть прикрывал рисунок номер тысяча двести тридцать шесть, изображавший бесстыдно распластанный венчик лобковых волос, а непристойное лежало на столе под рукой… Он еще раз выкрикнул имя Брайони, хотя понимал, что она должна быть уже у дома. И точно, через две секунды вдали обозначился прямоугольник бледно-желтого света, на фоне которого маячила ее фигурка, прямоугольник чуть расширился, на мгновение застыл, потом сузился и вовсе исчез – девочка вошла в дом, и дверь за ней закрылась.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!