Текст книги "СТАРАЛСЯ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ИЗ СЕРДЦА. Писательская книга, или Загадка художественного мышления"
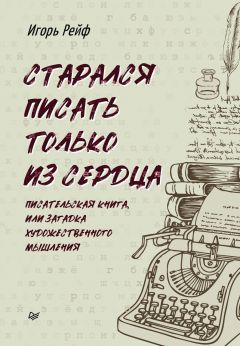
Автор книги: Игорь Рейф
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Глава 2
Художественное мышление в зеркале литературы
Незримая рука
Если в рамках антитезы «аналитический подход к действительности – образное восприятие мира» мы до сих пор обходились без понятия художественного мышления, то это лишь потому, что его «представительствовало» мышление образное. Ведь они не только неотделимы, но порой и неотличимы друг от друга, одно есть продолжение другого. При этом художественное мышление может рассматриваться как своего рода психическая надстройка над образным, сформировавшаяся за века культурного развития человечества. Но вступая в мир художественной литературы, мы все-таки попытаемся отличить неотличимое, поскольку «отличимое» имеет свою особую специфику, связанную прежде всего с нашей способностью к символическому мышлению, но не только. И если в предыдущей главе мы оперировали данными, заимствованными в основном из практики или эксперимента, то теперь нам предстоит иметь дело с более зыбкими понятиями и представлениями, такими как наши субъективные переживания, а иногда и их внешнее как бы отсутствие.
Так, например, эстетические эмоции – и это одна из загадок искусства – при всей их подчас высокой интенсивности переживаются нами как-то по-особому и зачастую без всяких внешних проявлений, в силу чего их можно назвать «тихими» эмоциями. «Искусство, – пишет Лев Выготский, – как будто пробуждает в нас чрезвычайно сильные чувства, но чувства эти вместе с тем ни в чем не выражаются. <…> Таким образом, именно задержка наружного проявления является отличительным признаком художественной эмоции при сохранении ее необычайной силы»[6]6
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 267–268.
[Закрыть].
Вместе с тем нельзя не обратить внимания и на другой характерный момент художественного восприятия, который можно определить как нейтрализацию читательской или зрительской воли. Вспомним в этой связи, как трудно бывает нам оторваться от увлекательной книги или с какой неохотой встаем мы от телевизора после взволновавшего нас фильма, тогда как хотелось бы, чтоб он длился и длился. А чтобы переключиться на другой род деятельности, нам нужно приложить некоторое усилие. Причем справедливость этих слов простирается не только на создания настоящих мастеров, но и на весьма заурядные, добросовестно слепленные по законам жанра.
«Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, покойно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли. Не хотелось вставать».
Этот отрывок чеховского «Ионыча» может служить своеобразной иллюстрацией к только что сказанному. Что же говорить о творениях истинных художников, чья уверенная рука ведет за собой читателя, заставляя на время забыть себя и мощно вовлекая его в русло авторской воли.
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы,
Уж за рекой, дымясь, пылал
Костер рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Прежде всего, хотелось бы отметить, как ритмически совершенно выстроена эта строфа из седьмой главы «Евгения Онегина» и как постепенно ширятся вводимые в нее слова. Сначала короткие, одно– и двусложные (вечер, небо, воды), целиком построенные на сочетании звучных согласных – б, в, д. Затем трехсложные, где доминантой становятся уже протяжные, словно перетекающие друг в друга открытые гласные – и, у, а: «Стру-и-лись т-и-хо. Жук жужж-ал». И наконец, два четырехсложных, с ударением на предпоследнем слоге, привольно раскинувшихся почти на всю строку: «Уж расход-и-лись хо-ро-в-о-ды». И как параллельно ширятся сменяющие одна другую фразы. Так, если два первых двусловных предложения целиком помещаются на пространстве одной строки, то третье захватывает уже и следующую, а шестое, не вмещаясь и в четверостишие, распространяется на полстрочки следующего, которое седьмым предложением заполняется почти целиком.
А в результате у нас возникает ощущение, будто сама стихотворная строка неудержимо ширится и несет нас на своей просторной волне, самим темпоритмом погружая читателя в атмосферу прозрачного летнего вечера, и мы, не поспевая за ней дыханием, постигаем ее содержательную сторону – задумчивость и печаль героини – именно через это завораживающее нас движение.
Но это поэзия. А что же проза? Далее я постараюсь показать, что и здесь не обходится без незримой «руки», которая ведет нас через все сюжетные перипетии к неведомой и невидимой нам цели.
Есть такое выражение – «художественный плен», подразумевающее ту почти гипнотическую власть, которую обретают над нами произведения искусства, включая и искусство слова, вовлекая читателя в свою магическую орбиту. Нам легко и приятно следить за разматываемым у нас на глазах клубком событий, и мы послушно следуем этой чужой, но согласной с нашим сердцем воле, будучи уверены, что она искусно развяжет самые тугие узлы и найдет выход из любого затруднительного положения. И даже если на секунду промелькнет мысль: «А как же, интересно, выберется герой из этой тупиковой ситуации или как автор распутает эту узлом затянувшуюся интригу?» – но о том, чтобы додумать ее самостоятельно, не может быть и речи. И мы продолжаем глотать кусок за куском, лишь успевая отмечать про себя: «А ведь только так и мог, пожалуй, распутаться этот сюжетный узел, и что никак по-иному не могла закончиться дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова, не повредив художественной конструкции тургеневского романа».
Впрочем, сильно ли отличаются наши ощущения, когда мы заново перечитываем какой-нибудь рассказ или повесть или смотрим уже знакомый нам фильм, то есть когда заранее знаем, что будет «потом»? Нет, настоящее художественное произведение не утрачивает своей свежести и при повторном прочтении, тогда как какую-нибудь историю, рассказанную «без затей», мы едва ли будем перечитывать с прежним интересом. Очевидно, заложенный в нем эстетический потенциал не исчерпывается при первом ознакомлении и сохраняет силу своего воздействия и при повторных к нему обращениях. Но насколько сцеплена эта специфика с его «гипнотической составляющей»?
Обратимся еще раз к рассказу Чехова «Ионыч», только на этот раз к его вводному абзацу:
«Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую».
Если отбросить художественную сторону этого непритязательного, на первый взгляд, вступления, то всю содержащуюся в нем информацию можно свести к двум позициям. Это, во-первых, культурный патриотизм городских жителей, покоящийся не вовсе на пустом месте: в городе С. действительно имеются кое-какие культурные учреждения и устраиваются мероприятия вроде балов. А во-вторых, наличие в С. некоторого числа образованных семей, представителем которых может служить семья Туркиных.
Но что нам, читателям, до всех этих давным-давно канувших в небытие реалий дореволюционного губернского города? И едва ли подобная информация способна взволновать сегодня кого бы то ни было. А вот чеховское вступление волнует и задевает за живое. Так может, все дело в том, как оно выстроено?
В самом деле, уже первая фраза, начинающаяся с вводного союза «когда» и вынесенного вперед «в губернском городе С», сразу, без разбега, приобщает нас к коловращению местной провинциальной жизни, к атмосфере этих застарелых городских споров, начавшихся задолго до того, как мы узнали о них из авторского вступления. Причем где-то между строк проглядывает и физиономия самих «спорщиков», этих завзятых городских патриотов с их душевной деликатностью и милым ненавязчивым провинциализмом, может быть, где-то про себя даже признающих правоту своих оппонентов и все же, наперекор всему, испытывающих потребность отстаивать честь и достоинство родного города.
Однако ничего этого впрямую в авторском тексте нет. Оно именно угадывается, просвечивает в нем благодаря отдельным, будто случайно оброненным деталям. Например, деепричастному обороту «как бы оправдываясь», позволяющему составить некоторое представление о немногочисленной местной интеллигенции – публике в массе своей, как уже было сказано, деликатной и в общем симпатичной, во всяком случае не коснеющей в своем провинциализме. Кое о чем говорит также наречие «напротив» (вместо «наоборот», что чаще принято) – как наиболее мягкая форма возражения.
А теперь приглядимся к синтаксической и ритмической структуре чеховского вступления. Его длинная вводная фраза (настолько длинная, что компьютерный «цербер» даже пометил ее – без учета художественного контекста – как трудную для восприятия) построена по принципу постепенного раскручивания содержащегося в ней сообщения – с использованием повторяющегося союза «что» и добавлением наречия «наконец» на вершине ее разбега, которые нередко используются в риторических приемах. По сути, этой растянувшейся почти на весь абзац фразой Чехов панорамирует жизнь города С, обрисовывая легкими штрихами его «культурную физиономию».
Но не менее примечателен и фонетический план этой фразы, в силу чего она как бы разбита надвое: до противительного союза «напротив» и после него. И если первая ее часть с удлиненными речевыми периодами (синтагмами) и малозаметными интонационными ударениями (когда в губернском городе э́С приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив) произносится словно на одном дыхании, напоминая растянувшееся на полфразы слово, то перевалив через экватор, характер фразы меняется. Резкое укорочение речевых периодов и связанное с ним интонационное сгущение (в э́С очень хорошо, / в э́С есть библиотека, / театр, / клуб, / бывают балы), как бы намекающее на некоторую упертость патриотов города С, заставляют нас чуть задержаться на этих «ударных», в прямом и переносном смысле, аргументах спорщиков, чтобы затем, скользнув по цепочке синонимически близких и почти сливающихся эпитетов (умные, интересные, приятные семьи), устремиться к ее финалу.
Казалось бы, смысловая преемственность между этой и следующей коротенькой фразой позволяет поставить здесь запятую, но художественная интуиция подсказала автору иное. А истинный смысл подобного «водораздела» становится понятен при их сопоставлении. Так, если первое предложение – это взгляд на жизнь города С. через широкоугольный объектив, то во втором перед нами крупный план, сфокусированный на семье Туркиных. Этому способствует и ее укороченность, и интонационно-смысловой сдвиг, приходящийся на три начальных слова (И указывали на семью Туркиных), фактически играющих здесь роль смыслового подлежащего. А в результате такая перебивка планов как бы предуготовляет нас к более плотному знакомству с семейством Туркиных – второму по значению «собирательному» герою рассказа, которому посвящен весь следующий абзац.
«Мысль, выраженная словами, страшно понижается…»
Этот несколько затянувшийся анализ вступления к одному из широко известных рассказов Чехова понадобился нам, конечно, не сам по себе, а чтобы еще раз продемонстрировать, как «работает» художественный текст на том уровне, который практически не охватывается нашим контролирующим сознанием и, по замечанию Алексея Леонтьева, скрыт от самонаблюдения. И не потому ли он с первых же слов захватывает нас, что действует в обход нашего вербально-логического мышления, адресуясь к более глубоким пластам нашей психики?
Но если такова специфика воздействия художественного произведения на читателя или слушателя, то не логично ли предположить, что и процесс его сочинения развертывается на основе тех же или по крайней мере родственных им законов? Косвенное подтверждение этому мы находим, в частности, в знаменитом письме Льва Толстого Николаю Страхову, который ранее поделился с автором «Анны Карениной» своей версией понимания этого романа, – вопрос, занимавший в те годы многих его читателей:
«Почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения»[7]7
Толстой Л. Н. Письма. 296. Н. Н. Страхову. 1876 г. Апреля 23 и 26. Ясная Поляна // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 18. С. 784.
[Закрыть].
Но если автор, по Толстому, не может выразить свою художественную мысль впрямую, а только опосредованно, то, следовательно, пролагая путь от не проясненного поначалу замысла к завершенному тексту, он не может обойтись без тех или иных литературных приемов, которые читатель получает готовыми, а писатель должен еще найти в процессе своего творческого поиска.
«Кто видел корректуры его сочинений, – писал в начале прошлого века в своем эссе о Толстом Юлий Айхенвальд, – те знают, каким бесконечным переделкам подвергал он все им написанное, как долго и терпеливо обдумывал он каждую строку, но едва ли хоть одна из этих бесчисленных и настойчивых поправок касается стиля, внешности: все они имеют в виду только существо, только содержание. Заботы о слоге для Толстого не существует, она в его глазах – кощунство, забота о слове – грех против Слова; о технике он не думает и себя как писателя не ощущает, не замечает»[8]8
Айхенвальд Ю.И. Л. Толстой // Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 221.
[Закрыть].
Позволим себе, однако, не согласиться со знаменитым критиком. Да, некоторая тяжеловесность стиля, длинные периоды, повторы – все это у Толстого есть, но все же никак нельзя признать, что заботы о слоге для него не существует. И чтобы убедиться в этом, достаточно открыть хотя бы «Войну и мир» практически на любой странице, в особенности там, где действуют любимые автором герои.
«Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома».
И не нужен даже специальный лингвистический анализ, чтобы почувствовать, как ладно скроена эта легкая и стремительная фраза. Нет, как бы глубоко ни копал Лев Толстой, от законов построения художественного текста ему не уйти никуда. В данном случае эти толстовские сцепления выражаются в том, что мы как бы перестаем замечать отдельные слова в их логической связи и воспринимаем приведенную фразу как нечто целое, как единый организм, пронизанный сложным, многообразным, не охватываемым аналитическим мышлением смыслом.
Особенно примечателен в этом плане соединительный союз «как» («как послышались из кабинета ожидаемые шаги»), с помощью которого сводятся воедино и дерзкое суждение об отце князя Андрея, и невысказанное возражение княжны Марьи, с привычным страхом ожидающей появления старого князя, и его бесподобно переданные энергичные шаги, а через них и весь его деспотически-деятельный характер, держащий в повиновении весь дом. А в результате именно эти шаги, выделенные авторским двоеточием, оказываются центром тяготения, фокусом этой фразы, к которому стремится и на котором держится ее динамически напряженная конструкция.
А теперь приведу пример совсем другого сцепления: «Почвенное подкисление считают одной из причин усыхания лесов умеренной зоны Северного полушария. В угрожающих масштабах деградация лесов проявилась в начале 70-х годов». В отличие от предыдущей, эта сугубо логическая конструкция по сути своей статична, то есть лишена какого-либо внутреннего движения, а связь между образующими ее словами имеет линейный (однозначный) характер. Поэтому данный текст можно определить как дискретный: он легко распадается на отдельные слова, образующие жесткую причинно-следственную цепочку, для осмысления которой требуется некоторое волевое усилие.
Подобный тип мышления, как уже говорилось, нейропсихологи связывают с функцией левого полушария головного мозга, ответственного за «формирование высокоупорядоченного однозначно понимаемого контекста, который обеспечивает последовательный логический анализ»[9]9
Ротенберг В. С. Межполушарная асимметрия, ее функция и онтогенез // Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. – М.: Научный мир, 2009. С. 226.
[Закрыть]. Правое же полушарие, согласно современным представлениям, отвечает за формирование многозначного контекста и образное мышление. Преимущество этой стратегии мышления проявляется тогда, «когда информация сложна, внутренне противоречива и не может быть исчерпывающе представлена в рамках контекста однозначного»[10]10
Ротенберг В. С. Межполушарная асимметрия, ее функция и онтогенез // Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. – М.: Научный мир, 2009. С. 226.
[Закрыть].
Сновидения и произведения искусства – вот типичные примеры такой контекстуальной многозначности, не сводимой к ее вербально-логическому истолкованию («мысль изреченная есть ложь» сказано по этому поводу). И потому-то так часто разбиваются наши попытки пересказать многие сновидения обычными словами: материя сна ускользает от нас, а его пересказ выглядит рядом с ним бледной тенью, так что мы, махнув рукой, в конце концов отступаемся.
Но это сны – подарок нашего мозга. Материя же искусства по сути своей рукотворна, а восприятие сотканной художником образной ткани, в отличие от сновиденческой, происходит на фоне бодрствующей активности мозга. То есть если сны мы часто воспринимаем некритически, то в случае художественного восприятия мы в любой момент можем поверить его холодным судом рассудка, как это чаще всего и бывает, когда мы имеем дело с произведениями слабыми и бесталанными. Но там, где они созданы рукою мастера, что-то мешает нам отрешиться от их гипнотического воздействия.
По стопам Выготского
Те, кто учился в советской школе, должно быть, помнят, как в ряду азов литературоведения, вдалбливаемых нам, старшеклассникам, бытовал расхожий тезис о единстве формы и содержания художественного произведения. Лирическое стихотворение должно быть написано легким, прозрачным слогом, а комический персонаж выведен недотепой либо невеждой и т. д. А между тем, как показал Выготский, указанное единство не более чем миф, а исходный материал, положенный в основу того или иного произведения (его содержание), и способ его художественного воплощения не только не отвечают один другому, но, напротив, чаще всего друг другу противоречат. «В художественном произведении, – пишет он, – всегда заложено некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой. <…> И то формальное, которое автор придает этому материалу, направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале <…> а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти свойства…»[11]11
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 208.
[Закрыть] Вот тогда-то и высекается та искра, которая рождает у читателя эстетическую эмоцию.
То же самое можно сказать и о содержательной стороне произведения, взятой в отношении к его композиционной структуре. Так, анализируя композицию рассказа Ивана Бунина «Легкое дыхание», Выготский показывает, как автор постоянно ломает хронологический ряд воспроизводимых им жизненных событий, достигая благодаря этой инверсии нужного ему эстетического эффекта. «Слова рассказа или стиха, – резюмирует Выготский результаты своего анализа, – несут его простой смысл, его воду, а композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый смысл, располагает все это в совершенно другом плане и претворяет это в вино»[12]12
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 201.
[Закрыть].
Попробуем и мы пойти по стопам Выготского, чтобы показать, как преображается под пером Льва Толстого банальнейшая, в сущности, история супружеской измены Стивы Облонского, внезапно открывшаяся его жене благодаря попавшей ей в руки любовной записке. Начало «Анны Карениной» помнят все, а потому нет надобности пересказывать его «своими словами». Но то, как подает его Толстой, заслуживает безусловного внимания.
Семейный скандал, как уже было сказано, разразился из-за этой злосчастной записки. Однако автор вовсе не спешит подвести нас к сцене ее обнаружения – той первой минуте, когда Стива застал свою потрясенную жену в ее спальне «с выражением ужаса, отчаяния и гнева», а делает это как бы издалека, рассказывая о том, как Облонский проснулся утром у себя в кабинете (а не в спальне жены) и, не найдя на привычном месте своего халата, вспомнил обо всем, что произошло накануне. А до этого описывая взрывоопасную атмосферу в доме, где дети бегали как потерянные, а взрослые «чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских». Так что не будет преувеличением сказать, что вся эта незамысловатая история помещена автором в некую раму, в обрамлении которой она и воспринимается читателем.
Чтобы передать смысл пятистраничного рассказа Бунина, Выготскому понадобилось двадцать с лишним страниц. Рамки настоящей главы не позволяют мне поступить подобным же образом, да и задача у меня совсем другая. Однако хотелось бы обратить внимание, как бесконечно усложняется смысл этой заурядной коллизии, когда писатель подает ее не в лоб, а вплетает в нее одну за другой подробности из жизни Облонских (даже сон проснувшегося на своем сафьянном диване Степана Аркадьевича), да еще предваряет все это знаменитой сентенцией: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Так, стежок за стежком, ткется эта художественная ткань, где все работает на авторский замысел, все идет в дело: и предоставленные самим себе бегающие по дому дети, и англичанка, поссорившаяся с экономкой и обратившаяся к приятельнице с просьбой «приискать ей другое место», и повар, ушедший со двора во время обеда, и груша (посреди зимы!), с которой вернувшийся из театра веселый и довольный Стива Облонский явился в спальню жены, застав ее с все открывшей ей запиской в руке. И вся эта «гармония банальных мелочей» (Владимир Набоков), как сетью, окутывает наше сознание, внося свой вклад в формирование той смутно постигаемой системы образов и представлений, которую мы называем иногда смыслом художественного произведения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































