Текст книги "СТАРАЛСЯ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ИЗ СЕРДЦА. Писательская книга, или Загадка художественного мышления"
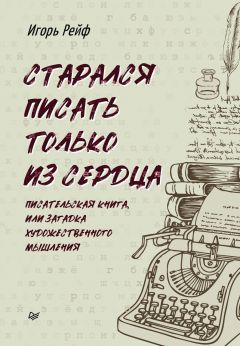
Автор книги: Игорь Рейф
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Глава 5
Мысли напоследок
Чуковская и Ахматова
Лидия Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой». Постоянное место их встреч – квартира Ардовых на Ордынке, где Анна Андреевна останавливалась во время своих наездов в Москву. Но помимо хозяев в квартире обитает еще одно существо – собака по имени Лапа со сдвинутой набекрень психикой – после того как ее в детстве ударили ногой, «и она теперь на всякий случай боится всех». Ахматову позвали к телефону, Лидия Корнеевна остается в комнате одна, и тут Лапа выскакивает из-под кровати и вцепляется зубами ей в туфлю. «Я громко закричала. Отталкиваю ее ногой, колочу по шее – держит. На мой крик вошла Анна Андреевна. Лапа мигом уползла под кровать. Тогда Анна Андреевна нагнулась, одною рукою за шкирку вытащила собаку из-под кровати (Лапа, повиснув у нее на руке, вся скорчилась от конфуза), шлепнула другою по спине и вышвырнула за дверь. Все это она проделала в одно мгновение, гибко, сильно – и даже не задохнулась»[54]54
Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. Т. 2. М.: Согласие, 1997. С. 115.
[Закрыть].
Сколько же нужно слов, чтобы передать этот эпизод средствами обычной, нехудожественной лексики и все равно не достичь желаемого. А между тем энергия авторской речи такова, что мгновенно, одними сказуемыми, с самой неожиданной стороны раскрывает образ «первой дамы империи»: «вытащила из-под кровати», «шлепнула по спине», «вышвырнула за дверь» «и даже не задохнулась». Последний штрих особенно примечателен, потому что речь все-таки идет о немолодой и не очень здоровой сердечнице. О том, что она еще и духовный символ целого поколения, нечего и говорить. И в этом комическом совмещении несовместимого, по-видимому, и кроется изюминка всего эпизода.
«Эксперимент», подсказанный самой жизнью
В июле 2000 года в 30-м номере «Литературной газеты» появилась заметка «Поголовно ушли на войну, а вернуться забыли». Признаюсь, название это меня слегка покоробило. Что значит «вернуться забыли»? И как вообще можно «забыть» вернуться с войны? Мой здравый смысл громко протестовал. И лишь когда я дочитал заметку до конца, то все понял.
Написанная по случаю открытия мемориальной доски в Центральном доме литераторов, она была посвящена памяти знаменитого предвоенного поколения выпускников ИФЛИ (Института философии, литературы, истории), известного нам по именам Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого и др., половина которого полегла на полях Великой Отечественной войны. А название заметки представляло собой усеченную строфу из стихотворения Валентина Резника:
Легендарное слово – ИФЛИ,
Где юнцы, словно боги, творили,
А потом поголовно ушли
На войну, а вернуться забыли.
В результате строка из названия заметки оказалась всего лишь констатацией факта: ушли на войну и не вернулись. И конечно, в этом плоском, внепоэтическом контексте слово «забыли» прозвучало более чем странно. Но вот в другом контексте, поэтическом, оно обретает совсем иное звучание, вступая в перекличку (внелогическую взаимосвязь) со второй строкой стихотворения: «Где юнцы, словно боги, творили». И этот полушутливый оттенок слова «забыли», едва ли приемлемый по отношению, скажем, к рабочему ополчению или к деревенским новобранцам, оказывается очень уместным, характеризуя этот легкий и звонкий народ, которому все нипочем, сообщая стихам какую-то особую щемящую ноту – ненавязчивое напоминание об их молодых оборванных жизнях.
Попутно замечу, как совсем по-другому зазвучало в стихах и сказуемое «ушли», вынесенное в конец строки и оторванное от обстоятельства места («на войну»). Благодаря этой ритмической выделенности оно оказалось встроенным в более широкий, бытийный, что ли, контекст – ушли вообще, ушли из этого мира, – обостряя чувство невосполнимости утраты.
А ведь всего-то и позволил себе автор заметки, что опустить в ее названии не столь существенное, на первый взгляд, наречие «потом» да убрать разбиение поэтических строк, сведя две в одну. Но и этой малости оказалось достаточно, чтобы свести на нет их эстетическое наполнение. Не зря ведь, как заметил когда-то Карл Брюллов своему восхищенному ученику после того, как чуть-чуть подправил его незадавшийся этюд, искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть».
Музыка и кинематограф
Люди, непривычные к серьезной музыке, должно быть, знают, что она может оставить их равнодушными в концертном зале и взволновать в кино или по телевидению, где она звучит в качестве звукового сопровождения. Причина, видимо, в том, что сам факт волевого сосредоточения на процессе слушания мешает нам беспрепятственно отдаться музыкальному впечатлению, тогда как в кино наше внимание поглощено тем, что происходит на экране. О музыке в этот момент мы не думаем, и это недумание благотворно сказывается на нашей воспринимающей способности, а прозвучавшая музыка проникает в душу и западает в память. Так что тем, кто привык считать себя невосприимчивым к серьезной музыке, придя в концертный зал, лучше не думать, зачем они сюда пришли, и поменьше прислушиваться к своим чувствам, которые должны проснуться с первым взмахом дирижерской палочки. Ведь подобные мысли могут лишь убить живую душу музыки, поскольку питаются совсем из другого источника.
Голографический эффект искусства
Те, кому доводилось иметь дело с так называемыми двойными картинками, помнят, наверное, в чем заключается этот фокус. Одна из них, принадлежащая Кьюби и известная психологам под названием «Жена или теща?», представляет собой загадку, где зритель, в зависимости от установки, видит попеременно то изображение старой ведьмы в профиль, то молодой красавицы в анфас. Это восприятие, колеблющееся между двумя ликами, чем-то напоминает, по замечанию Вадима Ротенберга, эффект тропов в поэтике. Только если молодая женщина и старуха воспринимаются нами последовательно и независимо друг от друга (мы видим либо то, либо другое), то для художественного образа характерна симультанность (одновременность) восприятия различных его ипостасей. И когда мы читаем:
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречают утро года;
Синея, блещут небеса,
то видим не тающие под солнцем сугробы и не «потопленные луга» по отдельности, а сразу всю эту весеннюю сумятицу, в которой неразрывно сплелись и пиршество апрельского солнца, и бурлящие по оврагам снеговые потоки, и синее небо, отраженное в зеркале залитых приречных долин. И весь этот сотканный поэтом образ двоится и множится в нашем сознании, «мерцает», по выражению Юрия Лотмана, разными своими гранями, будучи несводимым ни к одной из них.
«Мертвые души» и линейное мышление
Как уже отмечалось многими философами и психологами (например, Карлом Юнгом), современная цивилизация и в особенности ее европейское крыло (так называемый европейский рационализм) по преимуществу левополушарная. Ведь почти все трудовые операции, бытовое и хозяйственное обустройство, заботы о здоровье, о хлебе насущном, инженерный расчет, программирование и логистика – вся эта необъятная сфера утилитарно-практического отношения к жизни круто замешена на левополушарном логическом мышлении. Однако хорошо известно, что утилитарным мировосприятием далеко не исчерпывается специфически человеческое отношение к окружающей действительности. Более того, человек по-настоящему становится человеком именно тогда, когда оказывается способен подняться над своими бытовыми потребностями, заглянуть за горизонт довлеющих над ним повседневных забот. Всякий же крен в сторону унылого прагматизма заведомо ущербен, и этой вечно злободневной проблеме посвящено немало страниц литературной классики. Так, например, «Мертвые души» Гоголя, в сущности, почти целиком об этом. Линейное, однополушарное мышление его героев, над которым смеется, но которому и ужасается автор, – это ли не образчик духовного оскудения, того убогого, недостойного человека существования, которое ведут все эти собакевичи, коробочки, Чичиковы. И единственно, что в состоянии противопоставить автор этому обществу, в котором торжествует убогий прагматизм, это его лирическое «Я». В «Мастере и Маргарите» Булгакова, где в центре внимания, в общем, та же проблема, эту осветляющую миссию выполняет надмирный Воланд. А если вспомнить, что и в том и в другом случае в стране царил жесткий полицейский режим, подавлявший малейшие проявления независимости и свободной мысли, станет ясно, что подобная «изотропность» этих двух романов отнюдь не случайна. И не потому ли именно Гоголь служил для Булгакова эталонным ориентиром в его творческих поисках?
Сверхсмысл и толстовские сцепления
Начну с небольшого фрагмента письма, полученного мной несколько лет назад в ответ на присланную распечатку документальной повести о не вернувшемся с войны выпускнике Московского университета. «Мы прочли на специальном собрании вашу рукопись, – сообщал мне декан биофака МГУ профессор М. В. Гусев. – Впечатление огромное. Многие плакали, а после чтения говорили и молчали, молчали и говорили… С вашей помощью донесся из далеких лет голос одного из нас, биофаковца Юры Зегрже, всколыхнув в нас мысли о судьбе, о счастье и несчастье, о любви, о страсти, о Родине».
Излишне говорить, что автор процитированного письма прекрасно владеет пером и что приведенный фрагмент обладает всеми свойствами художественного текста. При этом особое внимание хотелось бы обратить на выстроенный им словесный ряд в последней, ключевой фразе («всколыхнув в нас мысли о судьбе, о счастье и несчастье, о любви, о страсти, о Родине»). В сущности, речь здесь идет о некоем наборе жизненных ценностей, задуматься над которыми, очевидно, и побуждает присланная рукопись. А то, что это не простой набор, а средоточие этих ценностей, видно из контекста, в котором они фигурируют. Ведь в повести рассказывается о юноше, погибшем на войне, или, выражаясь высоким слогом, отдавшем жизнь за Родину А теперь произведем небольшую текстовую операцию: искусственно расчленим этот словесный ряд, превратив его в простое перечисление. Ну, например, так: «…Донесся из далеких лет голос, всколыхнув в нас следующие мысли: во-первых, о судьбе, во-вторых, о счастье и несчастье и, наконец, о любви и о Родине». Вы чувствуете, как сразу изменилось звучание фразы? А ведь не будь это художественный текст, то никакого криминала в подобном «расчленении» не было бы, поскольку оно полностью отвечает содержащейся в нем информации. Но в том-то и дело, что у автора письма это вовсе не бесстрастное перечисление, а единый смысловой сплав, где судьба, счастье, Родина так сцеплены между собой (толстовские сцепления!), образуя некий сверхсмысл, что передать его с помощью отдельно взятых понятий практически невозможно – а только во всей их нерасторжимой совокупности. И это еще одно свидетельство того, что любой фрагмент художественного произведения всегда содержит в себе нечто большее, что не вмещается в обычные словесные рамки и не охватывается непосредственно вложенным в них смыслом.
Перечитывание
«Культурный человек – это не тот, кто много читает, а тот, кто перечитывает». Этот афоризм давно и прочно вошел в наш литературный обиход. Но чем отличается чтение от перечитывания? И когда наступает момент «насыщения», когда даже любимая вещь в конце концов приедается? Попробуем разобраться.
В любом художественном произведении существует как бы два уровня, две информационные системы. Верхний – это тот, что открыт для прямого логического усмотрения. Подавляющая часть детективной продукции, полностью исчерпывающей себя при первом же прочтении, – вот пример этого уровня. Но есть литература более глубокого залегания, и вот она-то и составляет главный ресурс перечитывания. Более того, самая возможность перечитывания косвенно указывает на художественную многоплановость и богатство произведения. Так, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» для большинства современников поначалу числились в основном по фельетонно-развлекательному ведомству, и только время высветило их подлинную художественную значимость и глубину («Золотого теленка» прежде всего). Не в последнюю очередь благодаря возможности перечитывания.
А теперь о насыщении. Когда мы впервые читаем какой-нибудь волнующий нас рассказ или повесть, их художественное богатство мы воспринимаем обычно не в полном объеме, многое остается «за кадром» и не сохраняется в памяти. И тем не менее они все равно нас впечатляют, поскольку содержат в себе элемент избыточности. Без этого была бы невозможна редакторская правка. Известно, как свирепствовала цензура в советские времена и как страдало от нее все, что было в литературе честного и талантливого. Однако не так уж часто ей удавалось убить какую-нибудь вещь на корню, и того, что уцелевало, было, как правило, достаточно, чтобы сохранившиеся художественные элементы сцепились в единое целое и заиграли своими пусть и слегка поблекшими красками. Такова природа всякой художественной структуры, и чтобы ее по-настоящему убить, ее надо «выпрямить», то есть перестроить по чуждым ей канонам, когда рациональное начало подминает биение живой авторской мысли.
Но не имеет ли место нечто подобное и в случае перечитывания? Ведь в ходе возвращения к перечитываемому меняется субъективное соотношение его рационального и внелогического компонентов. Все больше неоднозначных по смыслу эпизодов и положений, говорящих не столько уму, сколько сердцу, теряют свою многослойность и глубину, а разного рода недосказанности, умолчания, метафоричность письма перестают нас волновать, потому что переходят с неосознаваемого уровня на осознанный (совершенно так же, как перестает смешить многократно повторенный анекдот). И по мере того как все больше места в перечитываемом произведении отвоевывает прожектор логического мышления, его образная составляющая поневоле уходит в тень, а вместе с нею блекнет и ее эмоциональное наполнение. В конце концов примелькавшийся текст перестает восприниматься нами с его художественной стороны, становясь похожим на доказанную теорему. К счастью, не навсегда. Надо лишь выждать время, чтобы то, что перешло на логический уровень, потускнело, стерлось из памяти, и тогда он снова обретает для нас былую свою притягательность.
Перед утренним пробуждением
Если кому-нибудь из читателей доводилось перед самым пробуждением услышать, скажем, по радио звуки любимой музыки или полузабытые поэтические строки, он, может быть, помнит, как глубоко способно в эти минуты проникнуть в душу даже потерявшее прелесть новизны музыкальное или поэтическое создание. Возможно, он даже вспомнит свои увлажнившиеся глаза, которые заметил у себя, очнувшись от сна, хотя в обычной жизни ничего подобного с ним давно уже не случалось. И это понятно: в те краткие мгновения между сном и бодрствованием, когда сознание уже как бы слегка очнулось, а критический интеллект еще заторможен, может произойти внезапное усиление даже относительно слабого проникшего в сознание чувства, связанное с раскрепощенностью его образной составляющей. Но если в приведенном примере острота чувственного переживания обусловлена отчасти физиологически, то эмоциональный отклик на произведение искусства в минуты бодрствования – уже чисто рукотворного свойства и обусловлен теми художественными приемами, которые способствуют нейтрализации критического настроя нашего сознания.
Гипотеза
Кому из нас незнакомо это чувство беспомощности во сне? Ну хотя бы так, как это описано у Пушкина в сне Татьяны:
И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может…
Но за чувством этим скрывается, по-видимому, и некий материальный субстрат. Дело в том, что в своих снах мы не только переживаем, но зачастую и действуем. И если б не специальные нервные клетки, ответственные за падение мышечного тонуса во время «быстрого сна», сопровождаемого движениями глазных яблок и сновидениями, то ничто не мешало бы этим действиям воплотиться в реальность, как это было продемонстрировано в эксперименте на животных известным французским физиологом Мишелем Жуве. Ведь кошки и собаки, совершенно как и люди, тоже видят сны. Но то, что наблюдал ученый, скорее напоминало фантастический сюжет. Животное, у которого был разрушен участок мозга с упомянутыми выше клетками, погрузившись в «быстрый сон», начинало двигаться по своей камере, как сомнамбула, не открывая глаз и как будто что-то выискивая, или спасаясь от невидимого противника, или же атакуя кого-то, увиденного им во сне[55]55
Ковальзон В. М. Памяти Мишеля Жуве // Природа. 2018. № 1. С. 90.
[Закрыть]. Так что сама природа позаботилась о том, чтоб мы не наломали дров в объятиях Морфея.
А теперь вспомним о той легкой релаксации, которую мы испытываем, сидя перед телеэкраном или в театральном кресле. Есть разные психологические объяснения этого феномена, но какая-то за этим должна стоять и физиология. Так не играет ли здесь свою роль тот же самый механизм, который блокирует нашу активность во время сновидений? И не по этой ли причине засыпал когда-то Чуковский, просивший своих близких почитать ему перед сном? Ведь погружению в сон также предшествует мышечная релаксация.
Несколько советов для начинающих авторов
По примеру Пастернака
«Помещение не отапливалось. И вот, приходя в эту столовую, где температура была такая же, как и на улице, и где никто не раздевался, Пастернак обязательно снимал пальто и вешал на гвоздь шляпу. Мало того, он и в столовую брал с собой работу: англо-русский лексикон, миниатюрный томик Шекспира и очередную страничку перевода. Помню еще какие-то длинные листки, на которые он выписывал трудные места. В ожидании порции водянистых щей из капусты (вскоре кончились и они) он работал»[56]56
Гладков А. К. Встречи с Пастернаком. Paris: Ymca-Press. 1973. С. 19.
[Закрыть]. Так описывает эвакуационные будни Бориса Пастернака его собрат по перу драматург Александр Гладков, автор пьесы «Давным-давно» («Гусарская баллада»). Их свела военная зима 1941–1942 годов в Чистополе.
«Он и в столовую брал с собой работу», – пишет Гладков, и это много о чем говорящий штрих. Потому что, в отличие от инженера или врача, писатель, с головой ушедший в работу, не может выключиться из нее по звонку. Но ведь только так и может выйти из-под его пера что-то стоящее. Так что если вами владеет какой-нибудь замысел, думайте о нем неотступно, и не только за письменным столом, но и в постели, за едой, в транспорте – словом, живите им. И тогда внезапные озарения и находки, как в перенасыщенном солевом растворе, станут «выпадать в осадок» не от случая к случаю, а, как правило, даже когда вы их совсем не ждете.
О недосказанности и пробелах
Вы никогда не задумывались, почему мы охотно возвращаемся к однажды понравившимся нам повести или рассказу, а вот к статье из энциклопедического словаря – только если мы в ней что-то недопоняли. Вероятно, потому, что в художественном произведении всегда остается что-то между строк, какая-то недосказанность, словом, некий ресурс, позволяющий при повторном прочтении воспринять уже знакомое нам произведение несколько в ином ракурсе. И эта недосказанность, эта возможность разночтения не просто одна из особенностей художественного текста, которая может быть, а может не быть, а его коренное, органическое свойство. А потому избегайте разжевывания, оставляя что-то за скобками. Точно так же излишнее «наведение на резкость», злоупотребление точками над «и» могут пойти во вред вашему детищу. Ведь далеко не все и не всякие вопросы требуют ответа, предоставьте их додумывать самому читателю. А кроме того, есть множество вопросов и в литературе и в жизни, однозначных ответов на которые не существует в принципе.
А теперь о пробелах. Не знаю, обращали ли вы внимание, что некоторые строфы в «Евгении Онегине» идут сразу под двумя или тремя римскими цифрами, а иногда встречаются строфы, как бы оборванные, с отточиями вместо недостающих строк. Например:
Поедем. —
Поскакали други.
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.
………………………………..
IV
Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.
Теперь послушаем украдкой
Героев наших разговор.
Признаться, в простоте душевной я долгое время полагал, что эти отточия замена тому, что по каким-то причинам было забраковано Пушкиным. Так же, как и сдвоенные или строенные порядковые номера строф, тоже представляющие собой след авторской правки, вынудившей свести несколько строф в одну. И лишь благодаря Юрию Лотману я узнал, что это сознательный так называемый минус-прием, когда неупотребление того или иного ожидаемого элемента текста несет свою особую смысловую нагрузку, как несет ее художественное умолчание или пауза. В сущности, это то, о чем писал Пастернак в своем широко известном программном стихотворении:
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Поля и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
Действительно, пробелы в литературе нужны так же, как и в жизни, и избыточная плотность, досказанность художественного текста – это часто вовсе не его достоинство. Читатель нуждается в пробелах и умолчаниях, чтобы мысленно передохнуть, свободно додумать или представить все то, что было недоговорено автором. Они сообщают произведению некое добавочное измерение, делают его просторнее, наполняют воздухом. «Пробелы – разрывы – пустоты, – пишет Юрий Трифонов, – это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них – в пробелах – возникает еще одна тема, еще одна мысль»[57]57
Трифонов Ю. В. Нескончаемое начало // Трифонов Ю. В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1987. С. 531–532.
[Закрыть].
Начало
Особый предмет писательской заботы – первые страницы (иногда фразы) будущей вещи, которыми во многом определяется ее дальнейшее звучание. «Начала и концы, – говорится в статье Юрия Трифонова „Нескончаемое начало”, – то, что требует наибольших усилий. Начало переделываю и переписываю множество раз. Никогда не удавалось сразу найти необходимые фразы. Мучительнейшее время! Начальные фразы должны дать жизнь вещи. Это как первый вздох ребенка»[58]58
Трифонов Ю. В. Нескончаемое начало // Трифонов Ю. В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1987. С. 541.
[Закрыть].
Действительно, начало – ключ к художественному тексту, а потому требует особого внимания. Между прочим, многие советуют его просто обрубать и сразу переходить к сути. Но это там, где оно растянуто, перегружено объяснениями, где автор пытается растолковать, откуда что взялось и о чем пойдет речь далее. И такое начало действительно не способствует пробуждению читательского интереса. На самом же деле начало должно быть по возможности энергичным и сразу брать быка за рога. Как у Сергея Довлатова: «В ОВИРе эта сука мне и говорит: „Каждому отъезжающему полагается три чемодана”» («Чемодан»). Или как у Льва Толстого: «Все смешалось в доме Облонских». Но такие начала даются непросто, и их не придумывают, а находят. «Бродишь будто на ощупь, с завязанными глазами, – признается в той же статье Юрий Трифонов, – тыкаешься в одно, в другое, пока вдруг не натолкнешься на то, что нужно»[59]59
Трифонов Ю. В. Нескончаемое начало // Трифонов Ю. В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1987. С. 541.
[Закрыть]. Зато снайперски найденное начало, словно локомотив, потянет за собой и весь текст. И если оно получилось, дальше уже пойдет легче. Дальше оно будет работать на вас, давая настрой всему повествованию.
Гладкопись
Править свой текст можно до бесконечности, но это небезопасно. В повести Ивана Тургенева «Первая любовь» есть такой персонаж – поэт Майданов, сочиняющий поэму «Убийца», которую он намеревается издать «в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета». Но вот поэма окончена, и он читает ее в салоне местной красавицы в окружении ее поклонников. «Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко». Эти звенящие, как бубенчики, рифмы – типичный пример гладкописи, когда зализанный текст, лишаясь живого, эмоционального наполнения, скользит по поверхности и почти не воспринимается сознанием. Но Майданов бездарен, он владеет лишь голой поэтической техникой и понять этого не в состоянии. Однако порой и одаренные художники впадают в грех перфекционизма в стремлении довести свое творение до совершенства.
Примечательна в этом смысле история с портретом Корнея Чуковского, написанным в начале прошлого века Ильей Репиным. По словам самого Чуковского, портрет получился очень удачным уже после первого сеанса, оставалась лишь мелкая шлифовка. Но чем дольше трудился над ним Репин, тем скучнее становился портрет. Художник нервничал, не мог понять, в чем дело, и в конце концов бросил свои усилия, оставив портрет недописанным. А причина была в том, что по мере доводки портрета непосредственное, живое чувство у него постепенно улетучивалось, вытесняясь трезвым, рассудочным подходом. И в конце концов логическое мышление восторжествовало над мышлением художественным.
Между Сциллой и Харибдой
В своей нобелевской лекции Иосиф Бродский сказал, что поэт, начиная стихотворение, не знает, как правило, чем оно кончится, и порой оказывается удивлен тем, что получилось. И это относится не только к поэзии. Прозаик тоже зависит от языка, от того, куда он его поведет. И если он не слышит этого веления, значит, он еще не совсем писатель. А с другой стороны, быть целиком во власти языковой стихии – это тоже не выход. Замысел есть замысел, к осуществлению которого следует по возможности стремиться. Как же помирить эти две несовпадающие тенденции? В сущности, писатель в процессе создания своего творения похож на Одиссея, плывущего между Сциллой и Харибдой. Писательская интуиция подсказывает ему одно, а трезвая мысль зачастую совсем другое. И между этих двух конкурирующих начал надо найти третье – некую стержневую линию, в которой сошлись бы художественное чутье и авторская воля.
А если написалось не то, что было замыслено? Оставить как есть, переписать или выкинуть к чертовой бабушке? Трудный вопрос, от которого зависит дальнейшее развертывание сюжета. Но о том, чтобы всегда писалось, как задумано, об этом надо забыть. Чаще всего приходится довольствоваться тем, что получилось, если, конечно, это «получилось» отвечает духу пишущейся вещи.
И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Это интонация вещи, ее фразировка. В принципе, они задаются уже первыми фразами, и задача писателя в том, чтобы до конца донести это звучание. Так что если у вас вдруг перестало получаться, вернитесь назад и посмотрите, где и когда вы изменили своей сквозной интонации. Возможно, это подскажет, куда вам двигаться дальше. Потому что точно найденная интонация художественного произведения – это как камертон. Сверяясь с ним, вы никогда не утеряете путеводную нить, которая должна привести вас к желаемой цели.
С чего начинается писатель
Революция, которую совершил в книжном деле компьютерный набор текста, не могла не затронуть самых интимных сторон писательского труда. Смог ли бы Борис Акунин замахнуться на свой грандиозный проект «История Российского государства», не будь в его распоряжении компьютера? Но не только колоссальному облегчению процесса писания служит цифровая технология. Компьютер незаменим и в том, что касается правки текста. Никакая машинопись не в состоянии с ним сравниться: ведь правка осуществляется мгновенно, без перепечатки страниц и без замены текстовых блоков. А потому не пренебрегайте этой возможностью. И каким бы законченным ни казался вам набранный текст – помните: это только заготовка. Собственно, настоящий писатель начинается не тогда, когда он корябает бумагу или в горячечном нетерпении отстукивает на клавиатуре свою «нетленку», а когда, откинувшись в кресле, спокойно и неторопливо приступает к правке написанного. Вот тут и проявляются настоящие писательские качества – чуткость к слову, умение критически оценить то, что до этого лишь роилось в его голове.
Ну, а что править – за этим дело не станет. Сколько истертых, необязательных слов и канцеляризмов подвернулось вам под руку по ходу вашего лихорадочного писания, которые нужно заменить либо выбросить? В обиходе это пренебрежительно именуется графоманией, но не принимайте близко к сердцу – ведь без графомании нет и писателя. Особенно когда вы возитесь с каждым словом, пробуете его «на зуб» и «на глаз» или ищете ему наиболее точный эквивалент. А всего лучше – вычеркнутое слово; это позволяет высвободиться от пустопорожнего балласта и сообщить большую весомость словам оставленным. Здесь все имеет значение и нет мелочей: союзы и частицы, двоеточия и тире, разбиение на абзацы – все это средства выразительности, которыми вы оперируете, пробуя и так и этак, выстраивая и оттачивая отдельные фразы. И когда текст обретает, наконец, относительную завершенность, когда из него убрано все лишнее, все режущие глаз неточности и грамматические нескладицы (а они обычно заметны не с первого и не со второго прочтения), вы и сами подпадаете под его обаяние, и вам уже трудно от него оторваться.
Вдохновение как кайф
В своем радиоинтервью (1999) на вопрос «Что вы делаете, когда вам не пишется?» писатель Борис Васильев ответил: «Пишу. Вдохновение никогда не приходит само. Труд рождает вдохновение и только труд». Но значит ли это, что он себя насиловал? Нет, дело обстоит сложнее, и творческий подъем, возникающий обычно на пике работы, конечно же, неслучаен. Хотя поначалу, если не пишется, действительно нелишне взять себя за шкирку и приложить некоторое усилие. Но на одной воле, как известно, далеко не уедешь. И когда какой-то фрагмент текста близок к завершению, автор ведь тоже оказывается его читателем и, как уже было сказано, подпадает под его обаяние. И если сложились хотя бы две-три удачные странички, это становится мотором и дает силы продолжать начатое. Поэтому в случае очередной заминки не опускайте руки, а перечитайте написанное – это послужит вам стимулом к взятию следующей высоты. Получается что-то вроде системы с положительной обратной связью, когда не вдохновение нисходит на писателя, а он сам творит собственное вдохновение. И это помогает ему преодолевать все «мели» и «заторы» и в конце концов выходить победителем. Думаю, что у людей, пробующих свои силы в литературе, последнее соображение должно вселять надежду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































