Текст книги "СТАРАЛСЯ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ИЗ СЕРДЦА. Писательская книга, или Загадка художественного мышления"
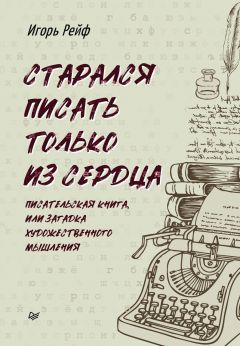
Автор книги: Игорь Рейф
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Но вот что примечательно: все эти незначительные детали и подробности почему-то волнуют и трогают нас глубже, чем многостраничные эпопеи с описанием самоотверженной тыловой героики, лишений и жертв, которыми действительно был выстлан путь к победе. Может, потому что за этими подробностями – отношения и характеры живых людей, а их Трифонов знает и чувствует как никто другой. И чтобы вскрыть их глубинную подоплеку, ему иногда достаточно самого малого, иной раз двух-трех штрихов. Вот лишь один пример.
Восемнадцатилетний Саша Антипов, своего рода alter ego автора, житейски неприспособленный, медлительный тугодум, как и он, лишившийся в детстве родителей (отец расстрелян, мать отбывает срок в лагере) и освобожденный от фронта по близорукости, попавшись на противозаконном натурообмене ворованный табак – капуста и почти сутки проведя в заводской комендатуре, наотрез отказывается назвать того, кто подбил его на эту авантюру (сам Саша не курит и пошел на риск не ради себя). Но идет война, и «тыловому особисту» Смерину выгодно раздуть это дело, втянув в него как можно больше людей и придав ему некий показательный характер. А подставляться и конфликтовать из-за человека с подпорченной анкетой никому неохота, и потому никто не спешит на выручку Антипову И в таком вот подвешенном состоянии – передадут дело в суд, не передадут – проходит месяц. Пока однажды в инструментальную мастерскую не врывается стремительный и экспансивный начальник отдела Лев Филиппович Зенин со словами: «Антипов, можешь писать стихи дальше. Тебе будет объявлен строгий выговор и больше ничего. Смерин меня запомнит! Пусть он скажет, где такой инструментальный отдел, как у нас! Где такой фонд сверла? А такие фрезы? Вся Москва к нам бегает, попрошайничает. От Зенина освободиться легко, а что дальше?»
Есть, вероятно, своя логика в том, что именно Зенин в критическую минуту приходит на помощь Антипову. Оба сироты – у одного в тридцать седьмом году репрессированы родители, у другого в оккупированном Киеве погибла семья. Оба неравнодушны к одной и той же женщине – раздатчице Наде, хотя первый пользуется ее взаимностью, тогда как второму остается лишь тайно о ней вздыхать. Но что-то, видимо, она нашептала своему избраннику, убедив его – через главного инженера, через парторга завода – поприжать не в меру ретивого кадровика. Однако истинная подоплека все же в другом. «Я б его не стал выручать, да вдруг вспомнил: он сирота, – признается девушкам из инструменталки Лев Филиппович. – Я сам сирота по вине войны. А мы, сироты, должны помогать друг другу… Все кругом сироты и должны помогать…»
Вот ради этой последней реплики я и позволил себе столь длинное отступление. Ведь война делает сиротами не только детей, но и взрослых. Какое из сиротств горше, мы обсуждать не станем. К тому же у Антипова сиротство особое, с войной вообще не связанное. Но все равно: «Все кругом сироты и должны помогать…» Как же много скрытого смысла в этих простых и беспафосных словах, в которые автор вложил, должно быть, и свою собственную боль. И тут мы подходим к самому, может быть, главному, что составляет стержень трифоновской прозы – выньте его, и все развалится, – к ее гуманизму.
Гуманизм, как известно, бывает разный. Гуманизм абстрактный, декларативный, ярче всего выраженный в словах Сатина из пьесы «На дне»: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека», – гуманизм, от которого, грубо говоря, ни тепло ни холодно. Гуманизм романтически приподнятый, как у Шиллера, но зачастую слабо сопрягающийся с реалиями обыкновенного человека. Гуманизм сочувственный (образ маленького человека в русской литературе XIX века) и т. д.
Гуманизм Юрия Трифонова я бы назвал понимающим гуманизмом. Вообще, понимание – это редкий дар, но трифоновское понимание особенное. Это не позиция холодного наблюдателя, отдающего себе отчет во всем несовершенстве человеческой натуры. И хотя автор не щадит своих героев, проникая в мир потаенных чувств и безжалостно обнажая их душевную изнанку, но он искренне большинству из них сопереживает. Чего больше в этом сопереживании – сердечного тепла или понимания? Ведь лучше, чем кто-либо другой, Трифонов видит и те суровые правила игры, которые навязываются нам жизнью и противостоять которым обычному человеку зачастую не под силу То есть наша жизнь, по Трифонову, разыгрывается по нотам, написанным не нами, почти не оставляя пространства для личностного выбора. И, видимо, неслучайно на долю его персонажей, как правило, выпадает не столько даже самый момент выбора, сколько нравственные терзания, с ним связанные, так как выбор этот фактически уже предопределен. Причем не только внешними обстоятельствами, но и характером человека, и всей сложившейся на его основе судьбой.
«Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел», – говорит Дмитриеву его неизлечимо больная мать в ответ на робкое предложение съехаться с ним и его семьей, на чем настаивает трезвая и практичная жена Дмитриева Лена. «С закрытыми глазами она шептала невнятицу: – Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так, незаметно…» А два дня спустя извещает по телефону о своей готовности пойти навстречу желанию невестки и осуществить этот житейски разумный и выгодный для семьи сына шаг.
Да, Басинский прав, и проза Трифонова – это жестокая проза. Но, странное дело, она не вызывает в нас чувства безысходности. Может, потому что она поднимает нас над так называемой житейской мутью и дает нам новую точку обзора, раздвигая горизонты нашего видения? Ведь если Глебову, мечущемуся между предательством любящей и, по-видимому, любимой им девушки и ее отца, своего учителя профессора Ганчука и отказом от открывшегося перед ним быстрого карьерного роста, неизвестна истинная цена этого предательства (она если и откроется ему, то много позднее), но ее знаем мы. Это внешне успешная, но, по сути, выхолощенная его собственная судьба. Это загубленная жизнь Сони. Не дешевле обходится и Дмитриеву его мучительная уступка жене, настоявшей на обмене с безнадежно больной свекровью. Всем своим творчеством Трифонов как бы говорит нам, что есть в жизни вещи – в философии они называются ценностями, – которыми нельзя поступаться ни в большом, ни в малом. Потому что за все это приходится платить. Но начинается-то все с малого, с «просто так, незаметно», как в полусне-полубреду пытается внушить Дмитриеву его мать Ксения Федоровна. Когда ничего еще не предопределено и выбор до поры до времени действительно находится в руках человека.
Перечитывая Трифонова, невольно задаешься вопросом: а насколько понятны его специфически «совковые» коллизии, вокруг которых кипят нешуточные страсти, сверстникам перестройки? Ведь даже самое понятие «обмен», вынесенное в заголовок одной из его повестей и подразумевающее разного рода манипуляции с казенной жилплощадью (а иной и не существовало) – разъезд, съезд и т. д., навсегда осталось в нашем советской прошлом. А поймут ли нынешние тридцатилетние, если в тексте впрямую об этом ничего не сказано, откуда вернулся после долгого отсутствия дед Дмитриева и почему у него, юриста с дореволюционным университетским образованием, отсидевшего в царской крепости, пережившего ссылку и эмиграцию, «корявые, изуродованные тяжелой работой, негнущиеся руки»? Увы, нам, читателям первых трифоновских публикаций, трудно порою представить, что некоторые самоочевидные для нас вещи могут для кого-то быть подернуты дымкой временного тумана.
Но это-то как раз нормально. Ведь сменилось не только поколение, трансформировался весь социально-экономический уклад, и сегодня квартиры или комнаты продают, завещают, дарят, но не меняют. Так что «непонятность» отдельных мест у Трифонова в известных пределах оправдана и, более того, естественна. Как показали в своих работах Юрий Лотман и его школа, «реальная плоть художественного произведения состоит из текста <…> в его отношении к внетекстовой реальности – действительности, литературным нормам, традициям, представлениям»[65]65
Лотман Ю. М. Проблема текста: лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 213.
[Закрыть]. То есть один и тот же текст по-разному воспринимается современниками и читателями следующих поколений: что-то теряет свою остроту, отходит в тень, что-то, наоборот, углубляется; смещаются акценты, утрачивается смысл некоторых аллюзий и жаргонных словечек. И далеко не все, пользовавшееся громким читательским успехом, выдерживает это бесстрастное испытание временем, причем не всегда это можно даже предугадать заранее.
Трифонов выдержал. Потому что в своих вроде бы непритязательных историях сумел высветить такие стороны души современного ему человека, показать его внутренний мир в таком специфическом ракурсе, которого не касались литераторы предшествующих ему поколений. Да и мы-то по-настоящему осознали присутствие в себе этой трифоновской «специфики» во многом благодаря именно его творчеству. «Трифоновский персонаж», «совершенно трифоновская коллизия», говорим мы сегодня, и это лучшее подтверждение неувядаемости его прозы. А относится это к советским временам или к дню сегодняшнему – разве имеет это какое-нибудь значение?
«Золотой теленок», «Мастер и Маргарита»: типология линейного мышления в тоталитарном обществе
Скучно на этом свете, господа!
Н. В. Гоголь
Люди среднего и старшего возраста, должно быть, помнят еще ту подспудную конкуренцию, что существовала когда-то, в 1970–1980-е годы, между этими двумя романами («Двенадцать стульев» мы пока выведем за скобки), когда их авторов давно уже не было в живых. Конкуренцию, начавшуюся почти сразу после первой, усеченной, публикации «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва» и в какой-то мере объяснимую. Ведь до поры до времени книги Ильфа и Петрова безраздельно господствовали на сатирическом Олимпе, пока рядом с ними, подобно всплывшей Атлантиде, не выросла эта завораживающая литературная громадина, бесконечно раздвинувшая сатирические горизонты благодаря тому «голографическому эффекту», что возникал на стыке двух взаимодополняющих подходов к действительности – реализма и фантастики. Однако свою тень на «конкурентов» отбрасывал не только булгаковский роман как таковой, но и сама трагическая его судьба, в силу которой он дошел до читателя только четверть века спустя после смерти его создателя.
Нет, нельзя сказать, что судьбы авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» были безоблачны. Но все-таки они увидели свои творения напечатанными и завоевавшими признание и любовь читателя. И хотя они не удостоились, подобно Михаилу Булгакову, телефонного звонка Сталина, но все же с властями ладили и входили, так сказать, в писательскую обойму, даже проработали несколько лет штатными фельетонистами «Правды». Булгаков же был известен современникам в основном как автор пьесы «Дни Турбиных», а публикация его первого романа «Белая гвардия», легшего в основу пьесы, была прервана на середине, поскольку в 1925 году прекратил существование печатавший его журнал «Россия» (полностью эта вещь вышла только за рубежом четыре года спустя, в Париже). После же 1930 года и звонка Сталина в советской России не была напечатана ни одна написанная им строка, не получили своего сценического воплощения ни «Бег», ни большинство других его пьес, а «Кабала святош» («Мольер») после серии цензурных запретов была показана всего семь раз и снята с репертуара.
Таким образом, на фоне Булгакова Ильф и Петров смотрелись почти что преуспевающими конформистами, а их очевидная лояльность к режиму дала впоследствии повод некоторым недоброжелателям представить их в виде баловней судьбы, «продавшихся советской власти». Не стану распространяться о том, сколь далеки от действительности подобные измышления, как тяжело пробивал дорогу к читателям их второй роман, спасенный только заступничеством М. Горького, и как плохо вписывалось их творчество в соцреалистические рамки, что привело в конце концов к негласному запрету на их книги на целое пятнадцатилетие – с начала 1940-х и до середины 1950-х годов. Зато хорошо представляю, с какой иронией отнесся бы сам Булгаков, вообще говоря, своих коллег в большинстве не жаловавший, к этой попытке столкнуть его лбом с ближайшими собратьями по перу, которые бывали у него в доме, слушали главы из незавершенного романа и к которым, судя по дневнику Елены Сергеевны Булгаковой, он относился с нескрываемой симпатией. К тому же с Ильфом его связывала давняя дружба, восходящая к началу 1920-х годов, когда оба они работали «правщиками» рабкоровской корреспонденции в редакции газеты «Гудок».
Ну а отношение к марксистским постулатам – что ж, у Ильфа и Петрова оно было искренним (быть может, потому что революцию они встретили в достаточно восприимчивом юном возрасте). И такими они были не одни – вспомним хотя бы Андрея Платонова или психолога Выготского, которых никто, кажется, не заподозрил в приспособленчестве. Да, немало умных и честных людей пошло на поводу у этой иллюзии, поверив в возможность переделки человеческой природы в рамках построения социалистического общества с его приматом коллективного перед личностным. Да и как, скажите, удержалась бы советская власть, если бы на ее стороне были одни лишь конъюнктурщики и проходимцы? Так что ум и сердце были у этих писателей в ладу, и именно художническая честность при всей несхожести их мировоззренческих и творческих посылок в равной мере водила пером как Булгакова, так и Ильфа с Петровым, позволяя, не всегда даже осознанно, приподнимать занавес над такими сторонами действительности и делать достоянием читателя то, что было скрыто от взгляда большинства современников. Но поле сатирического исследования было у них одно, и хотя вспахивали они его по-разному, каждый своим, только ему присущим способом, некоторые их художественные открытия оказались во многом изометричны. Вот об этой «изометрии», прослеживаемой в «Золотом теленке» и в «Мастере и Маргарите», мне и хотелось бы поразмышлять на страницах настоящей статьи.
* * *
В книге «Почему вы пишете смешно?», посвященной творчеству Ильфа и Петрова, Лидия Яновская высказывает предположение, что «некоторые страницы романа „Мастер и Маргарита”, вероятно, были бы написаны иначе, если б не существовал уже к тому времени „Золотой теленок”»[66]66
Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе. М.: Наука, 1969. С. 121.
[Закрыть]. А в «Записках о Михаиле Булгакове» она же обращает внимание на портретное сходство Ивана Бездомного в первой главе «Мастера и Маргариты» («плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке») с Шурой Балагановым – «притом что „Золотой теленок” был опубликован все-таки раньше, чем сложился портрет героя Булгакова»[67]67
Яновская Л. М. Записки о Михаиле Булгакове. М.: Текст, 2007. С. 59.
[Закрыть].
Конечно, это наблюдение может о чем-то говорить, но может и не означать ничего. В конце концов, нетрудно привести и другие примеры переклички и совпадения между двумя романами. Так, в свиту и Бендера, и Воланда входит одинаковое число лиц (если не брать в расчет вампиршу Геллу ввиду ее низкого рангового положения), а костюм председателя Зрелищной комиссии Прохора Петровича, невозмутимо накладывающий резолюции в отсутствие своего владельца, подозрительно напоминает «резинового» Полыхаева с его набором каучуковых штемпелей на все случаи жизни. Но кто рискнет утверждать, что совпадения эти не случайные? А вот то, что главные действующие лица обоих романов возникают как бы ниоткуда, подобно метеору, залетевшему из межпланетных пространств, случайностью, по-видимому, уже не является и входит в художественную задачу их авторов.
Кстати, у Бендера в «Двенадцати стульях» никакой свиты нет, она ему там не нужна. Более того, он сам беспардонно навязывается в компаньоны Воробьянинову, и это лишнее свидетельство его обыкновенности, невыделенности из окружающей его социальной среды. Иными словами, здесь он такой же объект сатирического осмеяния, как и все, – может быть, чуть умнее, чуть гибче и обаятельней, но и только.
Однако этого никак нельзя сказать об Остапе «Золотого теленка». И своим внешним обликом – атлетическим сложением, медальным профилем, сверкающим взглядом, – и душевной широтой, кипучей энергией («если бы он направлял свои силы на действительную заготовку рогов или же копыт, то надо полагать, что мундштучное и гребеночное дело было бы обеспечено сырьем по крайней мере до конца текущего бюджетного столетия»), волевым напором, искрометным юмором он резко контрастирует со своим романным окружением, а его верные «оруженосцы» – Балаганов и Ко – лишь подчеркивают эту его незаурядность. К тому же, будучи одинок, не имея ни родных, ни друзей («разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?»), он окружен ореолом некой таинственности: нам не известно, каким ветром занесло его в захолустный Арбатов, мы почти ничего не знаем о его прошлом, если не считать описанной в «Двенадцати стульях» охоты за бриллиантами мадам Петуховой, и можем только догадываться о его социальном происхождении.
Конечно, можно было бы назвать его суперменом, но где вы видели таких мятущихся, легкомысленных, неудовлетворенных собой суперменов? В своем предисловии к первому после пятнадцатилетнего перерыва, еще с купюрами, изданию «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» (без такого авторитетного предисловия в 1956 году обойтись было еще нельзя) Константин Симонов усматривает в этих метаниях и в попытке дважды расстаться со своим миллионом прегрешение против логики и правды характера. Убедившись в том, что в советском обществе этот миллион не открывает перед ним желанных возможностей, Бендер, по Симонову, «должен был рассвирепеть и ожесточиться на все окружающее, и в этом была бы правда его характера, в котором добродушие и веселость в конце концов оболочка, а жажда наживы – существо»[68]68
Симонов К. М. Предисловие //Ильф И. А., Петров Е. П. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: Гослитиздат, 1956. С. 12.
[Закрыть].
Я не знаю, чем было продиктовано это предисловие и не руководствовался ли его автор конъюнктурно-дипломатическими соображениями, дабы помочь выходу книги, но стоит только представить, что не было этих эксцентричных попыток избавиться от злополучного миллиона, и образ Остапа сразу теряет что-то в своей притягательности, становится скучнее и уплощеннее. А то, что Симонов называет оболочкой, и есть, по-видимому, его существо, которое отнюдь не исчерпывается жаждой наживы. Кстати, не эти ли широта и нестандартность натуры («слышите ли вы, как бьется мое большое сердце?») мешают ему найти достойное для себя поприще, которое отвечало бы его внутренним запросам, не вступая в то же время в конфликт с законом?
Конечно, и Бендер мог бы начать жить как все, жить «по правилам», следуя примеру того же Корейко, упрятав свой миллион до лучших времен и отщипывая от него по кусочку. Но это значило бы для него перестать быть самим собой или, говоря его же словами, «переквалифицироваться в управдомы». Между прочим, широкая популярность этой фразы как раз и связана с полной непредставимостью великого комбинатора в роли заурядного совслужащего, уныло внимающего на очередном профсоюзном собрании «правильным» речам какого-нибудь полуответственного Скумбриевича о профучебе, культработе и прочей бюрократической дребедени.
Особенно примечательна в этом смысле та коренная переделка, на которую пошли авторы «Золотого теленка», переписав в последний момент его концовку. В первоначальном ее варианте Остап, смирившийся с поражением золотого тельца, на завоевание которого было брошено столько сил и изобретательности, женится на все еще любящей его Зосе и превращается в обычного черноморского обывателя. А невостребованная им бандероль с миллионом так и уходит в Москву на адрес народного комиссара финансов. В последних строках новоиспеченные молодожены, которых почти за руку привел под венец верный Адам Козлевич, грустные и подавленные, выходят из дверей загса навстречу осеннему ветру. Он – в легком, продуваемом макинтоше, так и не успевший приобрести себе шубу. На ней – «шершавое пальтецо, короче платья, и синий берет с детским помпоном»[69]69
Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. Полная версия. М.: Вагриус, 2006.
[Закрыть]. А у нас при виде этой сиротливой, неприкаянной парочки болезненно сжимается сердце.
Но что-то, видимо, не устраивало авторов в этом благостном финале. Не устраивало прежде всего то, что лежало на поверхности: идеологическая подоплека, требовавшая до конца разоблачить и пригвоздить Остапа Бендера как стяжателя и авантюриста. «Петров ходил мрачный и жаловался, что „великого комбинатора” не понимают, – вспоминал сотрудничавший с ним в „Рабочей газете” Л. Митницкий, – что они не намеревались его поэтизировать. Роман уже печатался, когда авторы снова вернулись к нему, чтобы решительно переделать концовку. Была снята последняя глава и вместо нее дописаны две другие»[70]70
Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и юморе. М.: Наука, 1969. С. 102.
[Закрыть]. Взамен неуемного, мятущегося Остапа Ильф и Петров подыскали Зосе Синицкой более подходящую для нее пару – члена профсоюза, секретаря изоколлектива железнодорожных художников Перикла Фемиди, которому заботливая супруга по пути в «учебно-показательный пищевой комбинат», где они встречаются в часы обеда, покупает носки с двойной пяткой. А Остапа Бендера, потерявшего свой миллион в стычке с румынскими пограничниками, авторы отправляют в ту же неизвестность, откуда он появился в начале романа.
Справедливость по-советски восторжествовала. Однако какая-то неуловимая двусмысленность присутствует в этом назидательном финале. Да, Остап проиграл. Жалкий и униженный, в одном сапоге и без миллиона, выбрался он на советский берег Днестра. Что ждет его впереди, нам неизвестно. Но что-то подсказывает нам, что он не вольется в дружные ряды строителей нового общества, а будет по-прежнему искать свою птицу счастья на путях, отвергаемых официозной моралью. «Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями, – высокопарно провозглашает он, обращаясь с румынской стороны к навсегда покидаемой родине. – Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров…»
По сути, это издевка, но в ней содержится и нечто большее – кредо человека, пытающегося отстоять свою личную свободу в несвободном обществе. И хотя прощания с родиной «по форме номер пять» не получилось, неистребимое присутствие духа и горькая самоирония, демонстрируемые им даже в самые скорбные минуты жизни, о чем свидетельствуют слова из его заключительного монолога, не могут не вызывать невольного сочувствия, сколько бы ни пытались авторы убедить нас в противном.
* * *
Говоря о том, что Булгаков, Ильф и Петров вспахивали одно и то же сатирическое поле, я позволил себе некоторую неточность. Все-таки поле было не совсем то же. Потому что «Золотой теленок» вышел в свет в 1931 году, тогда как последние редакции «Мастера и Маргариты» относятся к концу 1930-х. За это время страна и общество проделали определенную эволюцию, и на авансцену, подобно океанскому стальному дредноуту, вдвинулся, тесня все и вся, гигантский государственный монстр, подмявший под себя общество и почти не оставивший пространства для частной жизни отдельного независимого человека (как точно уловили эту тенденцию при самом ее зарождении авторы «Золотого теленка», ведь в «Двенадцати стульях» об этом еще ни полслова!). Соответственно, носителем сатирического начала, претендующего на масштабность и глубину обобщений, могло быть теперь что-то соразмерное этой силе, и это что-то Булгаков обрел в образе своего Воланда.
Однако в годы, когда сочинялся «Золотой теленок», время Воланда еще не пришло, эта миссия была по плечу и обычному, хоть и незаурядному человеку из плоти и крови, каковым и представлен в романе великий комбинатор. Теперь же, когда частное лицо с его духовной автономией оказалось оттеснено на обочину, ничего не оставалось, как передать эстафетную палочку надмирному Воланду При этом не может не обратить на себя внимания известное сходство и преемственность их романной функции. О некоторых ее чертах я уже упоминал.
Это, в частности, дистанцированность, выделенность главных героев из той социальной среды, в которой им приходится действовать, – у Воланда она очевидная, проистекающая из самой его природы; у Остапа Бендера хотя и закамуфлированная, но тем не менее постоянно нами ощущаемая – и, конечно, их интеллектуальное превосходство надо всем окружающим. Правда, могущество Воланда опирается на силы иного порядка, однако и здесь интеллект играет далеко не последнюю роль, представляя своего рода фундамент, а может, и пьедестал, с высоты которого его обладатель взирает на суетное человеческое копошение. А с другой стороны, он же служит причиной того психологического вакуума, которым окружены в романах эти две центральные фигуры. В самом деле, ведь только мастер и его подруга, да благодаря им еще Иван Бездомный – единственные, кто отдает себе отчет, с кем свела их прихотливая судьба. Однако стена непонимания вокруг великого комбинатора, пожалуй, еще плотнее. Перед кем рассыпает он свой бисер? Перед антилоповцами? Перед Корейко? Или, может быть, студентами политехникума в купе международного вагона? Увы, нет в «Золотом теленке» такого лица, которое способно было бы оценить его искрометный юмор, и дело тут не только и не столько в уме, сколько в его качестве.
Ум, как известно, бывает разный. Про Максимилиана Андреевича Поплавского, дядю погибшего Берлиоза, сказано, например, что он «считался одним из умнейших людей в Киеве», и если б не нечистая сила, засевшая в квартире его племянника в доме 302-бис, он, вне всякого сомнения, в этой квартире бы прописался. Необычайно умен да к тому же всесторонне образован и председатель МАССОЛИТа Берлиоз. Немногим уступает ему финдиректор Римский, что неоднократно подчеркивается в романе. А о подпольном миллионере Корейко и говорить нечего: этот объедет на кривой козе любого наипрожженнейшего дельца. Думаю даже, что он не спасовал бы и перед самим Воландом, сумев найти безопасную для себя дистанцию, что, впрочем, не мешает ему оставаться скучнейшим человеком.
Таким образом, по-своему умных людей среди персонажей романов не так уж мало. Только вот ум у большинства из них какой-то нерасполагающий, а то и просто сквалыжный (как у Поплавского или Корейко). Нет в нем той широты, щедрости и обаяния, которыми так счастливо наделен великий комбинатор. Не говоря уже о том, что все они, в отличие от последнего, непробиваемо серьезны. «Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы, – говорит Воланд своему гостю из «Варьете» грустному буфетчику Сокову, пришедшему с жалобой на обманные червонцы, принесшие буфету сто девять рублей убытка. – Такие люди или тяжко больны, или ненавидят окружающих». А если добавить к этому еще и тех, кто нечувствителен к шутке, к розыгрышу, неспособен иронизировать и смеяться над самим собой, то станет понятен тот водораздел, что пролегает в романах между высмеивающими и высмеиваемыми.
И хотя сатанинская шайка в «Мастере и Маргарите» зачастую не просто насмешничает, но откровенно глумится (что, кстати, крайне редко позволяет себе сам Воланд), «автор, – как замечает Петр Палиевский, – кажется, нисколько этим не опечален. Он весел, беспечен и мил во всех описаниях шайки, за которой следит чуть не с репортерским удовольствием. Его тон спокоен и насмешлив. <…> После первого изумления безнаказанностью всей „клетчатой” компании глаз наш начинает различать, что глумятся-то они, оказывается, там, где люди сами уже до них над собой поглумились; что они только подъедают им давно оставленное»[71]71
Палиевский П. В. Литература и теория. М.: Советская Россия, 1979. С. 264.
[Закрыть].
Впрочем, всегда ли глумятся? И не вернее ли в иных случаях употребить выражения «валяют дурака», «морочат голову»? Причем нельзя не признать, что соблазн для подобного развлечения порою слишком велик и что люди сами как-то очень уж легко подставляются. Как, например, в сцене с дармовым дамским магазином, развернутым Бегемотом и Коровьевым в театре «Варьете», и падающими сверху червонцами. Можно ли представить себе такое в Париже или Лондоне? Воланд и сам удивляется этому легковерию москвичей в беседе с буфетчиком Соковым: «Да неужели ж они думали, что это бумажки настоящие?» Таким образом, разыгрываемая и разыгрывающая стороны вполне успешно дополняют друг друга.
Между прочим, и Остап Бендер был тоже не чужд любви к розыгрышам – например, когда забрасывал Корейко своими издевательскими телеграммами. Зато уж телеграммы эти приобрели популярность поистине сногсшибательную. «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы», «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»[72]72
Кстати, эта последняя в точности воспроизводит фрагмент телеграфной корреспонденции со станции Астапово, отправленной репортером газеты «Речь» после бегства Л. Толстого из Ясной Поляны и последовавшего за тем покушения на самоубийство Софьи Андреевны. В телеграмме говорилось: «Узнал несколько подробностей покушения графини: не дочитав письма, ошеломленная бросилась сад пруду; увидавший повар побежал дом сказать: графиня изменившимся лицом бежит пруду. Графиня, добежав мостка, бросилась воду…» Ильф, почерпнувший этот текст из книги «Смерть Толстого: по новым материалам» (М., 1929), где содержались документы о последних днях жизни великого писателя, не преминул спародировать этот ублюдочный газетный сленг, обыграв его в своем романе.
[Закрыть] и т. д. А вот как разыгрывали добропорядочные геркулесовцы из финсчетного отдела своего коллегу старика Кукушкинда. Раз в году, 1 апреля, «в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: фабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало». И это в Черноморске, сиречь в Одессе, городе, издавна славящемся своими шутками и юмористическим отношением к жизни!
Впрочем, стоит ли удивляться, если даже обыкновенная шутка в те годы становится зачастую небезопасной, воспринимается как выпад, чреватый для шутника серьезными осложнениями, если только он, как Коровьев и компания, не пользуется защитой потусторонних сил. То есть из «ведомства Бендера» постепенно перекочевывает в «ведомство Воланда». И, быть может, лучшее тому подтверждение – история с эпиграфом к «Золотому теленку».
«Переходя улицу, оглянись по сторонам (Правило уличного движения)», – такими словами предваряется первая часть романа, «Экипаж Антилопы», а в некоторых изданиях, в соответствии с беловой авторской рукописью, и весь роман. То, что эпиграф шуточный, не вызывает сомнений. Удивляет, однако, его непривычная формулировка: почему оглянись по сторонам, а не как положено – сначала налево, затем направо? Но, может быть, в 1930-е годы это правило звучало не так, как сегодня? Но нет, исследователи творчества Ильфа и Петрова Михаил Одесский и Давид Фельдман установили, что и тогда оно не отличалось от нынешнего. Так что же побудило авторов изменить формулировку? Оказывается, шутка относилась не столько к дорожной ситуации, сколько к перипетиям внутриполитической борьбы. Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Так, например, когда сочинялись «Двенадцать стульев», партийные баталии велись вокруг левой оппозиции, возглавляемой Троцким, и намеков на это в романе хватает. Когда же пришло время «Золотого теленка», с Троцким было уже покончено – и весь шквал партийной критики обрушился против «правых» во главе с Бухариным. При этом предосторожности ради все время откладывался выход романа, до тех пор пока не вмешался Горький. Так что оглядываться то вправо, то влево приходилось постоянно. Но вот шутить… Любая шутка на эту тему была смертельно опасна, отчего и пришлось авторам упрятать ее глубоко в подтекст, чтобы понять могли только свои[73]73
См.: Одесский М. П., Фельдман Д. М. Похождения эпиграфа: по материалам комментария к первому полному изданию романа И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Золотой теленок» // Солнечное сплетение. Иерусалим – Москва, 2002. № 1–2 (20–21).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































