Текст книги "СТАРАЛСЯ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ИЗ СЕРДЦА. Писательская книга, или Загадка художественного мышления"
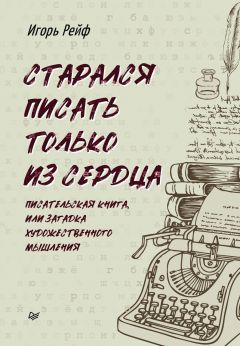
Автор книги: Игорь Рейф
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Хлеб художественной литературы
Таким образом, с какой стороны ни возьми, первое, что обращает на себя внимание в произведении, это его необычайная сложность и многозначность, а в конечном счете – высокая информационная насыщенность, которую не уставал подчеркивать Юрий Лотман. Однако информация эта весьма специфичная. Внутренне противоречивая, изобилующая полунамеками, смысловыми оттенками, волнующей недосказанностью, с зачастую не проясненным, а лишь с угадываемым вторым и прочими планами, то есть всем тем, что составляет хлеб художественной литературы, – она не вмещается в рамки вербально-логического мышления, а потому подпадает под «юрисдикцию» правого полушария с его способностью к целостному восприятию, к одномоментному «схватыванию» внешне не связанных между собой граней и аспектов. Так что с позиций логического мышления ее скорее можно назвать «недо-информацией», поскольку она не поддается обычной аналитической обработке.
Позволю себе еще один пример. И снова «Онегин», его седьмая глава. Татьяна в кабинете Евгения, «в келье модной», где «лорда Байрона портрет, и столбик с куклою чугунной». И, конечно, книги.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
………………………………..
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее – слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы идут, она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа…
Вы чувствуете, как, едва поставив перед нами эти роковые вопросы, автор моментально уводит нас в сторону, не давая нам времени задуматься, домыслить все то, что он не успел или не захотел досказать. И эта недосказанность, не дающая возможности нашему логическому мышлению справиться с такой постоянно подбрасываемой ему «недоинформацией», вынуждает его «уступить площадку», отойти в тень. В памяти же у нас остается что? То, что Онегин – подражанье, «слов модных полный лексикон»? Но только ли это?.. А может, не совсем так? Или совсем не так? Оценка дана как полуоценка, но задержаться на ней мыслью нам не позволяет это неостановимое романное движение, отрешиться от которого мы не в силах, а можем лишь послушно следовать ему с легким сердечным замиранием. А в результате возникает то неопределенное, не прорисовываемое до конца, что образует ткань художественного произведения, в которой одновременно присутствуют, не отменяя друг друга, и то, и это, и еще множество других разнообразных потенций. Но ведь это как раз и есть специфический объект образного мышления, которое владеет нами во все время чтения пушкинского романа.
«Странности» нашего эстетического восприятия
Риторический вопрос: к чему, прежде всего, стремится литератор за письменным столом? «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Да, многие полагают, что все обстоит именно так и что первейшая задача писателя – найти самые точные, самые выразительные слова. Блестящие, даже гениальные, я бы сказал, словесные находки («подпально-красный осенний лист») можно встретить, например, у Распутина или у Астафьева. Но как тогда быть с Чеховым, который на этом фоне выглядит вообще второразрядным писателем?..
Однако слова существуют ведь не сами по себе. Вступая между собою в сложную «перекличку», они включены в систему сцеплений более высокого иерархического уровня. Но чтобы эта система заработала, все эти эпитеты, метафоры и сравнения, найденные подчас в ходе мучительных поисков, должны раствориться и умереть в окончательном тексте, как расщепляются и умирают в живом организме попавшие в него с пищей белковые молекулы, давая жизнь новым клеточным структурам. И когда из него убрано все лишнее, когда надежно сомкнуты нагруженные смыслом события и положения (чего почти не бывает в жизни) и сведены на нет всякого рода «соединительные швы» и неорганичные связки, вот тогда и оживает по-настоящему авторское творение, и к нам приходит та упоительная легкость чтения, когда мы перестаем замечать отдельные слова и фразы, угадывая за ними «чистые смыслы», если воспользоваться выражением Выготского. То есть начинаем воспринимать данный текст не как сумму составляющих его элементов, а как не сводимый к ней единый художественно-смысловой сплав.
Подобное представление о литературном произведении как о целостной эмоционально-смысловой структуре позволяет, между прочим, объяснить и некоторые «странности» нашего эстетического восприятия. Так, например, в жизни нас едва ли устроит какое-нибудь сухое сообщение, содержащее логические нестыковки или малопонятные, темные места. А вот в художественном тексте подобные вещи нас ничуть не смущают и даже стимулируют работу нашего воображения. Но обратимся к примеру.
Стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату». Сам автор, и не без оснований, считал его лучшим своим произведением. И действительно, необычайно скупое в выразительных средствах, исполненное какой-то целомудренной скорби, оно по праву входит в золотой фонд отечественной поэзии. А положенное на музыку Матвеем Блантером, стало (увы, после пятнадцатилетнего запрета) всенародно любимой песней, слушать которую трудно без слез. Но попробуем непредвзято вчитаться в отдельные его строфы:
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
«В глубоком горе»… Не знаю, как вам, а мне это представляется штампом, хотя до поры, пока не включился мой «внутренний контролер», таковым не казалось. Пойдем дальше.
…Вздохнул солдат, ремень поправил,
Достал мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
Как? Был травой поросший бугорок и вдруг обратился в серый гробовой камень? И где вы вообще видели, чтобы добрых людей, да еще безвинно загубленных, хоронили не на кладбище, а посреди поля? Промашка поэта? Но почему-то незаметная, пока мы воспринимали эти стихи вместе с музыкой и не взяли в руки печатного текста. Или еще:
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
Да ведь это вопиющий штамп, который не пропустил бы ни один газетный редактор. А здесь, в этом поэтическом контексте, он почему-то не режет ни глаз, ни ухо. Надо ли говорить, что у авторов рангом пониже можно встретить перлы и похлеще, когда более-менее развитое эстетическое чувство сразу же громко протестует. Но в данном случае, к счастью, этого нет, поскольку органично встроенные в поэтическую ткань точно найденные подробности («вздохнул солдат, ремень поправил, достал мешок походный свой») нейтрализуют не только «слезу несбывшихся надежд», но и всю вообще нашу рассудочную критическую инстанцию. Не зря же, услыхав эти стихи, Твардовский сказал своему земляку и коллеге: «Ты в двадцать строк вкладываешь столько, что мне и в поэму не вложить».
Другой пример. В фильме «Дом, в котором я живу» демобилизованные солдаты возвращаются домой в самый вечер Дня Победы. Вероятно, непосредственным участникам войны, с окончания которой минуло меньше пятнадцати лет, не могла не броситься в глаза эта явная несуразность. Но я из послевоенного поколения, о войне знаю по фильмам и по книгам, так что мне понадобились не один и не два просмотра, чтобы упереться мыслью в этот ни с чем не сообразный факт. Примерно так же восприняли этот эпизод и большинство моих сверстников, которых мне довелось опрашивать.
Конечно, о всевозможных ляпах в кино существует целая литература, так что приведенный пример отнюдь не единственный. Но в данном случае мы имеем дело с произведением отечественной киноклассики, что поневоле вынуждает задуматься о правде искусства и правде жизни, которые далеко не всегда совпадают. «Искусство с жизнью помирить нельзя», – сказал Александр Блок. И пойди авторы на поводу у правды жизни, они не погрешили бы против плоской истины, но пропал бы изумительной силы заключительный аккорд фильма, сплавляющий в одно целое всенародное ликование и глубочайшую личную трагедию (оглушившая Сергея весть о гибели Гали). Они предпочли правду искусства, и последующая судьба их детища подтвердила их правоту.
Многозначность, недосказанность, «семантическое пятно»
Кто не знает этого выражения: «Словам тесно, а мыслям просторно»? Но если добавить еще и «чувствам просторно», то оно как нельзя лучше приложимо к художественному тексту.
Есть такое понятие: романное пространство. Но попробуйте применить его к учебнику математики или поваренной книге – и вы поймете всю нелепость подобного допущения. А между тем чем емче это пространство, чем обширнее круг вбираемых им пусть даже не реализованных потенций, тем больше пищи дает оно нашему воображению. Именно этим и отличаются прежде всего «Король Лир» или «Гамлет» от сочинений на злобу дня, потому что не столько отвечают, сколько ставят вопросы, на которые нет единственного ответа. Да и на какие вопросы может дать ответ тот же «Гамлет», если трагедия, по словам Выготского, «умышленно построена как загадка, и ее надо осмыслить и понять как загадку, не поддающуюся логическому растолкованию»[13]13
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 211.
[Закрыть].
И точно так же не знает искусство однозначности оценок. Вспомним, например, завет Константина Станиславского: «Когда играешь злодея, ищи, где он добрый». А булгаковский Воланд в «Мастере и Маргарите», этот, если воспользоваться формулой Владимира Саппака, «отрицательный герой, выполняющий положительную функцию» – какой он и что нам о нем думать? Вероятно, с определенностью ответить на этот вопрос не смог бы и сам автор. Доброе и злое начало сцеплены здесь так, что их не разъять даже с помощью спектрального анализа. И именно это его постоянное существование на грани этих двух начал, заложенное уже в эпиграфе к роману («Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»), сообщает ему то неизъяснимое обаяние, без которого он никогда не завоевал бы сердца читателей. Вспомним в этой связи «противоположные ряды чувств» Выготского, когда «всякое художественное произведение – басня, новелла, трагедия – заключает в себе непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды чувств»[14]14
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 270.
[Закрыть]. То есть когда разнонаправленные эмоции сосуществуют в пределах одного и того же художественного пространства, необычайно его усложняя и углубляя. И постичь всю эту фантастическую сложность искусства невозможно в отрыве от человеческой психики.
Выше мы уже говорили о противоположности образного и логического мышления, суть которого, почти по Гамлету, «слова, слова, слова». Да, слова составляют фундаментальную основу последнего, но они же одновременно его и обедняют, стремясь втиснуть окружающий мир в прокрустово ложе его вербального истолкования. Но логическое мышление не хочет с этим считаться, навязывая нам спрямленное о нем представление. С одной стороны, это таит в себе немалые преимущества, поскольку позволяет нам однозначно понимать окружающее, так сказать, с первого предъявления. Без этого мы едва ли бы сориентировались в великом множестве жизненных ситуаций, где особого проникновения в их суть и не требуется. Так, переходя улицу, смешно было бы всякий раз задумываться над тем, с какой стороны обойти трамвай или троллейбус, когда есть на то однажды установленные шаблоны. И деньги лучше прятать поглубже, и спички от детей убирать подальше.
Беда, однако, в том, что такого рода рутинное мышление обладает огромной инерционностью, так что мы в конце концов и все вокруг начинаем воспринимать в том же уплощенном контексте. Попробуйте в порядке эксперимента опросить с десяток людей, предлагая им без раздумий подобрать эпитет к первым пришедшим в голову словам: солнце, друг, Земля, погода и т. д. Вы увидите, что друг в 70 % окажется верным, солнце – ярким, погода – плохой или хорошей, а Земля круглой. То есть выхватывается какое-нибудь ближе всего лежащее определение. Точно так же в ответ на двойку, принесенную ребенком из школы, мы почти всегда реагируем возмущением, а выбирая в платной поликлинике врача-консультанта, как правило, предпочитаем кандидату наук – доктора, а ему, в свою очередь, профессора.
Вот этому линейному прагматизму, по сути, и противостоит искусство. И чтобы выйти из-под тирании этого автоматизма, художник должен так «сдвинуть» жизненный материал, чтобы предметы утратили свой истертый, привычный смысл (Виктор Шкловский назвал это остранением), а слова заиграли новыми, неожиданными гранями, вступив между собой во внелогическую связь и формируя в конечном счете то самое художественное пространство, о котором шла речь выше.
Правда, достигается это за счет однозначной четкости высказывания, но тут или-или. Или полная смысловая определенность, как в инструкции по технике безопасности, или многозначность, недосказанность, зыбкое «семантическое пятно», по выражению Юрия Лотмана. Конечно, в технике безопасности с подобной неопределенностью делать нечего. Но зато в неподвластной аналитическому раскладу художественной стихии читатель или зритель обретает как бы второе дыхание, обогащаясь мыслью и освежаясь душой. Хотя зачастую и встает в тупик при необходимости передать все им перечувствованное языком «бытовой прозы».
Впрочем, в реальной жизни нас редко прибивает к какому-то одному берегу Практически оба типа нашего мышления в той или иной мере дополняют друг друга, и все дело в том, чтобы их взаимодействие было гармоничным. Но именно этого так часто недостает вечно озабоченному, закрученному деловой круговертью современному человеку Творческий процесс и редукция логического мышления.
А теперь вернемся к вопросу, которым мы задались в самом начале этой главы: действительно ли «художественный плен» в какой-то мере сродни гипнотической зависимости? И что в этом случае идет от «индуктора», а что от «реципиента»? Выше было высказано предположение, что само по себе художественное произведение всем своим строем, всей суммой своих приемов работает против его спрямленного, прагматического восприятия, нейтрализуя левополушарную «критическую инстанцию» и раскрепощая в силу этого наше образное (художественное) мышление. То есть степень некритичности восприятия – вот тот общий знаменатель, позволяющий рассматривать искусство в одном ряду со сновидениями и гипнотическим трансом с характерной для них отключенностью волевых механизмов и некоторыми другими присущими им чертами.
«Во время сновидений, – пишет Вадим Ротенберг, – сознание, утратившее способность к критическому анализу, может „озаряться” такими качествами предметов и явлений, которые во время бодрствования не осознаются из-за критической настроенности сознания»[15]15
Ротенберг В. С. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. М.: Центр гуманитарной литературы РОН, 2001. С. 116.
[Закрыть]. Что же касается гипнотических состояний, то их суть также сводится «к относительному превалированию образного мышления в условиях ингибиции вербального мышления <…> Обостренная концентрация внимания на общении с гипнотизером обеспечивает ту редукцию логического мышления, которая необходима для доминирования образного мышления»[16]16
Ротенберг В. С. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. М.: Центр гуманитарной литературы РОН, 2001. С. 137–138.
[Закрыть].
И эту же редукцию логического мышления, только в минуты творчества, наблюдают у себя и некоторые писатели. Вот как, отвечая на вопросы анкеты, разосланной М. Горькому, А. Н. Толстому, Ю. Тынянову и другим художникам слова и касающейся их писательской кухни (эти их ответы составили изданную в 1930-м и переизданную в 1989 году книгу «Как мы пишем»), описывает это «третье состояние» Евгений Замятин.
«В спальных вагонах в каждом купе есть такая маленькая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо – полный свет, если влево – темно, если поставить на середину – зажигается синяя лампа, все видно, но этот синий свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон – рукоятка сознания повернута влево; когда я пишу – рукоятка поставлена посредине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работаеттак же, как во сне, она движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание. Как и во сне – стоит только полностью включить сознание – и сон исчез»[17]17
Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 25.
[Закрыть].
Что это, как не прожектор логического мышления, будучи включенным на полную мощность, подавляющий творческую потенцию? Но Замятин идет и дальше, развивая и углубляя это сравнение и уподобляя творческий процесс гипнотическому трансу:
«Самое трудное – начать, отчалить от реального берега в сон. Сон еще воздушен, непрочен, его никак не поймать. <…> Потом, страница за страницей, сон становится все крепче, мотор фантазии развивает все большее число оборотов, <…> и, наконец, на какой-то день работы приходит настоящее, когда начатый сон уже становится неотвязчивым, когда ходишь загипнотизированный им, когда думаешь о нем на улице, на заседании, в ванне, в концерте, в постели»[18]18
Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 26.
[Закрыть].
И почти в тех же выражениях высказывает ту же мысль и Алексей Толстой: «Прежде бывали случаи, что садился к столу, как человек, готовящийся быть загипнотизированным»[19]19
Как мы пишем. М.: Книга, 1989. С. 123.
[Закрыть].
Можно, конечно, отнести подобный «изоморфизм» на счет свойственной творческим натурам любви к метафорической выразительности. Однако мне видится здесь другое – интуитивное проникновение в одну из самых скрытых сторон писательской психологии, для которой нет пока еще достаточных объективных данных. И хотя в строгом понимании это, конечно, не гипноз (Лидия Чуковская в письме Леониду Пантелееву уподобляет его наркозу, «живя под которым не чувствуешь грозных опасностей и мелких неприятностей <…> когда внутри пишется, уже как бы сама собой, книга»[20]20
Пантелеев Л. Чуковская А, Переписка (1929–1987). М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 130.
[Закрыть]), но все же, видимо, какой-то особый режим работы мозга, отличный как от полной «темноты» (сон), так и от полного «света» (бодрствование). А как его назвать – пусть решают специалисты.
* * *
И на этом можно бы, пожалуй, поставить точку. Но, может быть, у кого-нибудь возник вопрос: а не следует ли дать, наконец, внятное определение понятию «художественное мышление»? И почему автор все время уходит от подобных формулировок, принятых в словарях и энциклопедиях? Думаю, читатель уже догадался, что мною избран принципиально иной путь, намек на который можно найти в известном парадоксе Августина Блаженного: «Я знаю, что такое пространство и время, пока меня об этом не спрашивают». Так вот, пока меня не спрашивают, я тоже знаю, что такое художественное мышление, как знаю, что такое «Мертвые души» или «Анна Каренина». Но стоит меня спросить, в чем сущность этих романов, и я не смогу ответить на это ни в двух, ни в ста двадцати двух словах. Как не смог ответить на подобный вопрос и сам Лев Толстой, признававшийся в уже цитировавшемся здесь письме Николаю Страхову: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал сначала»[21]21
Толстой Л. Н. Письма. 296. Н. Н. Страхову. 1876 г. Апреля 23 и 26. Ясная Поляна. // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 18. С. 784.
[Закрыть]. И это как нельзя лучше иллюстрирует бессилие нашего рассудочного сознания рядом с возможностями образного, и в том числе художественного, мышления. И вот почему форма эссе, выбранная для настоящей книги и допускающая разного рода метафоры, недоговоренности, уход от окончательных суждений, использование наглядных примеров взамен однозначных выводов, позволяет скорее передать его подвижную, ускользающую суть, чем пытаться уловить ее в жесткие логические сети.
Однако правда и в том, что нам еще очень мало известно о природе этого феномена, хотя благодаря современным представлениям о функциональной асимметрии больших полушарий мы знаем о нем намного больше, чем два-три десятилетия назад. В особенности это касается роли правого полушария в образном мышлении – с его быстродействием, способностью к одновременной обработке информации сразу по многим параметрам (левое полушарие выполняет это поэтапно и последовательно, а потому более медленно), воображению объектов, отсутствующих в реальности, и т. д.
Когда-то, полемизируя с эстетической концепцией Льва Толстого, полагавшего, что наряду с «правильным» искусством существуют «неправильные» его виды, которые, не давая выхода обуревающим нас чувствам, лишь смущают душу, действуя на нее «раздражающим образом», Лев Выготский писал: «Музыка побуждает нас к чему-то, действует на нас раздражающим образом, но самым неопределенным, то есть таким, который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением и поступком <…> проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные и стесненные силы»[22]22
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 320.
[Закрыть]. Лучше, пожалуй, не скажешь. Но самый этот психологический механизм, «который непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением и поступком», по-прежнему окутан для нас тайной, бросая вызов задумывающемуся над ней человеку и действуя на него «раздражающим образом».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































