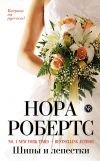Текст книги "Живописец душ"
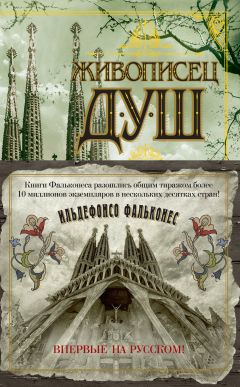
Автор книги: Ильдефонсо Фальконес
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Бабочку кинуть? – с томным выражением лица продолжала насмехаться девица, держа в руке полоску ткани, такую же несвежую, как воздух в комнате, которым они все дышали.
Далмау воспользовался случаем, чтобы пристальней рассмотреть женщину: под тесным корсажем ее груди гордо вздымались, но художник вспомнил, как ночью они болтались, отвисшие. Он бы не рискнул определить на глаз ее возраст: так или иначе, ее потасканное тело носило следы беспорядочной жизни. Заметив пристальный взгляд Далмау, девица поджала губы и вздернула брови. «Какая уж есть», – будто хотела сказать этой гримасой.
Далмау отыскал остальные свои вещи, оделся, убедился, что не осталось ни сентимо из песет, которые он предусмотрительно прихватил с собой вечером и, наверное, растратил на спиртное и женщин, а потом решил уйти из старого дома вместе с девицами.
– Дружков своих не подождешь? – спросила одна из них.
Далмау наконец-то подошел к кровати. Может, будь молодые люди одеты, художник и смог бы их припомнить, но голые тела ни о чем ему не говорили.
– Нет, – отвечал он, – зачем нарушать такой блаженный сон.
Утром Далмау зашел к себе домой и вздохнул с облегчением, убедившись, что матери нет; должно быть, вышла за покупками или относит готовую работу и берет следующую. Он привел себя в порядок, подумал, не разжечь ли огонь на кухне, чтобы приготовить что-нибудь существенное, но отказался от этой мысли; съел кусок черствого хлеба с половиной луковицы и направился на фабрику изразцов. Контраст между сумраком, сыростью и зловонием на улицах старого квартала Барселоны и игрою восходящего солнца позднего лета с тенями деревьев на Пасео-де-Грасия, предвещавшей погожий день для счастливцев, которые там обитали и наслаждались окружающим, снова вызвал ощущение тревоги, мучительные судороги в животе.
Он инстинктивно высматривал Эмму в потоках людей, движущихся туда и сюда по главной артерии города. Не углядел ее, но и не свернул с дороги. Этой ночью он Эмме изменил. Судороги в животе стали сильнее. Хотя он пытался оправдаться, выдвигал доводы в свою защиту: разве не может служить оправданием, пусть и слабым, влияние винных паров? Ведь то были проститутки, настаивал он, будто перед кем-то отчитываясь. О любви и речи не заходило, но он впервые переспал с другой женщиной, и от этого все переворачивалось внутри.
Однако ощущение вины рассеивалось по мере того, как работа, успех, публичное признание, празднества наполняли жизнь Далмау, ломая привычный уклад. Он делал рисунки для изразцов, панелей и изделий из глины. Рисовал и писал: картины, плакаты, виньетки для газет; даже сделал пару экслибрисов. Лично познакомился с Рамоном Касасом, который в этом году закончил двенадцать холстов, украсивших так называемый зал Ротонды в клубе «Лисео». Все на тему, связанную с музыкой, везде на переднем плане женская фигура. Мастерство Касаса проявилось в легких, прозрачных, словно мимолетных мазках; ценители не колеблясь признали эту серию вершиной живописи модерна. Далмау также представили Рузиньолу, а еще Пикассо, молодому художнику, чуть старше его самого, о котором упоминал учитель и с которым Далмау пересекся во время одного из случайных наездов Пикассо в Барселону.
Но самый яркий расцвет модерн переживал в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. В Европе и Америке бытовал ар-нуво и разные местные варианты этого художественного течения, но только в Барселоне, в ее жилых зданиях и магазинах эти идеи воплотились наиболее слаженно, во всей полноте. Новое положение Далмау как модного художника и керамиста дало ему доступ в строящиеся здания: он сопровождал архитекторов, подрядчиков, специалистов по изразцам, краснодеревщиков, мраморщиков, чеканщиков и всю когорту, окружавшую истинных творцов всех этих чудес.
Дом Льео-и-Мореры и госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау Доменек-и-Монтанера. Дом с Пиками Пуч-и-Кадафалка. Башня Бельесгуард и Парк Гуэль Гауди. Далмау мог прикоснуться ко всем этим творениям, даже занимался там любимой работой: выкладывал изразцы, устанавливал керамику дона Мануэля Бельо; попутно слушал указания великих мастеров и, понимая с тяжелым чувством, как ему самому до этого далеко, присутствовал при рождении волшебства. Доменек и Гауди соревновались в строительстве монументальных зданий. Первый возводил госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау, второй посвятил себя постройке храма Саграда Фамилия. Гауди был до крайности высокомерным человеком, гордецом, мистиком, архитектором Бога. Напротив, Доменек, несмотря на несколько вспыльчивый нрав, был умным, культурным, истинным гуманистом. Пуч-и-Кадафалк, младший из троих, ученик Доменека, архитектор и математик, был также членом Барселонской городской управы.
И, несмотря на соревнование, которое, по мысли Далмау, должно было бы поглотить их целиком, исчерпать до дна их творческие способности, три великих архитектора занимались и работами меньшего масштаба, к примеру декорировали коммерческие заведения. Гауди и Пуч-и-Кадафалк совместно украсили одно из главных кафе Барселоны, «Торино» на Пасео-де-Грасия, открывшееся в сентябре того же 1902 года. Гауди спроектировал интерьер дальнего зала ресторана, Пуч – того, что располагался прямо за входом. Доменек, в свою очередь, перестраивал и декорировал отель «Эспанья», взяв себе в помощь великих мастеров: скульптора Эусеби Арнау, мраморщика Альфонса Жуйола, а главное, художника Рамона Касаса – он украсил столовую отеля настенной росписью с сиренами, которые, казалось, плавали среди едоков.
Заказы текли рекой на фабрику дона Мануэля Бельо. Там были известны проекты всех архитекторов. Доменек собирался облицевать керамикой все павильоны нового большого госпиталя. Полы, стены и потолки будут покрыты изразцами, в палатах – мягких, успокаивающих тонов, на фасадах и прочих внешних поверхностях – яркими, с металлическим блеском, чтобы солнце Барселоны отражалось в них, как в самих формах плиток – стремление к единству искусств: гладкие одноцветные изразцы в палатах можно было мыть и дезинфицировать, что гарантировало чистоту, а во внешних деталях, пинаклях, венцах, отдушинах, да и в покрытиях фасадов и крыш ощущался отход от традиционных форм с их жесткими линиями: фантазия архитекторов заставляла струиться обожженную глину. Новый госпиталь Санта-Креу-и-Сан-Пау наверняка станет шедевром стиля модерн, торжеством изразца и золотой жилой для его поставщиков.
– Не то что этот задавака Гауди, – посетовал как-то учитель, обсуждая с Далмау, как идут дела на фабрике.
– О чем вы? – изумился Далмау.
– В то время как другие уважают наш труд, заказывают нам изразцы и рисунки и, будем надеяться, станут и дальше так поступать, Гауди собирает лом на фабриках и в мастерских и покрывает свои творения так называемым тренкадис, плохо подобранной мозаикой из осколков и обломков керамики, стекла и фарфора.
Далмау знал эту технику, придуманную Гауди. Она ему нравилась. Пестрая неразбериха маленьких битых кусочков изумляла. Иногда волновала, но всегда захватывала: цветом, расположением, даже возможностью поразмыслить, от чего откололся тот или иной кусок, тщетной попыткой проследить его историю.
– Это новая, современная техника, – попытался Далмау выступить в защиту великого архитектора.
– Сынок, – перебил его дон Мануэль, – тренкадис не более чем вариант заллиджа, который еще мавры применяли в нашей стране много лет назад. Дело в том, что Гауди помешан на экономии, только и твердит о правильном распределении ресурсов, о сокращении расходов. Он возродил эту технику и добился того, что фабрики даром отдают ему ненужные остатки, а он удешевляет строительство.
Как и в других случаях, Далмау не стал спорить с учителем. Может, тренкадис и придумали мавры, а может, и нет; многие постройки в стиле модерн основывались на арабской архитектуре и орнаментах. Одно было неоспоримо: керамика на фасадах зданий, битая ли, целая, меняла облик городской среды. Камень и кирпич, серые, однообразные, унылые, стоило покрыть их изразцами, преображались в светоносные, разноцветные, сверкающие фасады, способные донести до любого прохожего новые, смелые, впечатляющие формы, не то что скучные классические фронтоны, обрамляющие проспекты больших городов.
Шли месяцы, и Далмау, потеряв всякую надежду отыскать Эмму, посвятил себя работе: делал рисунки для изразцов, писал картины, посещал строящиеся здания в стиле модерн, и чем больше слушал великих мастеров архитектуры и ремесленников, которые, как он в изразцах или керамике, воплощали замыслы гениев, работая над деревом, железом или стеклом, тем больше склонялся в живописи к находкам своего идола Рамона Касаса. Он окончательно избавился от какого бы то ни было влияния символизма, характерного для художников Святого Луки и глубоко укорененного в живописи учителя, и пытался кистью уловить ускользающий миг, отдавая предпочтение размытым цветам перед контрастными, прибегая к игре нечетких линий; реальность, обыденная реальность, такая, какой художник воспринимал ее в данный единый миг. Свет. Далмау гнался за чарующим светом заката, который падает, когда день и ночь вступают между собой в битву, заодно расправляясь с реальным миром, и все очертания расплываются.
Но, несмотря на успех его изразцов и многих других работ, Далмау скрывал свои картины даже от учителя, боясь, что их начнут сравнивать с шедеврами и критики разнесут его создания в пух и прах. Ему нужно было освоить, впитать в себя чудесные идеи модерна, проникнуться духом новизны. Не раз планировал он поехать за границу, как это делали раньше и продолжали делать теперь большинство великих художников. Он располагал деньгами благодаря заказам, которые получал, но у него была мать, прикованная к швейной машинке, и значительный кредит, который нужно было выплачивать учителю, в свое время избавившему его от воинской повинности, хотя Далмау в глубине души полагался на то, что дон Мануэль простит ему долг: фабрикант сам не раз на это намекал, когда заказчики оставались довольны и щедро оплачивали творения молодого художника.
С тех пор как Монсеррат погибла, а Эмма, разорвав помолвку, приходила к Хосефе лишь от случая к случаю, мать Далмау мало кто навещал. Томас жил ради рабочей борьбы, пытаясь взять реванш за провал организованной в начале года всеобщей забастовки. Старший брат не ведал иных привязанностей, кроме политических битв, а потому не признавал за собой обязательств заботиться и печься о матери, это всегда делала Монсеррат, или, на худой конец, Далмау, любимчик. Правда, иногда он неожиданно появлялся на улице Бертрельянс, сваливался как снег на голову, но, помимо этих спорадических визитов, лишь какая-нибудь соседка или старая подруга заходили к Хосефе домой узнать, как у нее дела, попить с ней кофейку, отвлечь от швейной машинки и немного поболтать.
Далмау тоже нечасто бывал с матерью, ел он обычно на фабрике: Пако приносил ему что-нибудь из столовой, а он продолжал работать; или в доме учителя, где донья Селия и ее дочь Урсула всячески старались ужимками и разными каверзами отравить ему обеды, которыми их муж и отец хотел сделать приятное молодому работнику. Если ночами Далмау не оставался в мастерской, то проводил их в тавернах или ресторанах в компании таких, как он сам, людей искусства, и известных, и непризнанных; писателей, которые все как один отличались заносчивостью, хотя иных из них никто не читал: Далмау убедился, что этот порок пишущих людей находится в обратной зависимости от успеха их произведений; скульпторов; журналистов; обнищавших представителей богемы, живущих надеждой на то, что где-нибудь их угостят супом и куском мяса, и золотой молодежи: этих юнцов порочный мир богемы привлекал по контрасту с тем, где они обитали с комфортом, под крылышком богатых родителей, владеющих недвижимостью в Эшампле. Частенько после таких посиделок уже поредевшая компания глубокой ночью отправлялась на поиски спиртного и женщин, часто проституток, так что Далмау, приходя домой, как правило, заставал мать спящей.
Виделись они по утрам, когда Хосефа оставляла работу и готовила сыну завтрак. Говорили мало. Далмау предвидел, что любая беседа приведет к упрекам, а Хосефе надоело твердить сыну, что он пошел по кривой дорожке.
– Я добился успеха, – ответил он однажды. – Люди меня знают… Ценят мои работы, приглашают меня, хотят со мной общаться.
– Этот твой успех ты должен был бы поставить на службу народу, рабочим, – перебила его мать, – их борьбе.
– Мама… – Далмау попытался уйти от темы. – Чего вы хотите? Чтобы я дарил свои картины рабочим обществам?
Хосефа не слишком пилила его. Она любила сына. Поэтому не рассказывала о визитах Эммы. В первый раз они столкнулись, когда Хосефа шла отдать готовые манжеты и взять другую работу. Девушка не захотела подняться в квартиру. Они побродили немного по старому городу, по переулкам, где никогда не светило солнце, сырым, грязным и зловонным, и разговор их часто заглушался криками или грохотом цехов и мастерских, до сих пор ютившихся в тесном переплетении улочек средневековой Барселоны. Девушка как на духу выложила Хосефе все обстоятельства, которые привели ее к нынешнему положению: как она заменяла Монсеррат у монахинь, как на нее возложили ответственность за гибель подруги. «Не волнуйся, – успокоила ее Хосефа. – Ты ни в чем не виновата. Ты любила ее». Перейдя к Далмау, Эмма рассказала, как он напился и ударил ее, а напоследок изложила историю с рисунками обнаженной натуры, которые продавались в борделе. Хосефа покачала головой и вздохнула.
– Больнее всего было то, что он отступился, не стал снова просить прощения, не старался всеми силами спасти нашу связь. В первый раз он застал меня на взводе, еще синяк не сошел! – воскликнула Эмма. Хосефа не сводила с нее глаз, в чертах девушки отражалась боль. – Потом эти рисунки, где я в голом виде. Как можно такое простить? – спросила она с тоской. – Сейчас я торгую курами с беззубым старикашкой, который не смеет трогать меня за задницу, – добавила она, чтобы снять возникшее напряжение.
Отчасти это получилось: Хосефа изобразила слабую улыбку, но потом снова покачала головой.
– Далмау изменился, детка, – призналась она. – Он, боюсь, превращается в одного из тех, против кого мы столько боролись. Если бы я верила в загробный мир, попросила бы его отца наставить сына на истинный путь, но я в другую жизнь не верю, поэтому страдаю, когда думаю, что мой муж напрасно пожертвовал жизнью за идеалы, от которых его младший сын отступился.
Эмма крепко сжала руку Хосефы, и они какое-то время шагали молча.
– Не говорите ему обо мне, – попросила девушка, когда они свернули на улицу Бертрельянс.
Хосефа не только пообещала, но и сдержала слово, и каждый раз, когда сын упоминал Эмму, заговаривала о другом, пока однажды, когда он слишком настаивал, ей не пришлось прибегнуть к более весомым аргументам:
– Как ты можешь думать о каких бы то ни было отношениях с девушкой, когда рисунки, изображающие ее нагой, разошлись по всей Барселоне?
Холодный пот заструился по спине Далмау: мать, оказывается, все знает.
– Ее оскорбили, – вклинилась Хосефа в его размышления, – ославили потаскухой в присутствии многих, многих людей; ты должен это уразуметь: ее унизили, дядя выгнал ее из дому как собаку.
– Как вы об этом узнали? – спросил Далмау.
– Сынок, – удрученно проговорила Хосефа, – люди, они злые. Лишь пройдет какой-то слушок, сбегутся к тебе, как гиены, и выплеснут всякие пакости прямо в лицо. Ты дрался с кузенами на улице, посетители столовой не молчали, Эмма исчезла…
Далмау не стал углубляться.
Со своей стороны, Эмма дала Хосефе адрес дома, где жила, чтобы та при необходимости могла связаться с ней.
– Что бы ни случилось, Хосефа, – добавила она, – не сомневайтесь и не раздумывайте. Что бы то ни было. Что бы то ни было, – с горячностью повторила она. – Вы знаете: я вас люблю, как родную мать, – заключила она, нежно поцеловала старую женщину в щеку и слегка подтолкнула к дому, чтобы ни та ни другая не увидела горьких слез, струившихся у обеих по щекам.
Вот почему, зная позицию матери по этому вопросу, Далмау спрятал от нее фрак, рубашку с жесткими, белыми-белыми воротничком и манжетами, черную бабочку и лакированные туфли: все это он купил, чтобы явиться на бал, который устраивали в «Мезон Доре», одном из самых престижных заведений Барселоны, расположенном на площади Каталонии. Двое из богатеньких мальчиков, которым нравилось ходить на богемные посиделки, Хосе Париа и Амадео Фабра, уговаривали его пойти, умалчивая, однако, что требуется вечерний костюм. На этом балу, уверяли молодые люди, будут не те женщины, с которыми они обычно завершали свои разгульные ночи. Туда придут их собственные сестры и многие барышни из высшего общества Барселоны, которым родители, за исключением особых случаев, не позволяют выходить по вечерам.
– Все хотят с тобой познакомиться! – воскликнул Амадео.
– Мы много рассказывали о тебе, о твоей работе, о картинах, – подхватил Хосе. – Они просто жаждут поговорить с тобой.
Далмау качал головой. Он не представлял себя на балу рядом с учителем, доньей Селией, Урсулой, всеми богатеями и большими шишками Барселоны вкупе с их семьями.
– Они видели твои рисунки в прессе, знают твои рекламы, – настаивал Амадео. – Моя сестренка, например, хранит коробку из-под карамели, которую ты придумал, складывает туда все свои сокровища.
Далмау не поддавался, праздник этот не привлекал его.
– Далмау, – снова приступил Амадео, – там соберутся твои потенциальные заказчики. Кто заплатит тебе за рекламные плакаты? Промышленники. Кто купит у тебя картины, когда ты решишься выставить их на продажу? Рабочие? Тебе следует пойти туда, познакомиться с этими людьми, подружиться с ними.
– Я не умею танцевать, – только и сказал польщенный Далмау, которого последние доводы совершенно убедили.
В то время, в середине 1903 года, группа воинствующих католичек, в число которых, разумеется, входила и донья Селия, подняла знамя борьбы с богохульствами. Республиканцы и анархисты, да и большинство рабочих богохульствовали на улицах и в тавернах, в мастерских и на фабриках. И в большинстве своем они это делали не по невежеству, не задумываясь о том, что говорят, а по убеждению: они божились, зная, что этим оскорбляют католиков и их веру. Женщины, затянутые в корсеты, одетые в черное, не желая, чтобы имена Господа, Пресвятой Девы и всех святых не исторгали всуе грязные уста кощунников, развили бурную деятельность и собрали более двенадцати тысяч подписей, которые представили властям, дабы те применили репрессивные меры против божбы. На некоторых фабриках ввели правила внутреннего распорядка, запрещающие божиться, и даже стали увольнять рабочих. Тем вечером, когда Далмау подальше от материнских глаз облачился во фрак у себя в мастерской, праздновался успех столь благочестивого начинания.
Далмау вышел на Пасео-де-Грасия: этот бульвар освещался так, как никакая другая улица в городе. Ему было неловко как из-за фрака, который он купил из вторых рук, боясь, что потратит слишком много, если обратится к портному дона Мануэля или ему подобному, так и из-за взглядов, которыми провожали его бедняки, толпящиеся перед богатыми домами в надежде получить остатки вечерней трапезы или ищущие, где бы провести ночь, хоть и весеннюю, но немилосердно холодную. Тrinxeraire подошел к нему и попросил милостыню. Далмау сморщился при виде истощенного и грязного мальчишки и дал ему два сентимо. Что-то давно не видно Маравильяс, подумал он, и тут к нему подбежали еще четверо беспризорников, привлеченные его щедростью.
– Я уже дал одному, – отмахивался от них Далмау. – Не могу же я всем подавать, – буркнул он, но дети не отставали, гнались за ним по бульвару, забегали вперед, клянчили, хватали за фалды фрака. – Хватит! – заорал наконец Далмау, потеряв терпение. – Мне кликнуть жандармов? Ночного сторожа?
Не успел он договорить, как мальчишки разбежались. Далмау пересек железнодорожные рельсы на улице Арагон по мостику над перроном и остановился как вкопанный. Справа высился дом Амалье, чуть поодаль – Льео-и-Мореры, построенный Доменеком, а он только что пригрозил несчастным беспризорным детишкам полицией. Жалкий, презренный тип. Из-за восьми сентимо, по два на каждого, а сколько денег угрохал на фрак, пусть и поношенный. Сколько потратил на пьянки и женщин. Чтобы попасть на сегодняшний бал, внес приличную сумму, и поди ж ты, не раскошелился ради нищих ребятишек. Огляделся по сторонам, нет ли их поблизости, но куда там – давно удрали. А может, наблюдают за ним из тайных нор, где ночуют. Далмау вдохнул ночной воздух, прислушался к ночным звукам: женщина напевает у открытого окна, по мостовой стучат копыта, гулко отдается топот убегающих trinxeraires. Звуки раздельные, отчетливые, словно прозрачные, не накладываются друг на друга, как среди дневного шума.
Стоило труда продолжить путь, и все-таки он медленно двинулся дальше. Ностальгия по прошлому грызла его изнутри. Сколько раз он слышал эти звуки, когда искал Эмму. «Что с ней сталось?» – спрашивал он себя, вдруг осознав, насколько перед ней виноват. Прошло больше года с тех пор, как погибла Монсеррат. Примерно в то же время рухнули его отношения с Эммой, а он, примирившись с разрывом, позволил воспоминаниям раствориться в гулянках и в работе, и только в такие моменты, как этот, они возвращались, нещадно терзая совесть. «Такой вот она была, – каялся Далмау перед лицом ночи, – бесстрашной и безрассудной». Почему бы и ему без страха, без задней мысли не заглянуть в прошлое? Ошибка за ошибкой… Страх перед тем, что Эмма его окончательно оттолкнет. Гордыня или трусость помешали ему последовать за Эммой тем вечером, когда она отказалась слушать его извинения. Он должен был пойти следом тем вечером, или на следующий день, или еще через день. События, пережитые тогда, положили конец счастью Далмау, возможно и его юности.
С такими мыслями он подошел к «Мезон Доре», модному кафе-ресторану, расположенному на углу улицы Риваденейра и площади Каталонии, в переулке, выходящем к церкви Святой Анны, откуда два шага до улицы Бертрельянс, где они жили с матерью. Нарядно одетые люди, выходящие из череды экипажей, и многочисленные ротозеи, снующие вокруг, казались специально подсвеченными по контрасту с кварталом, тонущим в полумраке. Далмау проложил себе путь сквозь толпу и просочился в дверь, не дожидаясь, пока очередные новоприбывшие выйдут из наемного экипажа. Показал билет, который дон Мануэль ему вручил в обмен на сумму, вроде бы предназначенную для благотворительности, и смешался с гостями, которые уже заполняли оба этажа; из них, еще из полуподвала, где располагались кухни и другие подсобные помещения, и состояло заведение, декорированное в стиле модерн, хотя и несколько перегруженном, барочном; там стояла французская мебель, а стены украшали фрески знаменитых каталонских художников: Де Риквера, Ванселлса, Уржелл-и-Инглады, Риу-и-Дориа… Далмау рассмотрел их сквозь ряды железных колонн, увенчанных арками с цветочным орнаментом, поверх голов приглашенных, сквозь клубы дыма от трубок и сигар. Он уже бывал здесь. В этом кафе-ресторане происходили самые известные в городе сборища – политиков, людей искусства, литераторов, даже тореро, – к которым он присоединялся, порой просто чтобы послушать, не мог же он вступать в дискуссию с людьми, обладавшими такой широкой культурой.
Он прохаживался между приглашенными с бокалом шампанского, который ему вручил официант. Здесь собрался весь цвет Барселоны: богатые промышленники с женами и дочерьми, как и обещали Хосе и Амадео; военные в парадных мундирах с бесконечными рядами медалей, сверкающих на груди. Уж не получена ли какая-то из них за позорное поражение и потерю Кубы с Филиппинами, усмехнулся про себя Далмау. Были там и политики, даже алькальд города, даже епископ: в одной из групп, мимо которых проходил Далмау, упоминали его преосвященство. И разумеется, аристократы, целая уйма, получившие титул графа, маркиза или виконта, выложив чековую книжку на столик какого-нибудь ресторана вроде этого; аристократы нашего времени, соперничающие со старой знатью, чьи титулы, предмет их гордости, тесно связаны с историей Каталонии и боевыми подвигами предков. Донья Селия таяла в присутствии столь важных особ, и Далмау предполагал, что она пожертвовала бы доброй долей своего состояния, только чтобы приобщиться к ним. Что до дона Мануэля, то учитель больше посвящал себя Церкви и живописи, чем светской жизни, хотя и ею не пренебрегал. Далмау понимал, что многим ему обязан: да, учитель наживался на нем, но очень немногим людям скромного происхождения суждено вырваться из нищеты, на которую они обречены. А ему это удалось благодаря человеку, который относился к нему если не как отец, то как наставник, порой суровый; совсем недавно он выговаривал Далмау за его ночные похождения и неприглядный вид, в каком он являлся на фабрику.
– Но мои работы по-прежнему превосходны! Или нет? – выпалил Далмау учителю.
Дона Мануэля поразили и тон, и речи его самого ценного работника.
– Да, – только и ответил он, развернулся и заперся у себя в кабинете.
Ближе к полудню, увидев, что учитель собирается ехать домой обедать, Далмау предстал перед ним и извинился за свое поведение.
– Такая жизнь для меня внове, дон Мануэль, – признался он потом, – она слишком притягивает меня. Наверное, соблазняет. Я постараюсь следовать вашим советам, не беспокойтесь.
Мелодия вальса оторвала его от воспоминаний. Далмау долго любовался тем, как движутся пары. Одни буквально парили, кружились непринужденно, другие неуклюже топтались, следуя ритму. Умение танцевать не зависело от возраста, подметил он: встречались неловкие молодые пары, а рядом с ними – старики, вальсирующие с редким изяществом. Когда оркестр заиграл следующую пьесу, Далмау решил подняться на верхний этаж, где гости пили и болтали, разбившись на группы. Там он встретил Хосе и Амадео, да и других богатых мальчиков, которых знал по ночным вылазкам. И правда: с ними были их сестры, их подруги. Ослепительные девушки, жадные до развлечений, жаждущие узнать все, что было для них под запретом в роскошных домах, где их держали взаперти в ожидании замужества, выгодного, по мнению старших, как для дочери, так и для положения семьи.
Далмау мгновенно оказался в центре внимания, девушки окружили его и, всеми силами стараясь не выходить за рамки приличий, забросали вопросами о его рисунках и о его жизни. «Сын анархиста?» – осмелилась намекнуть одна. Внезапно воцарилось молчание, которое Далмау нарушил со всей непринужденностью.
– Да, – признал он. – Мой отец был осужден на процессе в Монжуике за покушение во время процессии на празднике Тела Христова. Это явилось причиной его смерти.
«Его казнили?» «Гарротой?» «А вы тоже анархист?» Иные из молодых людей пытались умерить нездоровое любопытство девушек, и, пока они ругались, Далмау высмотрел Урсулу; она стояла в нескольких шагах, в другом кружке, хотя юноше показалось, что она больше прислушивается к разговору, завязавшемуся вокруг него, чем к словам ее собеседников. На какой-то момент мелькнула мысль, не поделилась ли она с какой-нибудь подругой своим первым сексуальным опытом.
– Идемте танцевать!
Предложение, высказанное девушками почти единодушно, вернуло его к реальности.
– Анархисты не танцуют, – отнекивался Далмау.
– Бросьте политику, ей не место на таких собраниях, – укорила его одна.
– Да, – вмешалась другая, – здесь танцуют все мужчины, у кого две ноги и кто не носит сутану.
Его со смехом потащили на нижний этаж, и он танцевал, неумело. Шампанское и энтузиазм партнерш настолько ввели его в заблуждение, что ему показалось, будто он уже улавливает ритм вальса: «Раз, два, три, раз, два, три», – напевали они, дергая его за руку и за плечо. Далмау поддавался этой каденции, которая неизменно прерывалась, когда он спотыкался или наступал партнерше на ногу, а та, кусая губы, делала вид, что ничего не случилось. Эти девушки не прижимались к нему, как делала Эмма, когда они плясали под каким-нибудь навесом во время праздника в своем квартале. Эти танцевали откинувшись, выпрямившись, почти не соприкасаясь с партнером, и тем не менее от них исходило такое пламенное, такое сладострастное желание, что Далмау смущался. Он мысленно рисовал их нагими. Из-под угля, скользящего по бумаге, появлялись очертания юных, девственных тел. Иногда его охватывала дрожь, всего, целиком. Он готов был поклясться, что девушки проникают в его мысли, даже краснеют, кокетничая весьма умело, невзирая на свою неопытность.
Ирене. Так звали блондинку с лицом ангела, точеными чертами, безупречно белой кожей; она была ощутимо ниже ростом, чем Далмау, с маленькими руками и грудью. Она выглядела такой хрупкой, что показалась Далмау куклой, с которой следует обращаться очень бережно. С ней он танцевал чаще, чем с другими. Старался не наступать на ноги. «Ее фамилия Амат», – шепнул Хосе, когда они решили передохнуть и подышать свежим воздухом на террасе верхнего этажа, прихватив по бокалу шампанского. «Дочь одного из магнатов текстильной промышленности», – сообщил приятель дальнейшие сведения. «И я бы сказал, ты ей нравишься», – добавил поспешно, видя, что девушка подходит к ним. Далмау с Ирене болтали, отойдя в сторонку, она блистала, зная, что все смотрят на нее, победительницу в негласном соревновании. Они смеялись. Вернулись на нижний этаж и не расставались больше. Чокались шампанским. Пили и кружились в вальсе среди толпы, которой не замечали, будто в зале, кроме них, никого не было.
Когда закончился очередной танец, музыканты, игравшие на подмостках, отошли в тень, уступив место группе дам, в числе которых была и донья Селия; они вскарабкались наверх более или менее ловко. Попросили тишины; бокалы с шампанским зазвенели, как колокольчики, требуя внимания собравшихся. Люди спускались с верхнего этажа, в зале стало тесно. Зажатый в толпе, чувствуя тепло тела Ирене, теперь в самом деле близкого, Далмау подсчитал, что набралось человек четыреста, может быть больше.
– Ваше превосходительство генерал-капитан, – нараспев произнесла одна из дам, одетых в черное, – ваше преосвященство, – добавила, еле заметно кивнув в сторону епископа, – ваше превосходительство господин алькальд Барселоны…
Женщина перечислила многочисленных представителей власти, пришедших на праздник, наконец, поприветствовав публику, поблагодарила барселонцев за щедрость, проявленную в столь человеколюбивом деле, как благотворительность и вспомоществование нуждающимся, а потом пустилась в длинную диатрибу против богохульства. Далмау перестал слушать примерно тогда, когда ораторша приветствовала членов кафедрального капитула. Он искоса взглянул на Ирене: девушка слушала серьезно, будто с подмостков ей предлагали Святое причастие. Далмау пытался прикинуть, сколько ей лет. Наверное, от восемнадцати до двадцати. На вид не больше шестнадцати, но это никак не вязалось с кругом подруг, в котором она вращалась, и с вольностями, которые позволяла себе: пила, танцевала, хотя, несомненно, под бдительным надзором родителей; те, конечно же, успели узнать о жизни Далмау больше, чем знал он сам. Восемнадцать, заключил он, хотя не был вполне уверен. Погруженный во внутренние дебаты по поводу возраста этого ангела, Далмау не заметил, как Урсула пробилась сквозь толпу, подошла к молодому человеку, который выглядел безупречно, несмотря на то что бал длился уже много часов, и заговорила с ним, указывая на подмостки. Молодой человек улыбнулся и кивнул. Произнес речь епископ. Произнес речь алькальд. И когда казалось, что торжественная часть подошла к концу и скоро возобновятся танцы, молодой человек вспрыгнул на подмостки. Публика от неожиданности затихла.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?