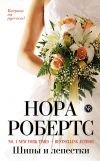Текст книги "Живописец душ"
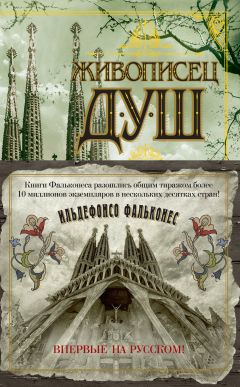
Автор книги: Ильдефонсо Фальконес
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Дамы и господа, – проговорил он развязно, звонким и сильным голосом, – мы, молодежь, понимаем всю важность данного акта и ценим усилия наших отцов и начальников, направленные на то, чтобы оставить нам мир более благополучный, праведный и покоящийся на постулатах католической религии, а потому от лица всех нас великий художник Далмау Сала вызвался, поднявшись на эту эстраду, произнести благодарственную речь.
Далмау не слышал, с упоением разглядывая прямой носик Ирене; ну, может, немного вздернутый, совсем чуть-чуть, только чтобы смягчить строгость средиземноморских черт, характерных для женщин латинской расы. Он только собрался перейти к созерцанию губ, как они раздвинулись в чудесной улыбке.
– Вот хорошо-то! – воскликнула девушка. – И ты молчал!
Далмау улыбнулся в ответ и пожал плечами:
– О чем ты?
И умолк, оглушенный аплодисментами окружающих, которые расступились, оставив его в центре. Его поздравляли, а он не понимал с чем. Молодой человек спрыгнул с подмостков и смешался с толпой, его место заняла одна из дам в черном, подошедшая к самому краю.
– Далмау Сала! – позвала она оттуда. – Поднимайся, сынок, поднимайся, – подбадривала она, махая рукой. – Мы ждем.
– Зачем? – с запинкой спросил Далмау.
– Ты вызвался сказать речь от лица нас всех, – ответил уже подскочивший к нему Амадео.
– Хорошая тактика, чтобы завоевать всю эту публику, – шепнул Хосе. – Мои поздравления, – добавил он, подталкивая Далмау к подмосткам, словно выставляя его напоказ.
Люди расступались, образуя проход, ведущий прямо к даме в черном, которая по-прежнему протягивала к нему руку. Далмау на несколько мгновений остолбенел, и Хосе пришлось снова слегка его подтолкнуть. Собравшиеся подбадривали его, женщина в черном призывала; он обернулся взглянуть на Ирене, та улыбнулась ему. Хосе, дама в черном, улыбка Ирене – все и вся влекли его к подмосткам, хотя он уже ощущал предательскую дрожь в ногах. Он не мог говорить на публике.
– Многие из нас, – начала дама в черном. – Многие из нас… – повторила, добиваясь тишины, – побывали на прославленной выставке рисунков trinxeraires в Обществе художников Святого Луки. Одна из нас даже приобрела рисунок. – Она обернулась к другой даме, которая стояла позади, вместе с другими дамами в черном, отступившими и смешавшимися с музыкантами; та кивнула. – Он оказал нам честь своим присутствием здесь, своей помощью и поддержкой в борьбе с богохульством. Вы, знаменитые артисты, за которыми люди следуют, которым подражают, должны подавать обществу пример богобоязненной и умеренной речи. Вам предоставляется слово! – заключила она, отступила на пару шагов и присоединилась к своим.
«Вам предоставляется слово!» Далмау никакого слова не просил! Он никогда не умел говорить на публике. У него вспотели руки и спина. Он стоял один как перст, за ним строй музыкантов и дам в черном, перед ним сотни людей в ожидании не сводят с него глаз. Внутри у него все перевернулось. Он прочистил горло, только чтобы выиграть время, поскольку знал, что не сможет выдавить из себя ни слова. Он видел, как сверкают медали военных и драгоценности дам, различал безупречные сутаны священников и шелковые платья женщин; поймал взгляд зеленых глаз Ирене, устремленных на него. Ему стало стыдно, он увидел себя смешным во фраке из вторых рук, слишком, как он это только сейчас понял, широком в плечах и тесном в талии. Все, должно быть, это заметили.
– Давай начинай! – послышалось в публике.
– Решайся! – крикнул кто-то еще.
Он не мог. Пытался опять прочистить горло. Закашлялся. Даже горло и то дрожало.
– Молчит, – протянул кто-то с насмешкой.
Паника охватила Далмау, пальцы скрючились, прижатые к животу. Смех звенел в ушах, голова кружилась от выпитого. Так он стоял, не в силах пошевелиться, и пот струился у него по вискам.
– Скажи что-нибудь, парень, – сочувственно обратился к нему старик, стоявший у самых подмостков.
– Просто скажи «спасибо», – посоветовал кто-то другой.
– Молчит, – повторил зубоскал.
Смех усилился.
Не прошло и минуты. Целая вечность. Надо что-то делать! Но тело не повиновалось. В зал он тоже не мог смотреть: там была Ирене.
– Язык проглотил, – заметил кто-то.
– И в позу встал, как натурщик.
Взрывы хохота.
– Большое спасибо, – выдавил Далмау дрожащим голосом.
Похоже, его услышал только старик да тот, кто подал совет. Остальные разбрелись по залу, соединились в группы и кружки, принялись болтать. Вновь появились официанты с подносами, уставленными бокалами с шампанским.
– Музыку! – потребовал кто-то из зала.
– Этот пусть идет малевать! – раздался еще крик.
Далмау выпил слишком много шампанского, и теперь оно волнами подкатывало к горлу. Пару раз едкий прилив достигал рта. В первый раз это совпало с насмешками молодых шалопаев, во второй случилось, когда та, в черном, деликатно взяла его за плечи, чтобы увести. Ощутив прикосновение, Далмау обернулся, и его вывернуло на платье и туфли дамы. Посыпались комментарии, раздались возгласы отвращения. Пока двое официантов салфетками счищали рвоту с шелкового, отделанного кружевом платья, третий вывел Далмау через полуподвал и служебную дверь. Он безропотно покорился.
7
Эмма и торговец курами ехали в поезде на Сарриа, по ветке, которая отходила от площади Каталонии и заканчивалась в маленьком городке, еще не вошедшем в состав Барселоны. Железнодорожные пути пересекали улицу Бальмес, деля ее надвое, что не было редкостью в городе, по которому курсировали трамваи и поезда. Однако, в отличие от трамваев, большинство которых ходило на электрической тяге, и лишь немногие до сих пор тащили лошади или мулы, по линии Сарриа двигались настоящие поезда с тяжелыми локомотивами, и те грохотали, свистели, испускали клубы пара и густого черного дыма, прилипавшего к зданиям и людям, и все это раздражающе регулярно, с интервалом в пятнадцать-двадцать минут, к полному отчаянию окрестных жителей.
Именно о большом локомотиве и думала Эмма, пока поезд отъезжал от улицы Бальмес. Много лет назад, когда построили станцию Барселонета на первой во всей Испании железной дороге между графской столицей и Матаро, местные женщины передавали из уст в уста легенду о том, что машинисты воруют детей, чтобы их жиром смазывать локомотивы. С ностальгией, стиснувшей нутро, Эмма вспомнила, как отец подшучивал над ней, девчонкой, и пугал ее этой сказочкой. По правде говоря, машинист такого огромного локомотива, подумала Эмма, должен был бы красть детей целыми партиями, чтобы как следует смазывать машину, и улыбнулась, вспомнив указательный палец, направленный на железное чудище, пока она в страхе пряталась между отцовских коленей.
– Вспомнила что-то смешное? – поинтересовался Матиас, нарушая прихотливый ход ее мысли.
– Нет, – задумавшись на секунду, ответила Эмма. Незачем посвящать торговца курами в ее воспоминания.
Уже несколько дней Эмма замечала, что беззубый старикашка все смелее приступает к ней; выполняет, правда, свое обещание и не распускает руки, но пожирает ее своими мутными глазками, вот и сейчас он вперился в ее лицо, вроде бы сомневаясь в искренности ответа, а потом скользнул взглядом к воротнику пальто и еще ниже, туда, где, по его расчетам, находилась ложбинка между грудями. Стояла зима, декабрь, было холодно, очень холодно, особенно в разбитом, низшего пошиба вагоне, где гуляли сквозняки, словно напоминая людям, что они едут третьим классом. Выпрямившись на неудобной деревянной скамье, Эмма поставила корзинку с двумя живыми гусями и прикрыла грудь. Старик оставил нечистые помыслы и уставился в окно. Эмма взглянула, как там гуси: ради них они и сели в поезд до Бонановы, станции, куда не дошла еще городская застройка, между Барселоной и Сарриа; кое-где виднелись роскошные, величественные особняки, окруженные обширными и ухоженными садами. Здесь, в Бонанове, у торговца курами была постоянная, выгодная клиентка, она покупала гусей, и за каждого можно было спросить до девяти песет, а это куда больше, чем стоили куры, цыплята, утки или куропатки.
Эмма знала, что рано или поздно торговец курами шлепнет ее куда не надо, обнимет за талию под смехотворным предлогом или заденет грудь, воспользовавшись близостью, которой не избежать, когда весь день ходишь рядом.
– Я ему знатную оплеуху закачу! Так и сделаю, честное слово, – убежденно говорила она Доре месяца три назад, когда только начала работать с Матиасом. – Последние зубы повыбиваю, – припечатала под конец.
– Он просто старый похабник, – отмахнулась соседка по кровати.
– Ты хочешь, чтобы меня лапал этот… этот сатир?
Дора ничего подобного не хотела, и, верная своей теории, что каждой женщине нужен мужчина, чтобы ее защищать, стала усердно знакомить Эмму с друзьями своего жениха, который работал продавцом в шляпном магазине и был таким безответным и рассеянным, к тому же еще и тощим, что Эмма сомневалась в его способности защитить хотя бы самого себя, не говоря уже о женщине. Правда, своими опасениями не стала делиться с Дорой, которая была в полном восторге от кавалера и не переставала ему выказывать нежные чувства.
Эмма покорилась воле новой подруги. Она прекратила общаться со знакомыми из квартала Сан-Антони, даже с Росой, и с товарищами из круга Монсеррат, вместе с которыми когда-то призывала народ к забастовке и ходила на манифестации. Иногда сталкивалась с кем-нибудь и всегда в конце концов задумывалась, искренне ли они говорили или держали в уме рисунки, изображающие ее наготу, и все, что люди напридумывали, исходя из этого. Стало быть, она послушалась Дору, а та познакомила ее с кузеном Хуана Мануэля, так звали ее жениха; кузен тоже работал в шляпном магазине и был еще более тощим; потом с парой друзей, один из которых был безработным, и его пришлось угощать вином и потрохами в какой-то таверне… Серенькие, пошлые люди, которых Эмма отвергала с ходу, не давая им ни малейшего шанса.
– Ты все еще влюблена в Далмау, – заявила Дора несколько дней тому назад, когда они уже лежали в постели, словно упрекая Эмму за то, что она в тот же самый вечер отшила очередного претендента, водителя трамвая; он был гораздо старше ее и говорил только о маршруте, который проделывал каждый день, причем хвастался так, будто перевозить с места на место кучку жалких пассажиров – все равно что пересекать океан, управляя парусным судном.
Эмма задумалась над словами подруги. Прошел уже почти год с тех пор, как погибла Монсеррат, а они с Далмау так нелепо расстались. Ясно, что забыть Далмау она не могла и невольно сравнивала с ним всех мужчин, с которыми ее знакомила Дора. Далмау, он… он был гением. Все остальные – серые людишки. Тысячу раз она мечтала о будущем рядом с Далмау: он на вершине славы, им восхищаются, ему завидуют. Она рядом, делит с ним его успех; все так, как Далмау ей обещал много раз. Что могла Дора предложить ей взамен: почти лысого водителя трамвая?
– Этот твой гений вышвырнул тебя, как старую шлюху! – вызверилась Дора и повернулась спиной, уязвленная признаниями подруги.
– Ты права, – удрученно согласилась Эмма.
И решила принять кандидата, следующего за отвергнутым водителем трамвая. Ей пришлось пообещать это Доре, поскольку та отказалась и дальше устраивать свидания. «Ради чего? – посетовала девушка. – Мы с Хуаном Мануэлем стараемся из приязни к тебе, а ты капризничаешь, как царица Савская, и это для нас обидно».
Его звали Антонио, и он был каменщик. Эмма прикинула, что ему двадцать два – двадцать три года. Довольно приятной наружности, хотела она уверить себя, чтобы не впасть в предубеждение. Нет, все-таки пришлось признать правду. Твердые, правильные черты портил приплюснутый нос, видимо сломанный в драке или при падении; густые брови срастались на переносице, курчавые черные волосы падали на лоб. Не так уж он и безобразен, утешала себя Эмма. Зато уж точно большой и сильный. Еще какой. Дольше, чем позволяли приличия, Эмма разглядывала его руки: могучие, с грубыми толстыми пальцами, шершавые даже на вид, такими руками можно ухватиться за самый толстый канат и тянуть его, а можно, наверное, и ударить… Никакой культуры, он ведь каменщик, может, даже неграмотный, они почти все такие, но Эмма невольно удивилась, когда Антонио, немного освоившись, с жаром заговорил о том, что знал: о рабочей борьбе.
Идеи у него были грубые и простые. Он всего лишь повторял слова Лерруса, одного из лидеров радикальных республиканцев. «Попов мочить в сортире!» «Нам должны платить больше, наши заработки курам на смех». «Дети не должны работать. Знаешь, сколько я видел детишек, покалеченных на производстве?» «И нам полагается отдыхать по воскресеньям». «И насчет рабочего дня: что скажешь о рабочем дне?» Они гуляли по Параллели, где развлекался простой народ, сидели на террасе кафетерия, откуда мигом исчезли Дора с женихом, поскольку малодушный продавец шляп не выносил революционных речей. Зато Эмма как завороженная слушала слова Антонио; эти лозунги когда-то были для нее привычны, составляли часть повседневной жизни; за эти иллюзии ее подруга лишилась чести в тюрьме, а на улицах – жизни. Она сама лишилась… Резко взмахнув рукой, так что спутник ее удивился, она выкинула Далмау из своих мыслей и сосредоточилась на голосе каменщика: хриплый, страстный, он звучал укором, ведь после гибели названой сестры Эмма оставила борьбу угнетенных бедняков против богобоязненных богатеев. Голос этот воодушевлял, а ей так долго этого недоставало; казалось, будто рядом с таким мужчиной жизнь снова призывает ее к славным свершениям.
Торговец курами взял ее под локоть: пора было вставать, выходить из поезда, и это вернуло Эмму к реальности. Она стукнула старика по руке корзиной, пробежала по вагону и выпрыгнула на голый перрон станции Бонанова. Пошла вслед за Матиасом по немощеным улицам, за которыми простирались поля. Им на пути попадались фермы, монастыри, коллежи и большие господские дома, а между ними – обработанные участки или пустоши; зимнее солнце поднималось из-за горизонта, и туман, окутывавший их, понемногу развеивался. Многие из домов, рассказывал торговец курами, в это время года пустуют, это летние резиденции тех барселонских богачей, которые еще не привыкли проводить лето на побережье или в местах, более отдаленных от большого города.
То были настоящие дворцы, рядом с которыми Эмма себя почувствовала совсем маленькой. Челядь клиентки, которой Матиас вез гусей, не пустила торговцев даже на кухню, их приняли в дверях черного хода. Там им заплатили восемнадцать песет и отправили восвояси. Эмма отстала, не в силах отвести глаз от дома: колонны, портики, огромные окна, мраморные плиты, башня, с которой, наверное, можно увидеть весь город и даже море. Она делит постель со своей подругой Дорой, которая стрижет шкурки кроликов и помолвлена с ничем не примечательным продавцом шляп; вот все, что у Эммы есть в жизни: половина кровати в съемной комнатенке, темной и такой крохотной, что негде повернуться. А богачи Барселоны закрывают на зиму роскошные дворцы, дожидаясь, пока летняя жара заставит искать прохлады на более возвышенной и открытой местности.
Эмма не слышала, как Матиас торопил ее, забежав на несколько шагов вперед и в изумлении остановившись. Старик промерз насквозь, притопывал, пытаясь согреться, и что-то кричал. Эмма не вникала в слова, которые вылетали у него изо рта вместе с облачками пара. Многие из этих особняков, несомненно, принадлежат дельцам-промышленникам Барселоны, тем самым, что яростно противятся борьбе их работников за свои права.
Об этом ей рассказывал Антонио. Экономический кризис ударил по массе рабочих. Во всем мире повысились цены на хлопок, и это пошатнуло текстильную промышленность Каталонии, ведущую отрасль ее экономики. Механизация на фабриках отнимала у людей рабочие места. Мужчин увольняли и нанимали женщин за половинную плату. После провала злополучной всеобщей забастовки начала 1902-го, во время которой погибла Монсеррат, рабочие продолжили борьбу, но уже не слушая анархистов, потерпевших крах, а вверившись другим политическим и общественным движениям, и в том числе леррусизму.
– Ну, я пошел, а ты оставайся! – кричал старик ей в спину.
Недостаток рабочих мест, а главное, нужда позволяли хозяевам проявлять непреклонность. Многие вынужденно становились штрейкбрехерами и занимали рабочие места товарищей, с борьбой которых они были солидарны. Их семьи умирали с голоду!
– Несправедливо, несправедливо, несправедливо, – твердила Эмма, не в силах остановиться.
– Повторять не буду! – надрывался старик.
Тем не менее, рассказывал Антонио, повышая хриплый голос, акции на Барселонской бирже росли, и финансисты, считая город процветающим, были заинтересованы в инвестициях.
– Останешься здесь!
Девушка вздохнула, сжала кулаки и плюнула в сторону дворца.
– Сукины дети, – пробормотала она сквозь зубы, разворачиваясь, чтобы догнать Матиаса, который шел уже по дороге, ведущей к станции, – когда-нибудь вы дорого за это заплатите.
Антонио и Эмма пришли в один из сорока с лишним республиканских центров, рассеянных по всей Барселоне, маленькую таверну, владелец которой предоставил ее в распоряжение партии: в зале теснились мужчины и женщины, с нетерпением ожидая, когда один из республиканских активистов начнет речь; тем временем хозяин таверны и его домашние подавали кофе, вино и пиво в гораздо больших количествах, чем в любой другой вечер этого декабря 1902 года: надо заметить, что он даром уступал партии свое заведение, но за еду и напитки взимал плату с удручающей пунктуальностью.
Эмма, притиснутая к Антонио – оба стояли, поскольку немногие стулья были заняты задолго до их прихода, – ждала, держа в руке стакан красного вина, терпкого, забористого, как мужчины, ее окружавшие: они громогласно беседовали, криками приветствовали друг друга, оглушительно хохотали. Близились выборы в городской совет Барселоны; большинство рабочих поддерживало радикалов, возглавляемых Леррусом, и люди верили в успех республиканцев.
– Мы пойдем голосовать с бюллетенем в одной руке и пистолетом в другой, – предупреждали республиканцы, нужно было не допустить махинаций с голосами, к которым с незапамятных времен прибегали власти.
Вдруг зал взорвался аплодисментами, и молодой человек, один из соратников Лерруса, вскарабкался на шаткую трибуну, кое-как сколоченную из четырех досок в углу заведения, и, воздев руки к потолку, попросил тишины. Эмма буквально вдыхала напряжение: простой народ на глазах превращался в реальную, мощную политическую силу. Анархисты, снова вступившие на путь терроризма, взрывающие бомбами все без разбора, утратили любое влияние на рабочие массы после провала всеобщей забастовки, а Социалистическая рабочая партия, которую основали люди огромной культуры, глядевшие свысока на рабочих, по большей части неграмотных, не смогла уловить момент перелома, когда рабочий класс начал осознавать свою силу.
Боевой дух, возмущение несправедливостью, классовая солидарность, все, что сумела сплотить вокруг себя Республиканская партия, кипело в Эмме, пока не прорвалось наружу: она чуть не впала в экстаз, когда оратор яростно обрушился на стоивший жизни ее отцу судебный процесс в Монжуике, требуя привлечь виновных к ответственности, а жертвам возместить ущерб. Слезы заструились по ее щекам, когда прозвучали имена истязателей.
– Лейтенант жандармерии Нарсисо Портас! – выкрикнул молодой республиканец с подмостков. – Участвовал в пытках!
«Да, то был он». Эмма задрожала. Нарсисо Портас!.. Этот человек истязал ее отца и других анархистов, арестованных после покушения во время праздника Тела Христова возле церкви Санта-Мария дель Мар. В застенках применяли плети, раскаленное железо, обручи, сжимавшие голову… Вырывали ногти, скручивали тестикулы. Сломленные люди признавались в преступлениях, которых не совершали. То был он, да: Нарсисо Портас. Ее отец и отец Далмау, оба изувеченные, открыли это Хосефе, когда им разрешили повидаться после оглашения смертного приговора, замененного потом на изгнание, которого ни тот ни другой не смогли пережить. Эмме тогда было двенадцать лет. Вид отца ужаснул ее, и она вместе с Монсеррат приникла к Хосефе. Отец, видя, как девочка перепугалась, даже не попытался приблизиться; гримаса, заменившая улыбку, – вот все, что осталось в памяти от той последней встречи.
– Ублюдок! – выкрикнула Эмма, присоединяясь к хору возмущенных голосов.
Оратор теперь нападал на Церковь, на дельцов, на буржуев. Собравшиеся потрясали кулаками, изрыгали проклятия. «Бороться, бороться, бороться!» – такой лозунг бросил в толпу молодой республиканец. Он попросил пожертвований на строительство Народного дома, затеянное Леррусом. Люди стали раскошеливаться. Кликнул добровольцев, готовых работать ради общего дела, и все как один, мужчины и женщины, подняли руки.
Молодой республиканец, донельзя довольный, разулыбался.
– Вы можете руку опустить, – проговорил он снисходительно, обращаясь к женщине, стоявшей к нему всех ближе. – Заботьтесь о своих мужьях.
В ответ послышались смешки. Эмма огляделась: большинство мужчин улыбались или кивали. Антонио стер улыбку с лица, когда увидел, что девушка на него смотрит.
– Что ты сказал, сосунок? – произнесла какая-то женщина, уже в возрасте. – Думаешь, мы хуже мужчин?
– Нет-нет… – отнекивался активист, пытаясь оправдаться. – У вас своя задача первостепенной важности: семья. Вы должны внушить детям республиканские идеалы; в рабочей борьбе необходимым подспорьем является единство семьи. Помощь заключенным, солидарность с бастующими, поддержка нуждающихся тоже в ваших руках, и…
– И отсосать кому-то из вас, когда приспичит, а? – перебила какая-то молодуха, погрозив ему кулаком.
– Нет… – пытался выступающий перекрыть брань и насмешки, какими принялись осыпать друг друга мужчины и женщины. Наконец ему это удалось. – Я хочу сказать…
– Вы когда-нибудь стояли в живой цепи перед конной жандармерией, вооруженной до зубов? – В таверне установилась тишина, и Эмма смолкла, дожидаясь ответа. Активист растерялся. – Я стояла! – крикнула она во всю силу голоса. Люди расступились те, кто впереди – чтобы рассмотреть говорившую, другие – чтобы ее было видно всем. – Я стояла! – повторила Эмма перед коридором, который открылся между ней и подмостками, где стоял выступающий. – С детских лет. Они были ближе ко мне, чем вы сейчас: кони ржали, покрытые пеной, жандармы грозили оружием, уничтожали нас взглядами, пока мы их осыпали бранью. Частенько приходилось бежать от них со всех ног. Вот ее я видела там много раз. – Эмма поискала глазами женщину, которая возмутилась первой, но не нашла. – И ее, и ее, и ее. – Она указывала без разбору на женщин, находившихся в зале, уверенная, что большинство из них участвовали в подобных стычках. – А вас, – указала она пальцем на молодого человека, – я никогда не видела среди тех женщин, которые боролись вместо мужчин, чтобы тех не избивали жандармы или солдаты во время забастовки. – Пронесся громкий ропот одобрения, и Эмма подождала, пока он стихнет. – Моя… – Тут она осеклась. От бесчисленных воспоминаний и ощущений все сжалось внутри, судорога стиснула горло. – Моя сестра погибла во время всеобщей забастовки. Ее застрелили солдаты, когда она сражалась на баррикаде! И вы говорите, что наша задача – воспитывать детей и помогать заключенным?
Под конец она сорвала горло, последний вопрос прозвучал хрипло. Многие женщины плакали, некоторые из мужчин с трудом сдерживали слезы; Антонио рядом с ней вытирал глаза. Молодой человек, их всех призывавший к борьбе, воспользовался моментом и зааплодировал Эмме.
– Всем женщинам-республиканкам! – крикнул он, спускаясь с подмостков и направляясь к ней.
Собравшиеся присоединились к аплодисментам, громкими возгласами приветствуя матерей, сестер, жен или подруг. Много поднялось стаканов, много прозвучало здравиц. В этой суматохе оратор в сопровождении двух телохранителей приблизился к Эмме.
– Меня зовут Хоакин Тручеро, и я поздравляю тебя. – Он протянул Эмме руку, и та пожала ее. – Прекрасная речь. Партии нужны такие женщины, как ты. Пойдешь со мной?
Не дожидаясь ответа, активист и телохранители повели Эмму сквозь толпу, которая ее провожала аплодисментами. Антонио двинулся следом. Они вошли в комнатку, скорее всего кладовку, и когда собирались уже закрыть за собой дверь, Антонио ее придержал.
– Ты оставайся, – нахмурился Хоакин. – Мне нужно поговорить с товарищем наедине.
Каменщик, немного оробев от такого тона, послушался и отступил. Но Эмма не робела.
– Он со мной, – заявила она, сама открыла дверь и впустила Антонио.
Молодой республиканский активист не стал возражать и предложил Эмме присесть на ящик. Сам сел на другой. Телохранители и Антонио остались стоять.
– Сегодня ты преподала нам урок, – начал он, слегка прочистив горло и невольно разглядывая ноги Эммы, скрещенные под юбкой, которая под взглядом молодого человека каким-то непостижимым образом укоротилась. – Нам нужны такие женщины, как ты, способные вселять боевой дух… пробуждать пыл в сердцах, вдохновлять на защиту рабочего дела.
Хоакин со всей страстью пустился произносить вторую речь, на этот раз для единственной слушательницы, которую с явным удовольствием оценивал взглядом, улыбался ей, касался время от времени, будто желая подкрепить высказываемую мысль. Эмма искоса взглядывала на Антонио, который слушал, нахмурившись так, что густые брови сошлись на переносице. Каменщик стоял рядом с двумя телохранителями, такими же высокими и сильными. Молодой республиканский активист был ненамного старше ее. Был он дерзким и, подумала Эмма, судя по всему, бессовестным. Велеречивый, с улыбкой настолько заразительной, что Эмма невольно улыбалась в ответ. Обольститель, он знал, что хорош собой, и вел себя соответственно. Надел поношенный, потертый пиджак, чтобы не выделяться из рабочих, которые его слушали, но ботинки его выдавали: хотя и грязные, они были гораздо дороже тех, что мог себе позволить любой рабочий. Он их нарочно запачкал, решила Эмма, одергивая юбку, чтобы хоть на несколько сантиметров прикрыть ноги, так привлекавшие оратора.
Хоакин Тручеро закончил речь и на прощание пригласил Эмму в новый штаб Республиканского Братства, который Леррус разместил на Эшампле, рядом с университетом, и тут она осознала, что почти не вслушивалась в слова импульсивного активиста, больше думая о том, как выглядит она сама, как выглядит он, как Антонио реагирует на постоянные прикосновения республиканца то к ее руке, то к плечу, то к локтю. Однажды он позволил себе коснуться даже ее волос. Эмма пыталась припомнить, что он говорил тогда: вроде советовал их остричь, чтобы быть на кого-то там похожей… Мать твою, еще не хватало, чтобы какой-то юнец ей указывал, что делать с волосами! И все-таки, когда его пальцы скользнули по шее…
– Эмма, мы идем?
Эмму как будто пробудил хриплый, мощный голос Антонио. Откуда такой тон? Поняла откуда, увидев побагровевшее лицо каменщика и обнаружив, что сама стоит, погрузившись в размышления о стрижке волос и держа за руку Хоакина Тручеро.
– Идем… – пробормотала она и резко выдернула руку. – Идем… конечно идем.
– Так я увижу тебя в Братстве?
– Где-где?
Хоакин, изумленный, вскинул голову.
– В Братстве. Мы ведь договорились, разве нет?
– А… да-да, конечно.
Эмма вышла в зал, еще полный республиканцев, которые выпивали и спорили, иные весьма горячо. Пара направилась к выходу, Антонио придержал перед Эммой дверь. Почему тот молодой краснобай привел меня в такое смятение, думала она, вместе с Антонио проскальзывая на улицу.
Отношения между Эммой и Антонио расстроились с того дня, как она познакомилась с Хоакином Тручеро. Вечером после собрания они гуляли по Параллели, как делали уже пару месяцев, и каменщик был хмурым, задумчивым, погруженным в себя. Эмма старалась понять почему. Возможно, молодой республиканский активист, пока проповедовал, прикоснулся к ней столько раз, сколько Антонио не удалось за все время их встреч. Он, должно быть, ревновал или, во всяком случае, был расстроен, угнетен, сравнивая себя, застенчивого и неуклюжего, с напористым, галантным соперником. Девушка решила не обращать внимания. Это у него пройдет. И ведь они еще не обручились, что бы там ни думала Дора, которая полагала, будто после трех встреч подряд отношения уже настолько крепкие, что пару можно считать женихом и невестой.
Однако все стало серьезнее, когда Эмма пришла в здание Республиканского Братства. Хоакин показывал ей здание с гордостью человека, причастного к его устройству, и, в отличие от других мест собраний республиканцев, какими они располагали в городе, тесных, состоящих из одной темной и душной комнаты или имеющих иное назначение, как таверна, где они познакомились, это пространство было огромным. Братство насчитывало более полутора тысяч членов, и в резиденции было все: бар и зал собраний, потребительский кооператив, школа, юридическая консультация, медицинский и хирургический кабинеты и другие службы, облегчавшие жизнь партийцам.
– А сейчас мы строим Народный дом, – похвастался молодой человек. – Еще больше этого!
Они шли целой процессией: Хоакин, на этот раз хорошо одетый и вычистивший свои дорогие ботинки, Эмма, другие молодые люди, погруженные в политику, – Леррус окружал себя юными радикалами, для которых был идолом и которые действовали в тени великого человека, – а позади всех тащился Антонио. Эмму снова смутило внимание Хоакина, хотя на этот раз он старался, чтобы Антонио ничего не замечал. Но это было невозможно, ибо все остальные увлеченно следили за ухаживаниями, как будто Эмма уже принадлежала молодому лидеру. Партийцы решили, что первым поручением для нее будет давать уроки чтения и письма работницам, которые приходили в центр, и предложили ей это, когда показывали аудиторию.
У Эммы невольно закружилась голова при виде пустых парт; она потрогала желобок для карандашей, полистала буквари, простые, для начального обучения, по каким и сама занималась в детстве. Она не видела себя в роли учительницы, но и не могла отрицать, что предложение для нее лестно.
– Ты сказала мне, что умеешь читать и писать, – напомнил Хоакин.
«Я это сказала?» – всполошилась Эмма.
– Да, умею, – призналась она, – но стать учительницей…
– Твое место здесь.
– Мое место на улице. Стоять в живой цепи перед жандармами. Я никогда никого ничему не учила.
– Улица от тебя никуда не убежит, – заверил Хоакин, – и ты выступишь во главе работниц, которых просветишь. Важно не только научить их грамоте, но и склонить к нашему делу. К борьбе против Церкви…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?