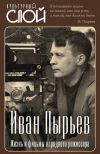Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Город был переписан наново, как декрет, и все ненужное вычеркнуто.
Вера Инбер. «Место под солнцем»
На город смотрят сбоку, будут – сверху.
Велимир Хлебников. «Кол из будущего»
Таким образом, возвращение к размышлениям Марена позволяет задать исходные параметры разговора об утопическом взгляде. Этот взгляд – результат рецепции классической утопии. Понятийный аппарат семиотики, при всей его герметичности, окажется незаменимым, если мы попытаемся выяснить, как все‐таки совершается окончательное превращение текста в пространство – как визуализируется читательский по своему происхождению опыт, как он переносится на восприятие невымышленного города.
Последователи Марена, пытавшиеся применить его теорию к urban studies, связывали утопию преимущественно с проблематикой картографирования, панорамирования и проектирования, с возможностью удержать в поле зрения город как некий единый проект. Так, Мишель де Серто обнаруживает, что утопический взгляд задается специфическим городским ракурсом – панорамным обзором «с высоты птичьего полета»: это взгляд стороннего наблюдателя и верховного божества, всеведущий и игнорирующий детали, не замечающий реальные городские практики. Такой тотализирующий ракурс, в котором город предстает как «спланированный и читаемый», как «ясный текст», де Серто противопоставляет опыту «обычных пользователей города», пешеходов и фланеров, своими телами пишущих иную, частную, фрагментированную, множественную городскую историю (Серто, 2013 [1980]: 185–188).
Мне хотелось бы оттолкнуться от теоретической модели города-текста (не слишком популярной в сегодняшних utopian studies[3]3
См., например, попытку противопоставить этой модели уже упоминавшуюся выше концепцию «утопических импульсов»: Fitting, 2007.
[Закрыть]), но попробовать поговорить об этом в менее метафоричном ключе. Итак, можно ли в принципе обнаружить следы утопической рецепции в советском городском пространстве? Я не ставлю сейчас задачи проследить скрытое влияние принятых способов изображения утопии – ее иллюстративных канонов – на те или иные советские визуальные практики и урбанистические проекты[4]4
О визуальных репрезентациях утопии см.: Gervereau, 2000. На этот глубокий, хотя и довольно эссеистичный обзор я буду неоднократно ссылаться в дальнейшем. Пока для меня важно разграничить логику репрезентации (когда в центр рассмотрения помещаются ресурсы, позволяющие воспроизвести утопию, сделать ее видимой) и рецепции (когда проблематизируется сам процесс ви́дения, конструирования утопического взгляда). Лоран Жерверо формулирует свои задачи исходя из первой логики, но в ходе размышлений смешивает ее со второй – и это, возможно, главный недостаток его анализа.
[Закрыть]. Для начала речь пойдет о случае, когда факт утопической рецепции был эксплицирован прямо, – о проекте «монументальной пропаганды».
Со слов Анатолия Луначарского известно, что Ленина вдохновили стены кампанелловского Города Солнца – своего рода образцовый гибрид города и книги: «Все достойное изучения представлено там в изумительных изображениях и снабжено пояснительными надписями» (Кампанелла, 1947 [1623]: 34). Согласно воспоминаниям Луначарского, Ленин произносит по этому поводу следующий монолог:
Давно уже передо мной носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу <…> Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой. Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю главным образом о скульпторах и поэтах. В разных видных местах на подходящих стенах или на каких‐нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма, также, может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или другому великому историческому событию. <…> Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно <…> О вечности или хотя бы длительности я пока не думаю. Пусть все это будет временно. Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы (Луначарский, 1968 [1925]: 198).
Известно также, что в процессе реализации этот план довольно активно критиковался, да и сам Ленин не был удовлетворен результатом, многие замыслы остались невоплощенными, а воплощенные действительно по преимуществу оказались недолговечными – но, несмотря на все это, проект монументальной пропаганды имел существенное значение для формирования урбанистического стиля, который позднее будет назван «большим». Для нашей темы здесь в первую очередь важно, что была задана особая оптика, особый взгляд на город.
«Ленин хотел, чтобы во все еще неграмотном обществе появились города, которые говорят», – замечает один из исследователей «советской утопии» (Stites, 1989: 89). Метафора говорящего города мне представляется очень точной. Голос пропаганды тут не локализован, он как бы растворен в пространстве, камни из стен не возопиют, но будут произносить «коренные принципы и лозунги марксизма».
Разумеется, основная задача, для которой предназначалась монументальная пропаганда, была изобретена гораздо раньше и активно решалась во времена Французской революции. Это задача присвоения пространства, прежде всего через стирание и переписывание прошлого (хрестоматийный пример – затертые царские имена на Романовской стеле, поверх которых наносился список героев новой истории; в их числе, кстати говоря, Томас Мор и другие классики-утописты). Подробно об этой функции надписей в советской урбанистической культуре пишет Владимир Паперный (Паперный, 1996: 234–235).
Однако есть и другой, хотя и менее выраженный эффект – стирание самого городского пространства: оно оттесняется текстом на второй план, становится фоном, сценой для «крепко сколоченных формул», для разворачивания гигантского учебника (новой) жизни. Директивность этих формул не направлена на организацию городских маршрутов (как в случае названий улиц, вывесок, указателей, информационных табло (Серто, 2013 [1980]: 202–204)), не является порождением городских практик (как в случае рекламы или афиш) – она вообще как бы «не замечает» город, никак не привязана к нему, скорее напротив – привязывает город к себе (например, используя горожан для торжественного перемещения транспарантов и плакатов на праздничном шествии).
В скульптурной части проекта монументальной пропаганды тоже доминирует вербальность: невыразительные (часто неказистые) бюсты и памятники из гипса и бетона (ср. литературное описание Веры Инбер: «То время вообще было богато памятниками <…> Во всех городах страны появились тогда самые разные сооружения, то непомерно большие, то, наоборот, непонятно мелкие. Иногда это было голова Маркса на высоте, и даже не голова, а одна только едва оформившаяся мысль. Иногда невнятное скопление смутных фигур, стоящее почти на земле и обнесенное деревяной оградой» (Инбер, 1928: 20)) требовали нарративного сопровождения и по замыслу предполагали разнообразные формы разъяснительной работы – митинги на открытии, экскурсии etc.
Торжество визуальности, характерное для второй половины 30-х годов (об этом, напр.: Орлова, 2006: 188–203), и, в числе прочего, бравурное возвращение мрамора, гранита и позолоты в каком‐то смысле лишь усиливает семиотизацию городской среды – архитектура этих лет часто оценивается урбанистами как «нарративная».
Общий контекст здесь, конечно, задается заработавшей в полную мощь машиной «социалистического реализма», которая неоднократно рассматривалась исследователями как своего рода референциальная инверсия: в то время как на декларативном уровне соцреалистическим произведениям предписывалась задача отражения жизни, они почти незаметно для реципиентов начинали играть роль «подлинной» (нормативной) реальности, гораздо более реальной, чем повседневный опыт. Собственно, как раз такого рода эффект Мангейм называл идеологией, однако в посвященных соцреализму исследованиях часто используется еще и интересующая нас метафора утопии (Добренко, 2007), для Мангейма несовместимая с позицией власти. Так или иначе, центральное место в соцреалистическом проекте принадлежало литературе, именно она диктовала модели и образцы восприятия, в том числе и городского пространства, превращая его в «спланированный и читаемый текст»[5]5
Подчеркну: в данной книге соцреализм упоминается мной не как «художественное течение», не как обширный корпус конкретных и достаточно разнообразных произведений, а как набор предписаний и правил, который задавался авторитетными инстанциями и формировал определенные рецептивные каноны, определенные модели чтения и зрительского взгляда.
[Закрыть].
Паперный цитирует редакционную статью из журнала «Архитектура СССР» за 1936 год:
Формалистический подход к архитектурной работе ведет к тому, что, несмотря на множество пускаемых в ход архитектурных мотивов, украшений, деталей и т. п., образ здания не поддается ясному прочтению, оказывается запутанным, зашифрованным, непонятным —
и заключает, что под формализмом в ней понимается «такая форма, сквозь которую неясно проступает вербальное содержание» (Паперный, 1996: 226). Но важно подчеркнуть также, что «нарративизация» в данном случае подразумевает утверждение единства содержания и формы, означающего и означаемого, то есть устранение механизмов интерпретации как таковых, – сообщение должно считываться «напрямую», безо всяких «шифров», все «непонятное» объявляется информационным шумом и подлежит устранению. Ср. замечание Ханса Гюнтера о соцреалистической литературе:
В результате дискуссии о языке 1932–1934 гг. было установлено, что язык литературы должен быть ясным, простым и понятным. В то время как в предшествующий период означающие текста стремились к яркой, самоценной окраске, соцреализм требовал от них нейтральности и прозрачности, чтобы гарантировать неискаженный взгляд на великую эпоху (Гюнтер, 2000).
На практике такая табуированность интерпретационных процедур приводила к возникновению сложной герменевтической культуры или, точнее, к характерному герменевтическому неврозу – к стремлению предугадать и обезвредить все возможные интерпретации, к бесконечному перетолковыванию, уточнению, переописанию любого слова, произнесенного с позиции нормы[6]6
Как показал Алексей Юрчак, своего апогея эта гипертрофированная герменевтика достигает уже после смерти Сталина – единственного полномочного интерпретатора (Yurchak, 2006: 10–11).
[Закрыть]. «Утверждение часто значит то же, что и обратное утверждение», – замечает Паперный, пытаясь описать те специфичные способы коммуникации, которые появляются в 30-е годы: слова утрачивают устойчивые и определенные значения, начинают отсылать к тому, что смутно ощущается, но остается «принципиально невыговариваемым» («попытки выговорить это невыговариваемое приводят <…> к отторжению или даже к гибели выговаривающего»), и в конечном счете приобретают «незнаковый характер» (Паперный, 1996: 232).
Интересно посмотреть, что при этом происходит с «выразительными надписями», входившими в пропагандистские замыслы Ленина. Они становятся неотъемлемой частью советского города, однако перестают выполнять какие бы то ни было информационные функции, – по наблюдению Паперного, «врастают в гранит и мрамор»:
Это, как правило, тексты, хорошо известные каждому жителю страны, – таковы, например, знаменитые «шесть условий» Сталина в проекте Завода им. Сталина братьев Весниных (1934), статья из конституции на станции метро «Измайловская» (ныне – «Измайловский парк»), строчки из гимна на станции метро «Курская» <…> Вместо временных лозунгов появляются «вечные слова», которые все больше срастаются с архитектурой (Там же: 235–236).
Парадоксальным образом «содержанием» здесь является скорее архитектурный материал, поверхность, на которую наносятся слова (в терминологии Паперного – «материальный носитель информации» (Там же: 235)), тогда как сами слова все чаще оказываются «формой», все больше орнаментализуются.
Пожалуй, кульминацией и своего рода пределом пропагандистского симбиоза пространства и текста становится ритуал, принятый на ежегодных авиационных парадах, – над Тушинским аэродромом появляется составленное из нескольких десятков самолетов имя Сталина. Принцип единства содержания и формы воплощается тут в такой полноте, что сложно отличить одно от другого («Слово „Сталин“ могло составляться в небе только из „сталинских соколов“» (Там же)); эти начертанные на небе письмена не случайны, не окказиональны, их символическое значение настолько велико, что они присваиваются небу «навечно» – небо тоже включается в состав городских поверхностей, в трехмерной монументальной книге не остается чистых, неисписанных страниц, ни одного свободного «носителя».

Ил. 2. Владимир Соколаев. «Цветы, птенец и зрители. Площадь Ленина в Первомай. Новокузнецк». 1983
Фотографии последних советских десятилетий фиксируют этап, когда текст «отрывается от архитектуры» (Там же: 236), а означающее – от означаемого. Монументальная пропаганда плывет над городом на световых табло или прикрывает обветшавшие фасады. Мы видим в разнообразных ракурсах надпись «СССР» на проспекте Калинина («Эти фантастические огневые надписи, непонятно кем и для кого зажженные, как бы чудом появившиеся на стенах домов, заставляют вспомнить о перстах, писавших на стене дворца царя Валтасара: „МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН“» (Там же: 233[7]7
Цитируя Паперного, я намеренно игнорирую ключевое для него противопоставление «культуры 1» и «культуры 2» – эта все же очень схематичная концепция плохо работает на интересующем меня сейчас материале (и исследование самого Паперного это подтверждает).
[Закрыть])). Или – на снимке уже упоминавшегося мной фотографа Владимира Соколаева – напряженные, угрюмые лица на фоне надписи «МИР»: случайный осколок мира, задворки праздника, урна-птенец с распяленным ртом, заткнутым выброшенными цветами (ил. 2). На более известной фотографии из того же авторского цикла немолодая женщина несет на демонстрацию «СЧАСТЬЕ», как будто бы слегка ссутулившись под тяжестью этого креста; нам предъявлен момент разрыва между текстом и городским пространством (между «говорящей» пропагандой и глухой кирпичной стеной), момент смещения означающего: бесприютная табличка «счастье» попадает явно не в тот кадр, для которого была предназначена, теперь ее означаемое – безнадежная старость (ил. 3). Социальная фотография здесь неожиданно сближается с концептуальным искусством (см.: Groys, 2004), демонстрируя работу с идеологическими симулякрами в духе Эрика Булатова.

Ил. 3. Владимир Соколаев. «Женщина, спешащая на первомайскую демонстрацию. Улица Обнорского. Новокузнецк». 1983
Впрочем, на фотографиях позднего социализма различимы и другие следы ленинской зачарованности фресками Города Солнца. Плакаты с гигантскими лицами идеальных советских людей (ил. 4), или классиков марксизма, или самого Ленина, попадая в кадр, действительно кажутся фресками или театральным задником, превращающим город в сцену и лишающим его объема (замечу в скобках, что Луи Марен прослеживает театральную этимологию утопии, сравнивая утопическое замкнутое пространство со сценическим (Marin, 1990 [1973]: 61–84)). Все, что изображено на этих декорациях, – тоже уже своего рода иконические знаки с утраченными (или, по меньшей мере, размытыми) означаемыми. Канонический орнамент власти, на фоне которого люди выглядят маленькими. Усиливая контраст, фотографы нередко снимают в этом ракурсе группки детей – почти как у Кампанеллы – в сопровождении учительницы (ил. 5).

Ил. 4. Игорь Пальмин. «Москва. Площадь Свердлова». 1981

Ил. 5. Павел Маркин. «Дворцовая предпраздничная». 1986

Ил. 6. Владимир Лагранж. «Физики». 1967
Скромный и временный проект монументальной пропаганды (как он задумывался Лениным) словно бы вырастает позднее до монументальности «большого стиля»; монументальность – в полном соответствии с требованием единства содержания и формы – становится основным принципом репрезентации советского возвышенного и позволяет отчасти понять, как оно было устроено. В этом отношении характерен принятый в советской культуре взгляд на храмовую архитектуру как на намеренно подавляющую «маленького человека», заставляющую его почувствовать себя ничтожным. Но если допустить, что это чувство было взято из совсем другого опыта – из повседневного опыта самих носителей культуры, можно предположить также, что оно не исчерпывалось подавленностью и, конечно, включало в свой сложный состав и ликование, и экстаз, и благоговение. Гигантизм здесь был призван не только подавлять; он обладал притягательностью – одну из возможных причин этой притягательности я бы определила, переиначив известный термин Анри Лефевра, как символическое «перепроизводство пространства».
Директивная текстуальность уравновешивалась в советской традиции риторикой «открытых просторов» (от широты родной страны до бескрайности космоса) – созданием символических мест для всех, кому «некуда жить». Высотные здания, масштабные панно и плакаты поддерживают иллюзию растущего как на дрожжах пространства, явно перерастающего рамки «наличного мира» и предоставляющего таким образом ресурс для всевозможных проективных конструкций («светлое будущее», «грандиозные цели» etc.). Именно через такое «перепроизводство пространства» на фотографиях 60-х годов вводится временнáя перспектива, преисполненная оптимизма. Так, на снимке Владимира Лагранжа «Физики» увлеченный диалог ученых разворачивается на фоне панно с изображенными в полный рост великанскими фигурами Ивана Курчатова, Ивана Павлова, Энрико Ферми – это пространство «большой науки» провоцирует желание продолжить рекурсию и увидеть современников фотографа взглядом из будущего (разумеется, светлого) (ил. 6). На фотографии Воздвиженского и Свиридовой «У монумента» собственно монумент превращается в дорогу, устремленную в небо, по которой предстоит взбираться грядущим поколениям (ил. 7)[8]8
Любопытно, что эта, вне сомнения, «нарративная» фотография имеет литературный прототип – ср. описание «памятника первым людям, вышедшим на просторы космоса» в утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»: «Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа – рыбообразной ракетой, нацелившей заостренный нос в еще недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга, с неимоверными усилиями карабкалась вверх» (Ефремов, 1958 [1957]: 69).
[Закрыть].
Монументальная несоразмерность «человеческим масштабам», безусловно, активизирует утопическую оптику. Можно вообразить, что «перепроизводство пространства» – следствие смысловой герметичности утопии, ее стремления прервать цепь смыслообразования, замкнуть означающее на означаемом, заменить символическое функциональным: замкнутый на самом себе «буквальный смысл» разбухает до таких исполинских размеров, что начинает казаться символом. По большому счету утопический гигантизм только имитирует отсылку к трансцендентным значениям – в его основе принцип тавтологии и самовоспроизводства, возвышенное понимается здесь как гипертрофированное: гипертрофированные человеческие тела и лица, запечатленные на мозаичных панно или отлитые в бронзе, – увеличительные зеркала, в которых отражается сама утопия.

Ил. 7. Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова. «У монумента». Сер. 1970-х

Ил. 8. Игорь Гаврилов. «Сбылось». 1990
Отраженное, автореферентное и окончательно утратившее реальность пространство монументальной пропаганды попадает в кадр Игоря Гаврилова, сделанный в самом конце «перестройки» (ил. 8). В онлайн-интерью журналу «Русский репортер» фотограф сопровождает этот снимок следующим комментарием:
3Это 90-й год, задание журнала «Тайм» снять оформление города перед 7 ноября. Это последнее 7 ноября, когда прошла демонстрация коммунистическая. Вот это 6 ноября 1990 года снято. И кадр был напечатан в «Тайме», и потом он вошел в лучшие фотографии года в Америке – здоровая книга, она у меня есть. А назавтра уже ничего не стало. Все, последняя демонстрация, последний парад. Абзац[9]9
http://www.rusrep.ru/article/2013/03/24/gavrilov/.
[Закрыть].
Город в сновидении – нечто отчужденное, то, что душа на время или навсегда покинула и за чем наблюдает со стороны; отчужденное от спящего сознания тело, мир без души.
Сонник
Механизм монументальной пропаганды был приведен в действие работой читательского воображения, утопической рецепцией – этот факт не означает, что ленинский проект следует считать «осуществленной утопией», но позволяет лучше понять происхождение представлений о «советском утопизме». На разных этапах реализации (в том числе и тогда, когда утопическое находилось, по сути, под официальным запретом) этот проект, бесспорно, создавал условия для утопического взгляда: город начинал восприниматься как «носитель информации», как пространство, в котором разворачивается «спланированный и читаемый текст» – авторитетный, но не имеющий автора, транслирующийся от лица некоей универсальной нормы, каталогизирующий социальную реальность и подчиняющий ее регулятивному и ритуальному проговариванию. Утопический образец такого заговаривающего городскую жизнь текста можно обнаружить, конечно, не только в Городе Солнца, но и, например, в уже упоминавшейся мной Икарии, жителей которой постоянно сопровождают плакаты с инструкциями – от рецептов блюд до распорядка дня. Дидактика мемориальной пропаганды, не привязанная к повседневным городским маршрутам, становится фундаментом, на котором позднее выстраиваются различные элементы советского понимания урбанистической функциональности – и стенды наглядной агитации, посвященные тем или иным бытовым вопросам, и унифицированные информационные табло, и вывески, редуцированные до простейшего номинативного сообщения (в этом смысле плакат «Слава КПСС!» и, скажем, вывеска «Столовая» в равной мере производят впечатление семантической стройности и семантического аскетизма, беспримесного языка классификации и нормы – разумеется, если смотреть на них сегодняшним взглядом, успевшим привыкнуть к аляповатому многообразию рекламных месседжей, к разноречивому потоку городских информационных шумов). Итак, текст постепенно «врастает» в советское городское пространство и «отрывается», «отслаивается» от него впоследствии, на закате социализма – за этими визуальными метафорами стоит характерный для утопии интерпретативный сбой, когда декларативное стремление к тотальной ясности оборачивается утратой смысла, а сверхинтенсивная семиотизация повседневности начинает выглядеть как орнаментальная практика.
Дальше мне хотелось бы привлечь внимание к другой утопической рецепции, которая остается за пределами тотального взгляда, описанного де Серто. В исследованиях пространства наиболее влиятельная линия размышлений о возможности подобного «другого взгляда» связана с концепцией «гетеротопии», предложенной Мишелем Фуко. «Гетеротопия» – обретшая место утопия – определяется им как промежуточное пространство между приватной и публичной сферами, которое обладает специфическим потенциалом маргинальности, ненормальности, здесь сосредоточен некий заряд сомнения по отношению к конвенциональным нормам, переворачивания привычных порядков (см.: Бедаш, 2010). Эта концепция, впрочем, признается специалистами слишком бегло изложенной, слишком противоречивой и туманной, а попытки ей следовать нередко оборачиваются апологией ускользающих «странных пространств» (Харламов, 2010).
Однако далеко не всякое странное, пограничное, экзотическое пространство мы готовы будем воспринять как утопию. Здесь вновь понадобится теоретическая помощь Луи Марена: он полагает, что утопия – не только необычное, но прежде всего «нейтральное» пространство. Идея нейтральности утопического, возможно, наиболее важна для самого Марена и наиболее загадочна для его читателей. Он пытается объяснить ее то через метафору нейтрализации (утопия нейтрализует противоположности, застывая на «нулевом градусе» диалектического синтеза и обнаруживая позицию, не приближенную ни к одной из полярных категорий, – кантовский «средний термин» (Marin, 1990 [1973]: xiii)), то через метафору нейтральной территории:
Нейтральность – это порог, граница, устанавливающая предел внутреннему и внешнему, территория, где выход и вход меняются местами и фиксируются в этом изменении; это имя всех границ, заданных через мышление о границе: контрадикция как таковая (Ibid.: xix).
Интуитивно понятно, что классическая утопия не допускает не только семиотической, но также (и это, конечно, связанные вещи) эмоциональной чрезмерности (не случайно один из постоянных мотивов в научной фантастике, в том числе советской, – безэмоциональность людей будущего). Репрезентируя беспредельное счастье, утопический текст вряд ли способен вызвать у своих реципиентов бурный, непосредственный восторг, чаще всего он вызывает скуку (Ruppert, 1986: 11), однако Марен улавливает еще и чувство утраты, сопутствующее восприятию утопического. Он связывает загадочную нейтральность с не менее загадочной концепцией утраченной памяти – утопическое реализуется через забвение, через вытесненную неудачу, через репрессированное знание о том, что «вечное счастье» достижимо лишь ценой смерти времени (в конечном счете – просто ценой смерти) (Marin, 1990 [1973]: ххvi). Более того, само забвение предается забвению, коль скоро классическая утопия манифестируется как пространство монолитной ясности, в принципе исключающее возможность неполноты памяти.
Впоследствии метафора амнезии оказывается чрезвычайно важна для utopian studies. С ней активно работает Джеймисон, прежде всего развивая тезис о том, что утопия забывает о собственной невозможности, что всякие попытки вообразить идеальный мир основываются на неразличении неизбежных препятствий, неизбежных пределов воображения. Но в нескольких местах Джеймисон вскользь упоминает и о другом забвении или, точнее, о страхе забвения, который возникает при столкновении с утопическим. «Благое место» предполагает отказ от опыта негативности, но удастся ли отграничить негативный опыт от собственного «я», выделить его в общем потоке памяти? Утопия, согласно Джеймисону, внушает тревожные подозрения, что в ее дистиллированном воздухе весь наличный опыт будет стерт, а идентичность – полностью утрачена, что мы «не найдем себя» в идеальном мире (Jameson, 2005: 97, Джеймисон, 2011 [2004]).
Строго говоря, Марен и Джеймисон описывают один и тот же страх – страх несуществования, и, кажется, он имеет отношение к бессубъектности утопического, о которой шла речь выше и еще будет идти в следующих главах. Мы никогда не можем окончательно найти, персонализировать голос, которым говорит утопическое. В классической утопии мы почти не слышим его напрямую – только через посредников (у Мора система посреднических инстанций устроена особенно сложно, включая в себя и путешественника Рафаила Гитлодея, и, собственно, эксплицитного автора). Мы колеблемся в оценках, пытаясь понять, что перед нами – игра персонального воображения или язык «объективной нормы», универсальных законов и представлений об общем благе. Нам предложено воспринимать утопический социальный порядок как желательный (наилучший из возможных, по утверждению Гитлодея), однако утопия не оставляет места вопросу, чье желание тут предъявлено. Чтобы присоединиться к утопии, необходимо принять это желание за свое собственное (и здесь, конечно, можно обнаружить ставящийся под сомнение постмарксистскими исследователями, в том числе, с определенными оговорками, и Джеймисоном, тоталитарный потенциал утопического – если считать проявлением тоталитарности не просто насильственное требование исполнять властную волю, но в первую очередь требование признавать эту волю своей). В этом смысле утопия – в самом деле выморочное, промежуточное пространство между «внутренним» и «внешним», одинаково закрытое и для субъектности, и для интерсубъективности.
Сновидческий опыт, с которым иногда сравнивают утопию, сопряжен с аналогичным замешательством – с невозможностью точно установить, «внутренними» или «внешними» обстоятельствами этот опыт задан, чьим голосом говорило с нами сновидение, и было ли оно в принципе «посланием», нарративом, и подлежит ли пространство сновидения реконструкции средствами памяти, и, главное, – оставался ли сновидец собой внутри сна, оставался ли он вообще.
Такого рода «странное пространство» – возможно, сновидческое, возможно, утопическое – мы видим на фотографии Игоря Пальмина (ил. 9): контрастное освещение, длинные тени и похожие на тени силуэты людей, расходящиеся в центробежном движении, тревожащий взгляд девочки, устремленный в камеру, и общее ощущение пустотности, незавершенности воспоминания – как будто был восстановлен лишь общий контур картины, а частные детали оказались забыты.

Ил. 9. Игорь Пальмин. «Закаменск, Бурятия». 1980
«Пустотность» – еще одно важное для Марена слово, позволяющее ему описывать устройство утопического текста и утопического пространства и помогающее нам чуть ближе подойти к ответу на вопрос об устройстве утопического взгляда. Конечно, такой взгляд в значительной мере настроен на различение «пустых» территорий – он фиксирует отсутствие тесноты, захламленности, любой визуальной избыточности (а избыточным, как мы помним, здесь будет считаться «нефункциональное» или, что в данном случае то же самое, «непонятное», то есть не поддающееся семиотическому контролю). Марена, безусловно, завораживает образ утопии как белого пятна, незаполненного пролома в плотной конструкции социальной реальности, таинственной бреши забвения, однако присутствие пустотных пространств в утопическом визуальном каноне можно описать и как своего рода семиотическую анемию, связанную с той блокировкой каналов смыслообразования и смыслопередачи, о которой уже говорилось, – с вытеснением семиотических шумов.

Ил. 10. Игорь Пальмин. «Здание на Яузском бульваре». 1989–1990
Эту анемию и амнезию (то есть в любом случае ограниченность смысловых ресурсов) классическая утопия компенсирует за счет механизма повтора: Марен замечает, что регулярность, цикличность, создание и воспроизводство копий – ключевое свойство утопического текста и утопической образности. Когда Рафаил Гитлодей отказывается описывать все пятьдесят четыре города идеального острова и ограничивается только одним, мотивируя это тем, что остальные точно такие же («Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга» (Мор, 1953 [1516]: 112)), он, конечно, экономит ресурсы – не только повествовательные, но и ресурсы воображения, и речь сейчас идет, разумеется, не о литературных способностях Томаса Мора, а о специфике задачи вообразить утопию. Различные формы визуализации принципа повтора – унификация, симметрия, метрический порядок в архитектуре, ритмичная игра света и тени etc., – особенно в сочетании с «пустотой» пространства, могут с высокой долей вероятности спровоцировать восприятие этого пространства как утопического. Подобным образом можно посмотреть, например, на еще одну фотографию Пальмина – своего рода этюд на архитектурную тему, подчеркивающий «классичность» большого сталинского стиля и безлюдность, безжизненность города, словно от человеческой цивилизации здесь остались лишь воинственные каменные изваяния и пустые телефонные будки (ил. 10).
Перспективу увлечься утопией Джеймисон сравнивает с увлеченностью конструктором Lego; то, что принято называть «утопическим воображением», действительно больше всего похоже на сборку маленькой модели мира из однотипных деталей (или складывание слова «вечность» из кубиков льда). Наше восприятие утопического текста не предполагает, скажем, сопереживания и идентификации с персонажами. Здесь невозможен литературный герой – «характер» или «действующее лицо», – поскольку (или наоборот – «и поэтому») невозможен сюжет; собственно говоря, появление сюжета превращает утопию в антиутопию. Обитатели классических утопий вместе образуют своего рода коллективного персонажа (Marin, 1990 [1973]: 56; Джеймисон, 2011 [2004]), что‐то вроде хора в античном театре (Marin, 1990 [1973]: 68–69) – принцип повтора, производства копий реализуется и на этом уровне. Антиутопическая традиция интерпретирует такого коллективного персонажа через конструкции «обезличивания», «деперсонализации», «дегуманизации», через метафоры маски и униформы, через образы управляемой толпы – но, возможно, политическая тревога тут скрывает более глубокий утопический страх забвения себя, несуществования, смерти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?