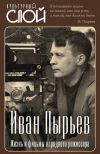Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В <…> молитвах всякий признает бога творцом, правителем и, кроме того, подателем всех прочих благ; воздает ему благодарность за столько полученных благодеяний, а особенно за то, что попал в такое государство, которое является самым счастливым, получил в удел такую религию, которая, как он надеется, есть самая истинная. Если же молящийся заблуждается в этом отношении или если существует что‐нибудь лучшее данного государственного строя и религии и бог одобряет это более, то он просит, чтобы по благости божией ему позволено было познать это; он готов следовать, в каком бы направлении бог ни повел его. Если же этот вид государства есть наилучший и избранная им религия – самая приличная, то да пошлет ему бог силу держаться того и другого и да приведет он всех остальных смертных к тем же правилам жизни, к тому же представлению о боге. Правда, может быть, неисповедимая воля находит удовольствие в подобном разнообразии религий (Там же: 215).
В таком нагромождении условных конструкций, в сменяющих друг друга «если» отражено устройство всей главки в целом. Нам неизвестно, получают ли утопийцы ответ на свои вопрошания (мы знаем только, что «после произнесения этой молитвы они снова падают ниц на землю и, встав через короткое время, идут обедать, а остаток дня проводят в играх и в занятиях военными науками» (Там же)). Мы можем лишь гадать, – не было ли таким ответом, собственно, прибытие на остров путешественников-христиан; и если тут действительно имело место «тайное внушение божие», то останется ли Утопия утопией, когда (и если) на острове действительно распространится христианство? Здесь выбрана сложная, лабиринтообразная повествовательная стратегия, благодаря которой удается ничего не утверждать и почти ничего не отрицать. Вместе с тем очевидно, что учреждение законов утопического общества было связано не столько с пониманием и воплощением Божественной воли, сколько с непониманием и признанием ограниченности собственного взгляда; не столько с обретением истины через Божественное откровение (как, например, у Бэкона), сколько с нейтрализацией сомнений; не столько с рациональным поиском истины (как у Платона), сколько с рациональным поиском нейтральной территории, срединного решения, позволяющего избежать неисправимых ошибок.
Иными словами, Мор, кажется, не позволяет себе обманываться относительно того места, где находится или, точнее, не находится утопия. В этом смысле ложными оказываются параллели не только с Платоном, но и, в первую очередь, с образами Эдема, Небесного Иерусалима, Царствия Божьего – Мор провоцирует читателей на такого рода аналогии (сегодня неотделимые от утопической рецепции (см., напр.: Weinkauf, 1969)), однако строит конструкцию наилучшего острова на специфической инверсии; чтобы ее описать, нам понадобится категория трансцендирования, которую Мангейм прочно привил дискурсу об утопии. Место Утопии прямо противоположно месту Царствия Божьего, которое признается трансцендентным постольку, поскольку оно «не от мира сего», и при этом, безусловно, существующим, более того, и являющимся подлинной, абсолютной реальностью. Напротив, расположение Утопии определяется при помощи совершенно земных, географических координат (хотя эксплицитному автору и не удается расслышать их – якобы из‐за внезапного приступа кашля), а трансцендентна она постольку, поскольку демонстративно противопоставлена любой реальности, объявлена несуществующей (в формулировке Дарко Сувина утопия – «несуществующая страна на карте этого земного шара, „иной мир от мира сего“» (Suvin, 1979: 42)).
Этот логический выверт может переживаться как опыт разрыва между «реальным» и «должным», между «реальным» и «возможным», наконец, как опыт принципиальной нереализуемости желания. Если представление о рае связывает категории должного, возможного и желаемого с модусом абсолютной реальности, то утопия, будучи, согласно названию, несуществующим и благим местом одновременно (Марен исходит из того, что через двойственную этимологию слова «утопия» воспроизводится идея о несуществовании абсолютного блага (Marin, 1990 [1973]: xx)), эту связь проблематизирует и обрывает.
2
Мой добрый принц, в чем причина вашего расстройства?
Вы же сами заграждаете дверь своей свободе.
Уильям Шекспир. «Гамлет». Перевод М. Лозинского
Здесь мы приблизились к теме субъектности (которую Ямпольский считает опорной для своего описания новоевропейской репрезентации); Стивен Гринблатт формулирует эту тему в терминах идентичности, самоконструирования, «формирования „я“» – и такая логика размышлений, как я постараюсь показать дальше, может вывести нас к еще одной версии метафоры «полого пространства», сделавшего возможной утопию.
В своем известном (и хрестоматийном для «нового историзма») исследовании «От Мора до Шекспира: формирование „я“ в эпоху Ренессанса» Гринблатт подчеркивает, что оборотной стороной идеи самоконструирования (означающей на первый взгляд обретение индивидуальной автономии, свободы распоряжаться собой) становится представление о том, что идентичность выстраивается не только «изнутри», но и «извне» – посредством социальных связей и культурных институтов. Такое культурное измерение «я» всегда оказывается подозрительным, вызывает стремление контролировать процесс производства идентичностей и создает ощущение зависимости («Человеческий субъект начинает казаться подчеркнуто несвободным, идеологическим продуктом властных отношений в партикулярном обществе» (Greenblatt, 1980: 256)). Иными словами, речь в данном случае идет прежде всего о диссоциации, распаде цельного переживания самости, возникновении зазоров между различными образами «я» (и в этом смысле разрыву между «знаком» и «референтом» будет соответствовать наметившийся опыт несовпадения между самостью и социальной ролью, между присвоенной и предъявляемой идентичностью, между «истинным» и «фальшивым» «я» etc.).
С этой точки зрения для Гринблатта важно, что его герои – гуманисты начала ХVI века – склонны воспринимать политическую и социальную жизнь через призму метафор театра и безумия. Томаса Мора, как полагает Гринблатт, преследует ощущение, что окружающая социальная реальность бессмысленна, абсурдна, иллюзорна, а устройство коллективных ритуалов и коммуникативных практик принципиально не предполагает различения истины и фикции. Возникающее временами впечатление, что тут описывается что‐то вроде «эпистемологической неуверенности» (как она представлялась теоретикам постмодернизма) и что мы имеем дело скорее с обобщенным портретом интеллектуала конца XX века, провоцируется характерным для Гринблатта вниманием к субъективности самого исследователя, специфической оптикой, в рамках которой исследование становится своего рода отражением исследователя, его терапевтическим зеркалом.
Вместе с тем реконструкция сложной, многоуровневой идентичности Мора, предпринятая Гринблаттом, завораживает своей убедительностью. Гринблатт видит Мора колеблющимся между вовлеченностью и отстраненностью – между деятельным и искусным участием в публичной жизни и тоской по приватности, автономности, одиночеству, между стремлением к упорядочению мира и отчуждением, между склонностью к саморефлексии и потребностью в самоотстранении. Мор выстраивает дистанцию по отношению к собственному «я» (вплоть до способности задаться вопросом «Что сказал бы об этом Мор?»), конструирует себя как импровизационный «проект», при этом следствием такого конструирования оказывается, по наблюдению Гринблатта, постоянное чувство существовавшей возможности других, «теневых» идентичностей, вытесненных актуальной ролью, нереализованных, «скорчившихся в темноте», – и сожаление об этих упущенных возможностях, приписывание именно им статуса «подлинного „я“» (подобным образом, например, Мор сожалеет о неосуществленном монашестве) (Ibid.: 31–33). Здесь принципиально нельзя достичь удовлетворения, подчеркивает Гринблатт, – даже если удается отождествиться с какой‐то из «теневых» идентичностей, она, становясь актуальной ролью, вытесняет в тень все прочие самости, которые будут казаться «подлинными». Более того, «за этими теневыми самостями остается еще одна тень, темнее: мечта о стирании идентичности как таковой, о конце импровизации, о бегстве из нарратива» (Ibid.: 32).
Опытом подобного бегства от себя или, точнее, его результатом Гринблатт считает «Утопию». «Утопия» (и Утопия) – место, из которого Мор успешно самоустраняется, в котором его нет. Гринблатт показывает это, применяя к «Золотой книжечке» процедуру историзирующего чтения. Внимание исследователя тут привлекает собственно устройство утопического общества, в котором коллективное явно доминирует над индивидуальным и из которого вместе с частной собственностью исключены любые проявления приватности и самости вообще, любая идея «внутренней жизни» – жизнь острова регулируется общественным мнением через систему «внешних» оценок, будь то «почет» или «позор». В этом усиленном зачеркивании идеи «внутренней жизни» Мор, согласно Гринблатту, пытается «остановить историю современности (modern history) до того, как она начнется, – точно так же, как он хочет стереть собственную идентичность» (Ibid.: 54).
Гринблатт понимает такую тотальную редукцию самости прежде всего как бихевиористский взгляд на общественный договор, вспоминая в этом контексте специфическую терпимость утопийцев к атеистам: тот, кто «считает, что души гибнут вместе с телом» (Мор, 1953 [1516]: 200), не признается в Утопии ни человеком, ни гражданином, однако и не подвергается наказанию, если не начинает отстаивать свои убеждения в публичных диспутах. «Утопийцы гораздо больше обеспокоены тем, что люди делают, чем тем, во что они верят, – заключает Гринблатт. – В Утопии то, что не манифестируется в публичном поведении, имеет очень небольшую претензию на существование и, следовательно, не интересует всерьез сообщество» (Greenblatt, 1980: 53). Впрочем, исследователь замечает, что в некоторых социальных установлениях утопийцы руководствуются явно иными критериями – так, преступники, наказанные рабством, могут быть впоследствии отпущены на свободу, если «обнаружат раскаяние, свидетельствующее, что преступление тяготит их больше наказания» (Мор, 1953: 174). Гринблатт видит здесь противоречие и интерпретирует его как параллельное и независимое сосуществование в «Золотой книжечке» разных, плохо совместимых «этосов» – например, задач Realpolitik (в исходном значении этого термина, охватывающем не только внешнюю, но и внутреннюю политику) и этики христианского гуманизма (Greenblatt, 1980: 56).
В этом ракурсе, конечно, игнорируется – не исключено, что намеренно, – более банальная и более простая трактовка (столь значимая для обоснования идеи о «тоталитарных» потенциях утопии): в «Утопии» манифестируется универсальная взаимосвязь нравственного блага и политической (социальной) целесообразности. Пересказанному чуть выше эпизоду о наказании и раскаянии преступников соответствует своего рода «зеркало» в первой части книги: упоминая о законах вымышленного народа полилеритов, Рафаил Гитлодей описывает, в сущности, то же установление, которому следуют утопийцы (преступники наказываются общественными работами), и резюмирует:
Люди <…> встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, какое они причинили раньше (Мор, 1953 [1516]: 71).
Необходимость стать хорошими – центральная точка в логических построениях повествователя «Золотой книжечки». В этой точке общественная польза должна пересечься с персональной выгодой и персональным «удовольствием», нравственные законы – с юридическими, вера в то, что «добродетели после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки – мучения» (Там же: 200), – с социальной системой поощрений и наказаний, религиозные убеждения в целом – с рациональными доводами, форма – с содержанием, «внешнее» – с «внутренним». «Эгоизм и альтруизм, индивидуализм и солидарность, частное и общественное идентичны», – пишет об Утопии Марен (Marin, 1990 [1973]: 170–171).
«То, во что люди верят» и то, о чем они думают, здесь, без сомнения, важно: хотя верования как таковые и не могут быть сочтены преступлением, они остаются не защищенными от общественного внимания и социальной оценки. Атеистам (чья опасность для наилучшего общества заключается именно в том, что они «не боятся ничего, кроме <человеческих> законов», и, следовательно, могут постараться их обойти) предписывается не только запрет проповедовать на публике, но и право (оно же, судя по всему, обязанность) не скрывать своих взглядов – утопийцы, как поясняет Гитлодей, «не допускают притворства и лжи, к которым <…> питают удивительную ненависть» (Мор, 1953 [1516]: 201). Это, безусловно, бихевиористская и даже «конструктивистская» логика, но не столько потому, что для нее отсутствуют не проявленные в публичном поведении практики, сколько потому, что внешние поведенческие модели призваны форматировать «внутренний мир», делая его «хорошим», – так, «присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или в благопристойном отдыхе», просто не оставляя «никакого случая для разврата» (Там же: 136). Еще точнее было бы сказать, что логика законов и обычаев наилучшего острова (или логика повествования о них – в данном случае это почти одно и то же) представляет собой своеобразную ленту Мёбиуса, в которой «внутренняя» оптика оказывается продолжением «внешней», а персональное желание – продолжением социальных предписаний.
Все это вполне очевидно – размышления о подобных свойствах утопического (и об их связи с механизмами политического насилия) хорошо известны по антиутопиям XX века; однако меня сейчас интересует иной контекст, тот, который был задан Гринблаттом, – проблематика идентичности.
Безусловно, в утопической ленте Мёбиуса не только отсутствуют границы приватности, но и трансформируются характеристики публичности – публичная жизнь интимизируется, утрачивает признаки ролевого взаимодействия, то есть перестает быть «притворной», «фиктивной», «театральной», «абсурдной» и начинает основываться исключительно на принципах честности, абсолютного доверия и рационального смысла. Как должна быть устроена идентичность, чтобы столь специфичная идеальная модель симбиоза приватного и публичного не казалась пугающей?
Если последовать за Гринблаттом, целенаправленно включившим в свой инструментарий исследователя ренессансной культуры такие понятия, как «формирование „я“», «идентичность», «публичное» и «приватное» (разумеется, не существовавшие в отчетливом виде для Мора и его современников), можно заметить, что речь здесь идет о таком типе идентичности, который сегодняшние психологи назвали бы нарциссическим. Я отдаю себе отчет в том, что ступаю на шаткую почву – под «психологизированием» (особенно если оно не опирается на лакановскую традицию) во многих междисциплинарных исследовательских сообществах сегодня понимается некий методологический сбой, недостаток: в самом деле, возникает подозрение, что язык психологии способен «загрязнить» социологически нейтральный подход оценочными категориями нормы и дисфункции или сделать проблематичными процедуры исторического суждения. Тем не менее я рискну прибегнуть к помощи этого языка. Собственно говоря, попытка применить к нашей теме понятие нарциссизма не окажется экзотичной – так, Фредерик Джеймисон использует в своих размышлениях об утопии фрейдовскую концепцию «нарциссического письма». Я, однако, буду иметь в виду другую, более позднюю интерпретацию этого понятия – когда оно напрямую связывается с проблематикой идентичности и во многом оказывается отправной точкой для построения «психологии самости» (Kohut, 1971).
Такой взгляд на нарциссизм («нарциссическое расстройство личности», «нарциссическую структуру личности»), вырабатывавшийся в рамках теории объектных отношений (Winnicott, 1965; Kohut, 1971; Kernberg, 1975; Blanck & Blanck, 1974, 1979), впоследствии становится достаточно универсальным и воспроизводится не только с позиции психоанализа в разных ее вариантах (см.: Miller, 1975; Schwartz-Salant, 1982; Bach, 1985; Morrison, 1989; Мак-Вильямс, 2001 [1994] и др.), но и, скажем, с позиции экзистенциальной психологии (Лэнгле, 2002). Ключевой для этого взгляда является идея «фальшивого „я“»: нарциссическая патология самовосприятия понимается прежде всего как отказ от реальных чувственных переживаний и потребностей – они отвергаются и игнорируются, представление о самости начинает связываться не с ними, а с абстрактным, идеальным образом, который складывается на основе ожиданий и требований значимых других (то, что в «Утопии» представлено как необходимость «стать хорошими»).
В результате особого, возможно, травматичного опыта формирование идентичности блокируется на том раннем этапе, когда образ «я» отражает представления близких взрослых, – в дальнейшем человек, приобретший нарциссическое расстройство, остается неспособным увидеть себя иначе, кроме как чужими глазами. Одним из проявлений такой блокировки становятся сложности с различением собственных психологических границ, с дифференциацией «внутреннего» и «внешнего», «субъектного» и «объектного», вплоть до состояния, которое основатель психологии самости Хайнц Кохут назвал «нарциссическим расширением» (Kohut, 1971), – значимые другие начинают восприниматься как продолжение или даже функциональная часть нарциссической личности. Оборотной стороной стремления к безграничному контакту (которое никогда не удается полностью реализовать) является стремление к бегству от любых контактов вообще – как отмечает экзистенциальный аналитик Альфрид Лэнгле в статье с выразительным названием «Грандиозное одиночество», «тема нарциссизма <…> находится в поле напряжения между интимным и общественным, между отграничением и открытостью, между Я и Ты, между разносторонней зависимостью человека от общества и стремлением от этой зависимости освободиться» (Лэнгле, 2002: 35–36).
Психотерапевт Стивен Джонсон пишет о «неизбежном трагическом решении», которое становится способом адаптироваться к нарциссическому опыту, – этот опыт вынуждает своего носителя «предпочесть власть удовольствию» (Джонсон, 2001 [1994]: 183). Удовольствия предупреждаются, вытесняются властью и контролем, необходимыми для поддержания «фальшивого „я“». Ср. витиеватый монолог Рафаила Гитлодея об удовольствиях, опирающийся на трактат Цицерона «О высшем благе и высшем зле»: осуждая и аскетизм, и излишества, утопийцы, как это им свойственно, находят третий путь – они ценят «духовные удовольствия», понимая под ними преимущественно «упражнения в добродетели и сознание беспорочной жизни», и предпочитают не нуждаться в удовольствиях физических, которые могли бы разрушить иллюзию абсолютного контроля и комфорта: «Эти удовольствия, как наименее чистые, – самые низменные из всех. Они никогда не возникают иначе, как в соединении с противоположными страданиями. Например, с удовольствием от еды связан голод» (Мор, 1953 [1516]: 159–160).
Позитивное самоощущение, как подчеркивает Джонсон, здесь будет выражаться в гипертрофированной гордости и эйфории от успехов, но, поскольку нарциссические успехи всегда связаны с внешним одобрением и не могут быть приняты и подтверждены внутренне, они переживаются скорее интеллектуально, чем кинестетически, «не насыщают», «никогда не удовлетворяют полностью» и постоянно подвергаются сомнению (Джонсон, 2001 [1994]: 183–184). Так возникает «нарциссическая поляризация»: восприятие себя и других скачкообразно смещается от полюса идеализации к полюсу обесценивания и обратно (как повествование об обществе утопийцев выстраивается на полярных оценках – либо «почет», либо «позор»); проблема оценки и собственной ценности приобретает навязчивый и неразрешимый характер. Лэнгле описывает эту проблематику следующим образом:
Нарциссизм связан именно с поиском Я, с вечным поиском того, на чем основано Я в своей ценности. Из-за этого безрезультатного кружения вокруг тематики Я поведение нарцисса всегда столь эгоистично. Вопросы «Кто Я?», «Есть ли во мне что‐нибудь, что представляет действительную ценность?» потому превращаются в страдание, что ответа на них не находится. Эта рана, зияющая в одной из фундаментальных экзистенциальных мотиваций, не дает покоя. Без весомого внутреннего обоснования успокоения не происходит – в нарциссизме человек не находит того места, где в нем говорит Я <…> И поэтому ему приходится напряженно и неустанно продолжать поиски всего того, что может иметь отношение к его Я. Так как внутри ничего не обнаруживается, он может найти себя только в том, что относится к внешней стороне его бытия (Лэнгле, 2002: 49).
Кажется, общим (и, по сути, центральным) местом всех описаний нарциссического самовосприятия является констатация ощущения «внутренней пустоты», «зияющей раны», «вакуума», «нарциссической дыры» – невозможности обретения и присвоения самости. В какой мере все эти метафоры пустоты соотносимы с размышлением о «полом пространстве», в котором возникает утопия? В какой мере концепция нарциссического расстройства применима к реалиям XVI века?
Исследователи нарциссизма часто признают его «современной» патологией (и даже характерной для современности, отражающей и выражающей современность), хотя в определении хронологических координат современности заметно расходятся – речь может идти о тенденциях последних десятилетий или о достижительной ориентации и индивидуализме «западной культуры» (Там же: 36–37). Можно предположить все же, что для возникновения нарциссической патологии необходимо существование в культуре той идеи конструирования, формирования идентичности, которую рассматривает Гринблатт. Он избегает психологической терминологии, но его замечания о Море – о вовлеченности в публичную жизнь и отстраненности, о неисчерпаемой тоске по подлинному «я», о подозрениях, что самым подлинным «я» является пустота, отсутствие самости, – вполне переводимы на язык психологии нарциссизма[14]14
Подчеркну: в мои намерения категорически не входит постановка диагнозов Мору или его последователям. Я далека от анахроничных попыток приписать автору «Утопии» ту или иную «структуру личности», опираясь на соответствующую классификацию (напр.: Мак-Вильямс, 2001 [1994]), и использую здесь модель нарциссического расстройства c иной целью – эта модель позволяет проявить проблематику нарушенной идентичности, на мой взгляд скрытую в утопии. Как я надеюсь показать дальше, нарциссическая тема отсутствия самости, «пустого „я“», невидимого для самого себя субъекта во многом задает режимы утопической рецепции и объясняет их близость к экзистенциальным вопросам.
[Закрыть]. Устраняя частную собственность, моровская Утопия декларативно опровергает и отвергает «суетные» символы престижа, «безумие» тщеславия, бессмысленность заносчивой гордости, «не приносящий никакой пользы почет» (в тех случаях, когда поводом для него становятся знатность и богатство) (Мор, 1953 [1516]: 153), однако делает это лишь затем, чтобы противопоставить несовершенным паттернам социального одобрения другие, идеальные, ложным ценностям – нереализуемую мечту об адекватной внешней оценке. Рассказывая об утопийцах, которые, презирая золото, используют его для производства ночных горшков и рабских цепей, книга Мора называет себя «Libellus vere aureus» – подлинно золотой.
То, что Гринблатт видит как редукцию самости, как предпринятое Мором бегство из нарратива и что с психологической точки зрения выглядело бы как «нарциссическая пустота» и «нарциссическое бегство», можно обнаружить не только собственно в устройстве утопического общества, но и в устройстве книги в целом, в выстраивании авторских стратегий – и эксплицированных, и имплицитных.
В этом ракурсе приобретает особый смысл затеянная в «Утопии» игра с маской эксплицитного автора, который уклоняется от субъектной позиции, делая вид, что имеет к тексту лишь опосредованное отношение, и в то же время хочет быть разоблаченным и, вероятно, вознагражденным.
«Я избавлен в этой работе от труда придумывания; <…> мне нисколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал <…> У меня не было причин и трудиться над красноречивым изложением, – речь рассказчика не могла быть изысканной, так как велась экспромтом, без приготовления <…> и чем больше моя передача подходила бы к его небрежной простоте, тем она должна была бы быть ближе к истине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь», – подчеркивает эксплицитный автор в письме Эгидию (Там же: 33). Специфическое алиби требуется Мору, чтобы избежать не только нефункциональной (а значит, «абсурдной», «бессмысленной») декоративности стиля, но и ловушек воображения.
Все это возвращает нас к теме визуальной редукции, которую исследовал Жерверо, или анемии воображения. Современное восприятие нередко ретроспективно приписывает утопии романтические и постромантические представления о воображении – нам часто хочется видеть утопию территорией безграничного творческого вдохновения, изобретательной фантазии и экзотичной образности. Как показывает Гринблатт (впрочем, уже не в контексте разговора об «Утопии»), для Мора понятие воображения имеет скорее негативные коннотации (и в этом смысле Мор тоже пытается «остановить историю современности») – «поклонение своему воображению» осуждается совершенно в платоновском духе как приверженность фикции, иллюзии, обману (Greenblatt, 1980: 112–114). Джеймисон, уделивший проблеме утопического воображения много внимания, замечает, что процедуры воображения реализуются в «Утопии» главным образом через отрицание, через фигуры отсутствия – Мор скорее исключает из модели наилучшего общества те или иные существующие социальные установления (от частной собственности и денег до института адвокатуры), чем пытается изобрести нечто принципиально новое; во всяком случае, первая интенция почти всегда предшествует второй (Jameson, 2005: 12, 72).
Джеймисона при этом интересует прежде всего невозможность вообразить утопию, непреодолимость пределов воображения, однако утопическое письмо часто как будто и не намеревается их преодолевать, останавливаясь перед ними и их демонстрируя. Описание атрибутов утопической повседневности нередко сводится к указаниям на то, что они «великолепны», «прекрасно устроены», «снабжены всем необходимым», «другой формы, чем те, которые имеются у нас», «своею приятностью превосходят употребительные у нас, их нельзя даже и сравнивать с нашими». Показательно, что подобная риторика аскетично-неловкого умолчания воспроизводится в последующих литературных утопиях и закрепляется как жанровая особенность. «Нет, мой друг, у меня не хватило бы слов, чтобы изобразить мое восхищение, да к тому же пришлось бы исписать не один том. Я привезу тебе все планы, а здесь ограничусь тем, что дам тебе общее представление о них», – рапортует из утопической Икарии персонаж Этьена Кабе (Кабе, 1948 [1840] (Т. 1): 168). Герберт Уэллс, один из самых проницательных утопических читателей, в своей «Современной Утопии» передает подобную анемию воображения при помощи следующего риторического оборота: «Чем поразит нас большой город Утопии? Чтобы ответить на этот вопрос как следует, надо быть или художником или инженером, а я ни то, ни другое» (Уэллс, 2010 [1905]: 211).
Утопическое письмо должно демонстрировать бессилие перед утопией. Но не только потому, что совершенство неописуемо и у несовершенного повествователя в этом случае всегда заведомо недостаточно изобразительных средств, но и потому, что письмо тут намеренно отключено от любых проявлений самости, оно обязано быть стертым, невыразительным, нейтральным. Ему противопоказано все, что могло бы быть воспринято как увлеченный авторский произвол, как производство текста, вышедшее из‐под строгого контроля. Витиеватые описания, смакующие случайные подробности быта, нефункциональная завороженность деталями, настройка дескриптивного аппарата на передачу чувственного, кинестетического опыта – все те принципы письма, которые могут быть соотнесены с бартовским «удовольствием от текста», абсолютно непредставимы в «Утопии» Мора и начинают использоваться для конструирования «воображаемых миров» существенно позднее. Классическая утопия неизменно вытесняет практики удовольствия, предпочитая им практики контроля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?