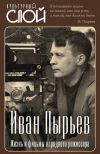Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Довольно, довольно! – в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. – Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь…
Валентин Катаев. «Цветик-семицветик»
Итак, утопический аффект (он может выражаться в разных формах, от горячечной ажитации до скорбного оцепенения, но в любом случае предполагаются очень сильные чувства) рождается в процессе попыток проникнуть в утопическое пространство, разместить внутри него инстанцию субъекта, с которым можно было бы идентифицироваться или, по меньшей мере, взаимодействовать. Сюжет такого взаимодействия неизбежно трагичен: утопия непосильна для реципиента (буквально невыносимо прекрасна), и она его «отвергает». Вместе с тем было бы сильным упрощением интерпретировать утопический аффект в терминах фрустрированного желания. «Мы нуждаемся в более достойном слове, чем „фрустрация“, чтобы выявить то измерение утопического желания, которое остается неудовлетворенным» (Jameson, 2005: 84), – пишет Фредерик Джеймисон, впрочем так и не предлагая замены. Так или иначе, недостижимость утопии (недостижимость совершенства, счастья, любого желания в принципе, поскольку, осуществившись, оно перестает быть желанием (см.: Ibid.: 83–84)) – это конструкт, позволяющий рационализировать утопический аффект, сместив акценты с самого желания. Что это за желание и как оно устроено?
В своем манифесте против «ереси утопизма» Семен Франк утверждает, что в самóм фундаменте утопического заложена «диалектическая ошибка» и именно потому утопия неосуществима. Строго говоря, речь при этом идет не об утопическом желании, а об утопической цели, которую Франк называет ложной; он настаивает на том, что целью утопии является не просто преобразование общества, но переустройство онтологического порядка вещей. Таким образом, в пределе субъект утопического восприятия инициирует путаницу и подмену: он присваивает себе роль творца нового – «осмысленного и праведного» – мира, а своему Творцу, отрицая догмат грехопадения, вменяет ответственность за «мировое зло и страдание» (Франк, 1994 [1946]: 131; примерно о той же еретической подмене: Molnar, 1967 и др.). Обличая утопию в 1946 году, Франк, конечно, думает о ней в контексте первых теорий тоталитаризма и имеет в виду прежде всего конструкцию «нового человека», опорную для тоталитарных режимов. Однако корни его обвинений глубже – они обнаруживаются в культурном недоверии к природе воображения и репрезентации.
Михаил Ямпольский на примере философских полемик конца XVIII века описывает этап кризиса «классической репрезентации», когда она осознается как своего рода ошибка и опасность – в ней видится претензия на место творца, безосновательная постольку, поскольку лишь Божественное творение может являться созиданием принципиально иного, производством различия и, следовательно, жизни; человек же не властен создавать то, что обретет самостоятельное существование, ему доступно лишь клонирование собственных подобий: «Мир репрезентации – это мир отчуждения и однообразного повторения, тождественности»; «Когда человек реализует мир своих фантазмов, воплощает их в псевдореальность, лишенную потенции, в мир проникает смерть. Мир репрезентативных симулякров отрывается от сознания как нечто пустое и мертвое» (Ямпольский, 2007: 28–30).
Литература (как культурный институт и коммуникативная практика) вырабатывает механизмы, позволяющие компенсировать такого рода недоверие, с одной стороны тщательно акцентируя собственную зависимость «от внешних связей и эмпирического материала» (Jameson, 2005: 39)[17]17
См. в предыдущей главе более развернутую отсылку к этому месту из «Археологии будущего» Джеймисона.
[Закрыть] (вплоть до идеи «отражения реальности»), с другой – отчетливо прочерчивая границы нарративной условности и авторской автономии. Напротив, утопия, оставаясь одновременно результатом воображения и недоверия воображению, как бы зависает в ситуации репрезентативного кризиса; утопическое восприятие культивирует стратегии, которые не только не позволяют этот кризис компенсировать, но, скорее, делают его более явным – будь то иллюзия автореферентности (закрытости от «реальной жизни») или отсутствие жестких барьеров между фикциональным текстом и его «реализацией» (тревожащая прореха, через которую, возможно, «в мир проникает смерть»).
Осуждающий взгляд, вероятнее всего, увидит в утопии «репрезентативный симулякр» и воплощение смерти – отчужденное, выхолощенное пространство, где перекрыты все жизненные артерии. В случае сочувственного отношения к утопическим практикам то же самое будет выглядеть как сильный импульс «остранения», импульс выхода за пределы видимого мира, заряженный (согласно Эрнсту Блоху) «принципом надежды» – предвкушением возможности стать тем, кем ты еще не являешься. В обоих случаях утопическое пространство представляется настолько отчужденным и отчуждающим, настолько невнимательным к несчастному уэллсовскому персонажу, который считает утопию воплощением своих «самых заветных желаний» (Уэллс, 1964б [1923]: 226), но не находит в ней места для самого себя, что тезис Франка об ошибке и подмене хочется применить не столько к утопической логике, сколько собственно к утопическому желанию. Франк (и, конечно, далеко не только он) обнаруживает в утопии логическую погрешность, искажение истины; но что, если здесь искажено прежде всего само желание – что, если оно оторвано от своего субъекта, не совпадает с ним и утопические цели являются «ложными» в том смысле, что они не соответствуют подлинным потребностям и мотивам? Что, если разнообразные когнитивные и жанровые противоречия, в которых так часто обвиняют утопию, только следствия этого базового несовпадения?
Декларативный альтруизм утопического желания подозрителен; можно предположить, что оно имеет двойное дно и под верхним слоем, под мечтой о коллективном счастье утаивается какое‐то другое, подлинное, более эгоистичное желание. Джеймисон прослеживает логику такого подозрения, завершая свой разбор «Пикника на обочине» братьев Стругацких; при этом он отталкивается от фрейдовского размышления о «частном» и «универсальном» желании:
Он [Фрейд. – И. К.] определяет частное желание как ненасытно эгоистическую фантазию, которая отталкивает нас не потому, что она эгоистична, а потому, что она не моя: формулировка, которая выявляет неприятный рой конкурирующих и несовместимых желаний, скрытых за социальным порядком и его культурной формой. Что же касается универсальности, она представляет собой не столько социальную возможность, сколько маскировку, которая делает возможной культурную форму – что‐то вроде нефигуративной системы орнамента и замысловатых декораций, симулирующих безличность и предлагающих абстракции, с которыми каждый может согласиться: более совершенное общество, «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный». В таком случае разве утопический порядок не должен прочитываться как макиавеллиевская структура целесообразной социальной организации, скрывающаяся за обманчивой универсальностью различных утопических режимов? И можем ли мы в действительности проникнуть в глубинный секрет утопического, когда оно таким образом распадается на частный фантазм, с одной стороны, и фантазм практической политики, с другой? (Jameson, 2005: 76).
Подобный поворот мысли предполагает в числе прочего некоторую манипулятивность утопии: при помощи обманчивого орнамента «универсальных ценностей» она маскирует то, с чем ее читатели не смогли бы идентифицироваться и что не смогли бы назвать своим, – частные, персональные желания и макиавеллиевский фантазм целесообразной политики. Такой образ утопии, по сути, не близок прежде всего самому Джеймисону. Автор «Археологии будущего», безусловно, привержен возвышенным формам утопической рецепции и сопротивляется любым попыткам обесценить вдохновляющий заряд «утопического импульса», хотя и стремится сохранить критическую, аналитическую позицию по отношению к той завораживающей этике беззаветного служения, которая является неотъемлемой частью утопического аффекта (и оборотной стороной невозможности присвоить утопию – ср. процитированную выше реплику протагониста романа «Люди как боги»: «Никогда это не будет моим… Остается одно: служение….»).
Однако, чтобы удержаться на аналитической позиции, вовсе не обязательно рассматривать безличность (и, соответственно, бескорыстность) утопического желания как симуляцию и обман. Язык описания нарциссического расстройства самовосприятия, использованный мной в предыдущей главе, подсказывает, что эффект «ложных целей» и неподлинного желания может быть непосредственно связан с инстанцией «фальшивого „я“» – с абстрактным, идеальным, нормативным образом, возникающим в случае посттравматического отказа от настоящих потребностей и чувств.
В качестве небольшого отступления здесь будет кстати обратить внимание на выводы, к которым приходит Ямпольский, прослеживая историю понятия «энтузиазм», сыгравшего, как мы видели, немаловажную роль в формировании языка утопического аффекта. Для нашей темы существенно, что в ранних контекстах (XVI–XVII века) это понятие так или иначе соотносилось с представлениями о ложном веровании, лжепророчестве, еретизме (Ямпольский, 2004: 416); но Ямпольского оно интересует прежде всего в контексте риторики Французской революции. Анализируя кантовское размышление о революции и энтузиазме, Ямпольский пишет о «нарциссическом» пространстве, в котором оказывается заперт энтузиастический аффект (как его понимал Кант): для этого аффекта характерен сбой представлений о всеобщем и персональном, внешнем и внутреннем – субъективные переживания объективируются и воспринимаются как трансцендентное откровение, голос свыше; внутреннее пространство принимается за «пространство возвышенного», в котором «субъект выступает во всеобщей связи своего чувства с предназначением всего человечества» (Там же: 422). Оборотной стороной подобного «нарциссического расширения» (если воспользоваться термином Хайнца Кохута) как раз и является отказ от ощущения собственной субъектности, от распознавания собственных желаний и отождествления с ними; на это, правда, Ямпольский указывает лишь косвенно и вскользь: «Самоотражение в возвышенном не имеет ни объекта, ни субъекта, ни внешнего, ни внутреннего» (Там же: 423).
Несложно заметить, что именно об инверсии внутреннего и внешнего пишет Франк, когда ставит перед собой цель разоблачить «диалектическую ошибку», превращающую утопию в ересь. Отсюда действительно легко сделать вывод, что утопия выдает частный фантазм за универсальное желание, однако, если акцентировать вторую сторону этой путаницы между внутренним и внешним – отказ от контакта с собой, можно увидеть, что не столько слово «фрустрация», сколько слово «фантазм» не очень уместно, не очень применимо к утопии. Возможно, ускользающее утопическое желание, неизменно универсальное, неизменно возвышенное и неизменно неудовлетворенное, маскирует не столько другое желание, сколько нежелание; точнее говоря – страх. Страх испытывать желания. Или страх смерти.
Ниже я постараюсь показать возможность такой трактовки на материале текстов Герберта Уэллса, «главного пропагандиста утопических идей, который так и не создал главной утопической книги» (по словам его биографа и исследователя Патрика Парриндера (Parrinder, 1985: 115)). Уэллс, через призму утопической традиции пристально наблюдавший за последствиями социалистической революции в России (и в конце концов скорее разочаровавшийся в увиденном), изобретает не только современный вариант научной фантастики, этимологически связанный с утопией (см. об этом прежде всего: Suvin, 1979: 222–241), но и вариант «современной утопии», чрезвычайно востребованный в СССР на рубеже 1950–1960-х годов, когда предпринимались попытки реабилитировать и реанимировать навык утопического восприятия. Именно поэтому разговор об Уэллсе в данном контексте представляется мне допустимым, а возможно, и необходимым.
3Смерть! Где твое жало?
Кор. 1, 15: 55
Нарратор уэллсовской «Современной утопии» признает неизбежную «безжизненность» всех утопических повествований, причем рассуждает об этом вполне в духе того недоверия к возможностям репрезентации, которое было описано Ямпольским: утопические миры «неправдоподобны» и однообразны (люди в них лишены «индивидуальных отличий», а здания – «всякой оригинальности»), но исправлению такое положение дел принципиально не поддается:
…По-видимому, с этим надо смириться <…> Ведь существующее созрело постепенно, оно освящено кровью, полито, может быть, слезами; контур и формы его округлены постоянным соприкосновением с жизнью. А то, что создано фантазией, как бы оно ни было целесообразно и необходимо, представляется нам ясным и неживым, потому что в очертаниях его слишком много твердости, они слишком прямолинейны, в них недостает гибкости (Уэллс, 2010 [1905]: 10).
В действительности Уэллс, конечно, не смиряется с подобным затруднением – он пробует по‐своему «оживить» или, по меньшей мере, осовременить утопический нарратив, доводя до предела его «неправдоподобие», подчеркивая фикциональность текста, усложняя систему повествовательных инстанций и вводя в повествование метапозицию (результат такой стратегии Парриндер называет «метаутопией» (Parrinder, 1985; см. также: Seeber, 2009; Nate 2012)); однако проект «современной утопии» претендует на большее, его цель – оживить не утопическое письмо, а утопическое чувство.
Утопия современного мечтателя должна резко отличаться от тех Утопий, которые воображали себе люди до Дарвина, оживившего человеческую жизнь <…> Современная Утопия не должна быть мертвым, не изменяющимся государством. Она должна откинуть от себя все косное и вылиться не в устойчивые, непоколебимые формы, а в полную надежду на дальнейшее развитие. <…> Вместо общества граждан <…> наслаждающихся вечным счастьем, которое навсегда обеспечено и их детям, мы хотим построить такой общественный компромисс, который мог бы удовлетворить грядущие развитые поколения. Вот главное и самое существенное отличие Современной Утопии. <…> Наше дело теперь – превратиться в обитателей Утопии и оживить одну за другой все части этого прекрасного, хотя и воображаемого мира <…> Нам следует только отвернуться от созерцания того, что действительно существует, и обратиться к тому, что витает в необъятных сферах возможного (Уэллс, 2010 [1905]: 6–7).
Мне здесь интересен не столько образ развивающегося, эволюционирующего утопического общества (строго говоря, Уэллс был не первым, кто его предложил[18]18
Можно сказать, что этот образ рождается одновременно с моделью утопического будущего (и задолго до дарвиновской теории эволюции): еще в просвещенческой утопии Мерсье парижане 2440 года упоминают о том, что находятся «лишь на полпути» в своем стремлении к совершенству, которое, впрочем, по всей вероятности «вещь недостижимая» (Мерсье, 1977 [1770]). Бостонцы 2000 года из романа Беллами уже со всей определенностью утверждают, что их победы относительны, а путь «усовершенствования рода человеческого из поколения в поколение» – бесконечен (Беллами, 1891 [1888]: 291).
[Закрыть]), сколько настойчивая риторика оживления мертвого.
Одна из последних уэллсовских (мета)утопий – киносценарий «Облик грядущего» – завершается следующим диалогом персонажей:
Пасуорти: Боже мой! Неужели никогда не наступит век покоя? Неужели никогда не будет отдыха?
Кэбэл: Каждый человек <the individual man (Wells, 2012 [1935]) > находит покой. Его слишком много, и наступает он слишком рано, и мы называем его смертью. Но для ЧЕЛОВЕКА [в оригинале – for MAN, что, возможно, в этом контексте было бы точнее перевести как «для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». – И. К.] нет отдыха и нет конца. Он должен идти вперед, от победы к победе <…> И когда он наконец покорит все пучины пространства и все тайны времени, он все еще будет у начала (Уэллс, 1964в [1935]: 513–514).
Прилагая усилия для полной адаптации утопии к современным, модерным ценностям, Уэллс пытается сконструировать такой вариант утопического, на который современный читатель мог бы согласиться (то есть признать его собственным желанием). Пожалуй, именно поиск внутреннего согласия, поиск «компромисса» между должным, желаемым и возможным является главной интригой «Современной утопии». В ряду такого рода компромиссных решений (большей частью сомнительных) – идея коллективного бессмертия. В противоположность Моррису, чья утопия была своего рода альтернативой ощущению ускоряющегося бега времени – обещанием отдыха, «эпохой спокойствия», Уэллс опирается на прогрессистскую модель темпоральности, чтобы представить утопию местом победы над смертью. Покой – это смерть. Но утопия может преодолеть (или обмануть?) собственную мертвую природу (а заодно и индивидуальный страх смерти), подпитываясь топливом новых и новых, неостановимо устремленных вперед поколений. Хотя в отчетливой форме эта идея была выражена уже в поздних произведениях Уэллса, в «Современной утопии» можно обнаружить эпизод, который непосредственно связан с ней и который мне представляется ключевым для нашей темы.
Встретившись в конце концов со своим утопическим двойником, со своим идеальным, нормативным «я», основной нарратор узнает от него об экзистенциальном опыте, пережитом (и, возможно, не раз) в одиночестве, вдали от цивилизации:
– В эти тихие, полные величия часы начинаешь менее думать о себе, чувствуешь, что недалеко то бесконечное, которое мы здесь называем концом, но которое, в сущности, вечно во времени и пространстве…
Он умолк.
– Вы думаете о смерти?
– Не о своей. Но когда я брожу среди снегов и безмолвия, – почти всегда я выбираю путешествие по Северу, часто думаю о смерти мира, о том времени, когда настанет ночь мира, когда солнце станет такое тусклое и красное, и воздух, и вода, замороженные, будут вместе лежать на покрытых снегом тропических полях… Я часто думаю об этом и спрашиваю себя, неужели на самом деле Господь допустит исчезновение человека, разрушение построенных им городов, написанных им книг? <…>
– Вы верите, что это случится?
– Нет. Но если этого не будет <…> Что будет? (Уэллс, 2010 [1905]: 270).
Эта ситуация сомнения, отсутствия оптимистичного ответа на вопрос, завершающий приведенную цитату, позволяет различить ту зону страха, которая, как мне кажется, неявно присутствует на карте уэллсовских утопий.
С некоторой натяжкой можно даже сказать, что речь идет о повторяющемся кошмаре: тусклое солнце и снег, безмолвие и тьма – именно так описывает последнюю, предельную точку своего путешествия протагонист более раннего романа «Машина времени». Анализируя «утопическое ви́дение» Уэллса, Джастин Буш обращает внимание на то, что путешественник во времени сталкивается в этой сцене, в сущности, с образом абсолютной смерти – «здесь изображается не смерть отдельного человека, или города, или даже страны, а конец самой жизни» (Busch, 2009: 2). Собственно говоря, Буш считает сопротивление смерти центральной интенцией уэллсовского воображения: воображение вообще и утопическое воображение в особенности является для Уэллса формой противостояния тотальному разрушению смыслов и целей, с которым, как постулирует Буш, и связан страх смерти (Ibid.: 169–170).
Такая экзистенциалистская трактовка, действительно, вполне логично вытекает из автобиографических записок Уэллса (в их названии – «Опыт автобиографии» – и в повествовании в целом тоже прослеживается метапозиция, характерная ироничная дистанция по отношению к субъекту и объектам письма). Уэллс последовательно связывает утопизирование с модусом активного действия, максимальной вовлеченности в политическую и социальную жизнь, жизнь как таковую: он указывает на то, что «Современная утопия», адресованная не в последнюю очередь участникам Фабианского общества, имела в значительной мере полемические задачи (с которыми по большому счету не справилась) и была призвана развеять «снобистский ужас» перед самим словом «утопия» (Уэллс, 2007 [1934]: 330–332); он сообщает о своем замысле утопизирующей социологии, так и не поддержанном социологами[19]19
Уэллс, впрочем, не знает, что социологам будущего этот замысел покажется вполне вдохновляющим – так, Рут Левитас прямо оговаривает, что ее проект рассмотрения социологии через призму «утопического метода» инспирирован идеями Уэллса (Levitas, 2013: viii).
[Закрыть]; он стоек и настойчив в продвижении своей центральной идеи – идеи «планируемого мира». Он убежден, что проект утопического мирового государства, государства «всеобщей свободы и изобилия» может и должен быть реализован, однако даже беседы с Лениным, Рузвельтом, Сталиным не приближают его к осуществлению этой цели: «Многие люди, занимающие ключевые позиции в мире, для меня более или менее доступны, но мне не хватает силы, которая могла бы соединить их. Я могу с ними говорить, даже выбить из колеи, но не могу сделать так, чтобы они прозрели» (Там же: 423). Отстаивая утопию как метод социального мышления и способ социального проектирования, Уэллс воспринимает ее как возможность приблизиться к реальности и осознанности (и именно поэтому выражает свое разочарование Россией 1934 года при помощи метафор сновидения и дурмана: «Я ожидал увидеть Россию, шевелящуюся во сне, Россию, готовую пробудиться и обрести гражданство в Мировом государстве, а оказалось, что она все глубже погружается в дурманящие грезы советской самодостаточности. Оказалось, что воображение у Сталина безнадежно ограничено и загнано в проторенное русло <…> Я горько сокрушаюсь о том, что эта великая страна движется к новой системе лжи» (Там же)). Наконец, Уэллс прямо объявляет, что планируемый мир или, точнее, возможность его планировать – это и есть то, что способно наполнить жизнь смыслом и защитить от ранящих мыслей о смерти:
Я начал писать автобиографию, чтобы подбодрить себя в минуты усталости, беспокойства и раздражения, и эту задачу она выполнила. Написав ее, я вывел себя из смутной неудовлетворенности; рассказывая о своих идеях, я забыл о себе и о комариной туче мелких забот. Моя заплутавшая персона восстановила силы. Изложив идею современного Мирового государства, я увидел в их подлинной ничтожности личные, преходящие тревоги и напасти. Человека, существующего как частное лицо, всегда подстерегают и пугают суета, апатия, промахи, противоречия; однако мне удалось убедиться, что вера в созидательную мировую революцию и служение ей могут объединить мои разум и волю в некое господствующее единство; что вера эта придает существованию смысл, превозмогает или сводит к минимуму все случайные, минутные разочарования и лишает мысль о смерти ее острого жала (Там же: 425).
Чтобы обрести себя, надо о себе забыть: описывая процесс пересборки идентичности, в ходе которого отсекается все частное, случайное и докучное и кристаллизуется подлинная воля – воля бескорыстной самоотдачи, Уэллс вполне сознательно ориентируется на модели, заданные религиозными практиками служения:
Зрелые убеждения разумных людей непременно похожи, мозг устроен по единому образцу <…> Процесс обобщения, в котором разум спасается от личных неприятностей, от мелких забот, от волнений и обид, сопутствующих эгоцентрическому образу жизни, повсюду один и тот же, какие бы ярлыки на него ни вешали <…> Все религии <…> неизбежно выходили на одну и ту же тропу, ведущую к спасению, поскольку никакой другой тропы быть не может (Там же: 425–426).
Разумеется, Уэллс утверждает, что секулярный вариант бескорыстного служения – «современный выход к внеличному» – будет выгодно отличаться от религиозных практик прочной укорененностью в актуальном опыте («сейчас уже невозможно отбросить исходные условия и одним прыжком перемахнуть в „другой мир“» (Там же: 426)). При этом автор «Современной утопии» игнорирует тот факт, что, присягая на «созидательное служение Мировому государству» (Там же), имеет дело исключительно со своим же собственным конструктом, что именно объективация собственных соображений о социальном устройстве, приписывание им статуса «внешней», «внеличной» цели лежит в основе его энтузиазма.
Это «слепое пятно» не может быть распознано изнутри утопического восприятия – утопия конструируется не как личный фантазм, а как универсальная, коллективная, рациональная мечта и именно в этом качестве назначается объектом желания; она желанна постольку, поскольку очищена от признаков и призраков персонального желания.
Герменевтический круг, в который оказывается пойман Уэллс, возникает в тот момент, когда из модели обретения себя через самоотречение исключается идея персонального спасения; русскому слову «спасение», использованному при переводе процитированного выше отрывка («разум спасается от личных неприятностей», «тропа спасения»), в английском оригинале соответствует вовсе не «salvation», как можно было бы ожидать в религиозном контексте, а «escape» (Wells, 1967 [1934]: 706–707). Дальше, безусловно, начинается область догадок и предположений: почему процесс, который преподносится как движение к реальности, актуальности, осознанности, описывается при помощи риторики побега (то есть уклонения и тревоги)? И не будет ли «фальшивым» то неуязвимое, идеальное, высокое «я», которое рождается в результате подобного бегства от «эгоистических» потребностей?
Мне хотелось бы остаться в рамках анализа текста и удержаться от спекулятивных выводов о психологической жизни самого Уэллса; тут можно лишь зафиксировать видимое противоречие, на котором строится его публичный образ. Настойчивость, с которой Уэллс стремится к участию в принятии политических решений, и убедительность, с которой в его литературных произведениях представлена тоска по «другим мирам» (далеко не только утопическим), вместе как будто бы повторяют парадоксальное сочетание активной вовлеченности в общественную жизнь и эскапизма, обнаруженное Стивеном Гринблаттом у Мора. Стратегии самопрезентации, которые избирает Уэллс, должны представить его человеком, живущим насыщенной, полнокровной жизнью, обладающим сильной волей и преисполненным желаниями (благодаря книге «Влюбленный Уэллс: Постскриптум к автобиографии» он приобретает репутацию непостоянного и не сдержанного в своих желаниях ловеласа), и вместе с тем Уэллс манифестирует ценность самозабвенного служения – не только в автобиографических текстах, но и уже в «Современной утопии», где главной действующей силой, обеспечивающей построение наилучшего общества и управление им, назначается аскетичный «орден самураев» – «личным желаниям эти люди отводят лишь второстепенное место и, следовательно, практикуют самоотречение» (Уэллс, 2010 [1905]: 154).
Тема утопического аскетизма (совершенно исчезающая в более позднем романе «Люди как боги» и трансформирующаяся в тему героического самопожертвования в «Облике грядущего») для Уэллса, безусловно, неоднозначна: он хорошо чувствует каноны моровской утопии, в которой аскетизм осуждается как крайность, как специфический вариант неумеренности. В «Современной утопии» Уэллс пытается уловить ту неуловимую – «нейтральную» – точку, где декларативное право свободно желать не вступало бы в конфликт с теневой стороной желания, со смутным ощущением его разрушительной силы:
…Кандидат или кандидатка в самураи должны быть совершеннолетними <…> Незачем подгонять молодежь; пусть она испробует чашу любви, вина и песни, пусть почувствует укусы чувственного желания и поймет, с каким дьяволом ей придется бороться (Там же: 246–247).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?