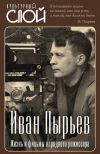Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
…Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны.
Уильям Шекспир. «Гамлет». (Перевод М. Лозинского)
Таким образом, интуицию, что утопия отключена от реальности, мы можем описать и через проблематику репрезентации, и через проблематику идентичности. Оккупируя пространство репрезентации (являющееся, согласно Ямпольскому, пространством воображения), утопия, с одной стороны, пытается нейтрализовать его, выдать за пространство долженствования, очистить от «призраков души», от случайных следов «реального „я“», добиться такой универсальности, которая исключала бы субъектность, с другой – блокирует это пространство, настаивает на том, что оно автореферентно.
Анализируя устройство «Золотой книжечки», Джеймисон ненадолго останавливается на сюжете о полилеритах, чье государство «со всех сторон окружено горами» и «управляется по своим законам» (Мор, 1953 [1516]: 71), однако вынуждено платить ежегодную дань персидскому царю. Эта дань, эта «геополитическая зависимость» представляется Джеймисону своего рода аллегорией «структуры репрезентации как таковой, которая все же зависит от внешних связей и эмпирического материала» (Jameson, 2005: 39). Остров Утопия делает вид, что разрывает такую, неизбежную для любой репрезентации, зависимость; в читательском восприятии утопия «изолирована от окружающего хаоса» – как мозг внутри черепной коробки или как эмбрион внутри матки.
Конечно, при внимательном чтении обнаружится, что герметичность Утопии относительна (об этом см.: Zubrycki, 2007). Утопия Мора не только открыта контактам с соседними – тоже вымышленными – народами, но и пропитана специфической «памятью» об античной цивилизации (что впоследствии окажет существенное влияние на формирование канонов утопической образности): из рассказа Гитлодея мы узнаем, что утопийцы, по всей вероятности, происходят от греков, а тысячу двести лет назад контактировали с римлянами, потерпевшими кораблекрушение у берегов прекрасного острова и научившими его обитателей «всякого рода искусствам».
В более поздних классических утопиях память об античности (подробнее о ней см.: Schmidt, 2009) трансформируется в своеобразный принцип «всемирной отзывчивости»: утопическое государство оказывается отражением всех цивилизаций мира. Мы встречаем такое отражение и на внутренних стенах кампанелловского Города Солнца («Когда же стал я с изумлением спрашивать, откуда известна им наша история, мне объяснили, что они обладают знанием всех языков и постоянно отправляют по свету нарочных разведчиков» (Кампанелла, 1947 [1623]: 34)), и в названиях и архитектуре кварталов Икары, столицы Икарии («Вы найдете <… > кварталы Пекина, Иерусалима, Константинополя, как и кварталы Рима, Парижа и Лондона. Таким образом, Икара – действительно земной шар в миниатюре» (Кабе, 1948 [1840] (Т. 1): 120–121)). Повествователь бэконовской «Новой Атлантиды», пожалуй, наиболее ярко выразил то впечатление, которое производит подобная осведомленность:
Но как могут островитяне знать языки, книги и историю тех, кто отделен от них таким расстоянием, – вот что кажется нам непостижимым; и представляется свойством и особенностью божественных существ, которые сами неведомы и незримы, тогда как другие для них прозрачней стекла (Бэкон, 1978 [1624]: 495).
Утопия в таком описании осторожно подпитывает свои смысловые запасы, поглощая все, что может ей пригодиться, однако чаще всего делает это тайно, избегает прямого взаимодействия, не передает дальше присвоенные ресурсы, а если и передает (в финале «Новой Атлантиды» «божественные существа» неожиданно решают поделиться мудростью с несовершенным человечеством), то в такой форме, которая не предполагает ответа. Иными словами, утопия пытается исключить себя из процедур обмена – именно об этом ее свойстве сообщает икарийский консул, обращаясь к путешественникам, собирающимся въехать в страну: «Если вы хотите <…> покупать какие‐нибудь товары, то не стоит ехать в Икарию, ибо мы не продаем ничего; если вы едете туда продавать товары, то лучше оставайтесь, ибо мы ничего не покупаем» (Кабе, 1948 [1840] (Т. 1): 91). Или, в интерпретации Уэллса: «Единственный ввоз в Утопии – это падение метеоритов. А вывоза не существует» (Уэллс, 2010 [1905]: 64).
В «Золотой книжечке» все устроено несколько сложнее, но придуманная Мором Утопия, абсорбируя и реалии современной ему Англии, и «идеальное государство» Платона, вместе с тем в определенном смысле стремится остаться автореферентной, репрезентировать только себя – безопасный островок абсолютной подконтрольности, которого нет ни на земле, ни на небе. Место, где можно, осознавая свою ограниченность, обрести наконец безграничную власть.
Марен в своей склонности к парадоксам утверждал, что утопия находится «везде, но нигде» (Marin, 1990 [1973]: 207). Если и описывать классическую утопию через риторику противоречий, то пусть это будут противоречия нарциссические – между «расширением» и стремлением к отграниченности, между ощущением всемогущества и ощущением собственной ничтожности (в конечном счете – несуществования), между желанием жить и решением не чувствовать себя живым.
Существует определенная теоретическая традиция видеть в утопии своего рода прообраз литературы Нового времени, обнаруживать в литературе (и, шире, в искусстве) утопические свойства и функции (прежде всего см.: Bloch, 1988 [1959]). Метафора герметичного и автореферентного пространства, рассматривавшаяся мной в этой главе, как будто бы провоцирует аналогии с теми характеристиками, при помощи которых принято очерчивать место литературы в новоевропейской культуре – от «второй реальности» до «автономного поля». Но, по большому счету, классической утопии совершенно чужд путь, по которому направится впоследствии литература. С одной стороны, автономность утопии никогда не манифестируется как ценность и целеполагание (в противоположность литературной автономии – ср. концепции «эстетизма», «искусства для искусства» etc.): такого рода манифестации прямо противоречили бы утопическому стремлению к универсальности и функциональности. С другой стороны, утопия предельно далека от идеи неподконтрольности и неисчерпаемости воображения, от идеи, что текстуальный мир может оказаться неуправляемым, независимым от своего создателя (хрестоматийный пример здесь – Татьяна Ларина, которая удивила своего автора, неожиданно выйдя замуж), от идеи идентификации читателя с персонажами и вообще восприятия нарратива через призму индивидуального читательского опыта – любая идея ответа, вторжения «реальности» в текст несовместима с принципами утопического письма. В этом отношении оно – не литература. Именно поэтому к нему так сложно применить все, что литературная теория знает о «программе чтения» или «имплицитном читателе».
Мы, читатели, можем видеть классическую утопию только на определенной дистанции, только через внешний взгляд стороннего наблюдателя, только как чужую, иную культуру. Это взгляд, редуцирующий частности и различия – неудивительно, что утопийцы кажутся нам одинаковыми (как поэтично формулирует один из исследователей, «в мертвенных глазах утопийцев мы видим только бесконечное множественное отражение идентичного Другого» (Trousson, 1986: 15–16)). И в то же время утопия обладает своим, завораживающим способом воздействия. Это происходит то ли тогда, когда удается почувствовать, что «мертвенные глаза утопийцев» в свою очередь наблюдают за нами и мы для них «прозрачней стекла», то ли тогда, когда начинает казаться, что границей между нами и утопией является не столько стекло, сколько поверхность зеркала. Если, подчиняясь нарциссической воле, мы соглашаемся считать утопические желания своими, утопия приглашает нас разделить с ней ее «грандиозное одиночество».
* * *
Метафора человеческого мозга, которую Жерверо использует, чтобы описать карту Утопии, – довольно характерный пример утопической рецепции. Он подтверждает нашу готовность присвоить утопии антропологические черты и увидеть ее как «внутреннее пространство», как слепок сознания, макет мышления, миниатюрную когнитивную модель, отрабатывающую основные логические операции и неизбежно воспроизводящую принятые в культуре паттерны конструирования социальной реальности. Однако тут нет собственно того, что мы привыкли опознавать как «реальность», – того, что способно сопротивляться намеченным мыслительным процедурам. Это пространство всегда пустынно и оставляет по себе ощущение несостоявшейся встречи.
Размышляя о пространстве, представленном в моровской «Золотой книжечке», структуралист и теоретик градостроительства Франсуаза Шоэ замечает, что Утоп, основатель прекрасного острова, пытается в своих грандиозных проектах воплотить те технологические возможности и те индивидуальные свободы, которые зарождаются на заре Нового времени, но при этом «блокировать их непредсказуемость» (Choay, 2000: 348). В сущности, действие того же принципа мы обнаруживаем, когда говорим об антропологических измерениях утопии. Будучи продуктом Нового времени, утопия, с одной стороны, отражает зарождение новых отношений субъекта с реальностью и с самим собой (конечной точкой развития которых, возможно, становятся впоследствии идеи «конструирования реальности» и «конструирования „я“»), а с другой – высвечивает подозрительную сторону этих отношений, является индикатором культурного недоверия к ним, к их «фиктивности» и «искусственности». Опасения, что механизмы репрезентации и идентичности могут работать вхолостую, что, отрываясь от чувственно переживаемого опыта, они ни к чему не отсылают, что за иллюзиями, которые они производят, скрывается пустота, «полое пространство», – прочно инкорпорированы в структуру классической утопии. Утопия осваивает эти механизмы и одновременно пытается их блокировать.
То значение, которое утопия приобретает в XX веке, конечно, прямо связано с тем, что под подозрением оказываются репрезентативные функции политического: оно начинает подозреваться в иллюзорности, автореферентности, неспособности репрезентировать «реальность». В то время как Мангейм строит на таком подозрении свое сопоставление «идеологии» и «утопии», идея «реализации утопий» получает все бόльшую популярность. Подробнее об этой идее и о стоящих за ней аффектах – в следующей главе.
3. Утопическое желание: «современная утопия» и Герберт Уэллс
Простой тезис, из которого я исхожу в своих попытках описать особенности утопической рецепции, можно сформулировать так: если и существует определенный сценарий восприятия и воспроизводства утопии, то он обязательно связан с блокировкой субъектности, с опытом неприсутствия и неучастия (психологи сказали бы – с опытом игнорирования потребностей «реального „я“»). Утопическое стремление к полному контролю над смыслом, к устранению зазора между означаемым и означающим, «содержанием» и «формой» основывается на вытеснении интерпретативных процедур – здесь нет места для субъекта интерпретации и субъекта памяти. Утопия – место, в котором нас нет; место, в котором никого нет.
Я намеренно радикализировала эту формулировку, чтобы она могла показаться несовместимой с представлениями о ХХ веке как о времени «реализации утопий» (я имею в виду тот набор представлений, который часто группируется вокруг цитаты из Николая Бердяева, послужившей эпиграфом к роману Олдоса Хаксли «О, дивный, новый мир»: «…Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их осуществления…» (Бердяев, 1924: 121–122)). Эффект герметичности, по которому опознается утопия, сочетается с ее свойством быть особым образом притягательной – настолько, что утопическая рецепция выходит далеко за текстуальные рамки. Питер Рупперт обращает внимание на подобное противоречие: утопия воспринимается как абсолютный вымысел, как иное место, полностью вынесенное за пределы того, что принято считать социальной реальностью, но при этом читатели «легко забывают» (легко позволяют себе забыть), что перед ними фикциональный нарратив, и начинают расценивать утопию с точки зрения ее реалистичности и реализуемости и даже рассматривать как готовый проект, программу действия (Ruppert, 1986: 12–13).
Очевидно, что существенной стороной утопической рецепции является специфический аффект (он может описываться через отсылки к «утопическому желанию», «утопической мечте» etc.) – некое состояние вдохновляющей эмоциональной вовлеченности; именно этот аффект признается ответственным за стремление реализовать утопию. В данной главе я постараюсь показать, как соотносится такого рода вовлеченность с тем, что я обозначила чуть выше как опыт неприсутствия.
Разумеется, для Бердяева и его адресатов текстуальная сторона утопии практически не представляет интереса; утопическая рецепция здесь переносится в сферу политического действия, в то умозрительное поле, которое Мангейм очертил при помощи двух координат – «утопия» и «идеология»: «Утопии играют огромную роль в истории. Их не следует отожествлять с утопическими романами. Утопии могут быть движущей силой и могут оказаться более реальными, чем более разумные и умеренные направления» (Бердяев, 1995 [1949]: 353). Сегодня теоретические наработки в области utopian studies позволяют игнорировать это противопоставление литературы и политики – и потому, что оно ложное, и потому, что утопия, строго говоря, не является ни тем ни другим.
В таком случае как описать характер утопического воздействия? Что утопия делает с нами и что мы делаем с утопией? В предыдущей главе мне было важно подчеркнуть, что привычные читательские практики при восприятии классической утопии оказываются недоступными – невозможно идентифицироваться с утопическими персонажами, или напряженно следить за развитием сюжета, или испытывать бартовское «удовольствие от текста». Но можно быть завороженным утопическим порядком, симметрией социальных форм, ловкостью рациональных построений, тотальностью целеполагания – обещанием отдыха от неочевидности смысла, от невразумительного, проседающего опыта, которым в повседневной жизни перемежаются редкие моменты осознанности («Ничего бесполезного и, в особенности, ничего вредного, но все направлено к полезной цели!» – как восклицает повествователь «Путешествия в Икарию» (Кабе, 1948 [1840] (Т. 1): 169)). Современный взгляд готов увидеть здесь своего рода воображаемый аттракцион, в котором пространство приобретает особые свойства – оно всегда полупустое и одновременно всегда абсолютно заполнено: из него вычищены все информационные шумы и не оставлено никаких лакун для бесполезного.
Намерение определить утопию как аттракцион соответствовало бы интонации, доминирующей в последние несколько десятилетий в utopian studies: утопическое нередко описывается при помощи метафоры игры и ее производных (возможно, первым был Луи Марен, использовавший применительно к утопии термин «пространственные игры», «jeux d'espaces»). Однако «игровая» риторика почти всегда требует оговорок о степени серьезности утопических практик («Насколько это всерьез?» – один из самых проблематичных и дискуссионных вопросов, задаваемых утопии). История утопической рецепции – и в ХХ веке особенно – явно противоречит семантике праздного развлечения, неотделимой от представлений об игре и аттракционе.
«Игровой» взгляд на утопию получил распространение как альтернатива трактовкам, в которых выражалась тревога по поводу актуальных форм утопической рецепции, – я имею в виду прежде всего популярную в середине XX века идею, что утопия является «ересью», изначально христианской, а позднее и «богоборческой» и ее место в культуре упрочивается по мере секуляризации (Франк, 1994 [1946]; Molnar, 1967). Предполагалось, что «ересь утопизма» хотя и проявилась в решимости осуществить «идеал <…> мерами внешне-организационными» (Франк, 1994 [1946]: 127), тем не менее в скрытом, свернутом виде уже содержалась в текстах Мора или Кампанеллы. Такая трактовка – без сомнения, очень предвзятая, оценочная и архаично выглядящая – вместе с тем позволяет описывать те модальности утопического аффекта, которые не улавливаются «игровой» риторикой. Определить утопию как ересь – значит признать ее близость к «предельным значениям», к «вопросам жизни и смерти»; признать, что смысл, над которым утопия хочет установить контроль, может пониматься не только с прагматической, но и с экзистенциальной точки зрения – торжество «полезных» общественных установлений тут синонимично обретению «смысла жизни».
1
О, Мэри! Вдаль я убегаю
От чар всесильной красоты.
Джордж Гордон Байрон. «Стансы». (Перевод С. Ильина)
Попытки беллетризации утопического текста, адаптации его к конвенциональным практикам литературного чтения, видимо, совпадают по времени с попытками инструментализировать опыт увлечения утопией, представив ее исключительно как формальный прием, оболочку, удобную для изложения философских и политических идей. Фиксируя поздний, заключительный этап этого процесса, Этьен Кабе в послесловии к своей книге «Путешествие в Икарию», впервые опубликованной в 1840 году, объявляет:
Да, я пишу роман, чтобы изложить социальную, политическую и философскую систему, потому что <…> я хочу писать не только для ученых, но и для всех; потому что я хочу, чтобы меня читали женщины, которые были бы куда более убедительными апостолами, если бы их благородная душа была крепко убеждена в действительных интересах человечества <…> Я, быть может, ошибаюсь, но эта форма, которую мне, впрочем, подсказала «Утопия», мне кажется предпочтительнее тех, которыми пользовались современные писатели для изложения аналогичных предметов. Я, несомненно, нуждаюсь в снисхождении моих читателей, в особенности что касается романтической части, но они поймут, что эта часть есть только аксессуар <…> Я достигну моей цели, если романтическая часть может привлечь нескольких читателей без того, чтобы философская часть потеряла кого‐либо из них (Кабе, 1948 [1840] (Т. 2): 466).
Практически приписывая Мору просветительский подход к популяризации собственных взглядов, Кабе подразумевает под «романтической частью» историю влюбленности основного нарратора, путешественника лорда Керисдолла, в икарийскую девушку Динаизу. Сентиментальный сюжет, перемежаясь детальными описаниями устройства идеального общества, развивается медленно, но бурно – тут есть и безнадежность, и надежда, и соперничество, и отчаяние, и неожиданное чудо взаимности, и свадьбы трех пар, назначенные на один день («Если бы я был суеверен, я испугался бы такого огромного счастья!» (Там же: 454)), и «катастрофа» (так называется последняя глава) – сразу после брачной церемонии утопическая невеста по неустановленной причине падает замертво к ногам жениха. С помутившимся от горя рассудком, страдая приступами горячечного бреда, лорд Керисдолл возвращается в родную Англию, однако в самом финале книги (буквально в двух последних абзацах) читателей ждет еще один крутой поворот: получено письмо из Икарии, из которого следует, что Динаиза не умерла, она была в обмороке и теперь, полностью оправившись, спешит в Лондон, чтобы воссоединиться с любимым супругом.
Иными словами, в «нейтральное» утопическое пространство вторгаются чувства. В этом плане чрезвычайно важна фигура еще одного персонажа, с которым лорд Керисдолл знакомится в Икарии, – экспансивного художника Евгения, изгнанного из Франции периода Июльской монархии (почти как сам Кабе). Состояние, в которое Евгения повергает икарийская утопия, неоднократно характеризуется при помощи ключевого слова «энтузиазм» и (за много страниц до финальной болезни лорда Керисдолла) сравнивается с безумием: «Все, что он видел, до такой степени возбуждало его энтузиазм, что он, казалось, был охвачен лихорадкой. Я сначала принял его за сумасшедшего» (Там же (Т. 1): 114). Эта гиперэмоциональность, конечно, предельно далека от ледяного спокойствия, с каким Рафаил Гитлодей делится своими наблюдениями за наилучшим обществом, от тех норм утопической рецепции, которые, скажем, хорошо чувствует Андреа, предписывая путешественникам по Христианополису «бесстрастные глаза, сдержанный язык, пристойное поведение» (Andreae, 1916 [1619]: 144). Делая главным героем своего «Путешествия в Икарию» в меру восторженного англичанина и снабжая его спутником-тенью, не в меру восторженным французом, Кабе сознательно или неосознанно простраивает мост от «английской» утопической холодности к «французскому» утопическому энтузиазму[15]15
Cр. спор скептичного англичанина и оптимистичного француза, открывающий утопический роман Луи-Себастьена Мерсье «Год 2440» (1770).
[Закрыть].
Подобные трансформации утопического восприятия, разумеется, являются отражением культурной истории эмоций, но для моей темы здесь значим факт нащупывания режимов взаимодействия с утопией. Эмоциональная включенность – самый очевидный путь к инкорпорированию субъектности в утопический текст; за историей любви к обитательнице утопического мира, несомненно, стоит история субъекта, стремящегося проникнуть в утопию, переживающего «катастрофу» собственной отчужденности от нее. Кабе гиперболизирует чувства своих персонажей прежде всего, конечно, потому, что именно так представляет себе каноны литературной (романтической) эксцентричности, но при этом высвобождает энергию утопического аффекта. Преувеличенная экзальтация, восторженное возбуждение на грани психотического расстройства – своего рода цена, которую приходится платить за опыт включенной утопической рецепции.
Это отлично понимает протагонист утопического романа Александра Богданова «Красная звезда», оказавшего неочевидное, но серьезное влияние на развитие советской фантастики: избранный марсианами для ознакомления с их совершенным социалистическим обществом герой и повествователь «Красной звезды» плохо справляется со своей почетной миссией и дважды становится жертвой острого психоза. На Марсе на него обрушивается лихорадка напряженной работы, томление любви, муки ревности и даже шокирующая информация о существовании замысла завоевания Земли (который, впрочем, не одобряется большинством марсиан), однако основные причины своего душевного нездоровья он видит в самом опыте столкновения с утопическим:
На чем именно я потерпел крушение? В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопило мое сознание и размыло линии его берегов. <…> Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый характер [выделено автором романа. – И. К.] той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми (Богданов, 1908: 147–148).
Проект включенной утопической рецепции, конечно, обречен на провал. Желание войти в утопию «всем своим существом» не может быть удовлетворено – именно с этим чувством неудовлетворенности Кабе экспериментирует при помощи сложных сюжетных манипуляций, в результате которых надежда на счастье с утопической невестой (на утопическое счастье как таковое) то ускользает, то вновь возвращается. В дальнейшем, в двух самых известных литературных утопиях конца XIX века – «Взгляд назад»[16]16
В современной русскоязычной литературе принято использовать именно такой, почти дословный вариант перевода названия романа Беллами «Looking Backward». Сам роман публиковался на русском лишь до 1918 года включительно и выходил под названиями «Будущий век» (этот, судя по всему, первый перевод и цитируется ниже), «Через 100 лет», «Через сто лет».
[Закрыть] Эдварда Беллами и «Вести ниоткуда» Уильяма Морриса, – мотив неудачи утопического реципиента и его безнадежной неуместности начинает выражаться все более прямо и все более рационально. Герой романа Беллами просыпается от сладкого сна об утопическом будущем, тоскует по нему, окончательно разочаровывается в реальности, затем с восторгом обнаруживает, что пробуждение ото сна было сном, а реальностью остается утопия, однако теперь он сомневается в своем праве находиться в прекрасном утопическом мире рядом с прекрасной утопической возлюбленной:
Лучше было бы для тебя, говорила мне совесть, – если бы этот дурной сон оказался действительностью, а эта прекрасная действительность сном; приличнее было бы тебе защищать распятое человечество среди издевающегося поколения, чем быть здесь, пить из колодцев, которых ты не рыл <…>. Когда, наконец, я поднял свою потупленную голову и взглянул в окно, я увидал Эдифь [в соответствии с современными нормами транскрибирования, Эдит. – И. К.], свежую как майское утро; она пришла в сад рвать цветы. Я поспешил выйти к ней. Бросившись перед нею на колени, я припал к земле и со слезами признался, как недостоин я дышать воздухом этого золотого века и как еще менее я достоин носить на груди моей самый дивный его цветок. Блажен тот, кто в таком безнадежном деле, как мое, находит такого милостивого судью (Беллами, 1891 [1888]: 333–334).
Моррис, оппонент Беллами, и вовсе обходится без замысловатых сюжетных поворотов; протагонист «Вестей ниоткуда» тоже возвращается из утопического сна, но для него очевидна неизбежность такого возвращения:
Хотя мои новые друзья и были для меня вполне живыми, тем не менее я все время чувствовал, что я им чужд и что наступит час, когда они отвергнут меня и скажут, как, казалось, говорил мне последний грустный взгляд Эллен: «Нет, так нельзя, ты не можешь быть с нами. Ты настолько принадлежишь несчастному прошлому, что даже наше счастье было бы тебе в тягость. Возвращайся теперь к своим» (Моррис, 1962 [1890]: 304).
Наконец, в романе «Люди как боги» Герберта Уэллса разыгрывается настоящая драма отлученности от утопии. Уэллс предпринимает здесь своего рода анализ утопической рецепции. Он отправляет в прекрасный параллельный мир целую группу реципиентов (шаржированных персонажей, в которых первые читатели романа могли опознать известные публичные фигуры); все они демонстрируют разные типы восприятия утопии, преимущественно – разные типы недоверия к ней, проходя путь от вежливого интереса к намерению оккупировать утопический мир и установить в нем привычные порядки (разумеется, из этого замысла ничего не выходит). Как замечает, обращаясь к гостям, мудрый утопиец: «Только один из вас приемлет наш мир, но и это объясняется тем, что его отталкивает ваш мир, а не тем, что его влечет наш» (Уэллс, 1964б [1923]: 217). Это единственное исключение – журналист Барнстейпл – одержим утопией и при этом с самого начала своего пребывания в ней предчувствует, что она его «отвергнет» (Там же: 195). Барнстейпл остро ощущает собственную чужеродность и бесполезность в утопическом мире и, по сути, сам принимает решение его покинуть, однако расставание с утопией переживается им как изгнание (Там же: 374); момент прощания преисполнен скорби:
Он бросил последний взгляд на ущелье и стал спускаться вниз, к долине, с ее озерами, бассейнами, террасами, с ее беседками, общественными зданиями и высокими виадуками, с ее широкими склонами и освещенными солнцем полями, с ее беспредельными и щедрыми благами.
– Прощай, Утопия! – сказал мистер Барнстейпл и сам удивился глубине своего волнения.
– Прекрасное видение надежды и красоты, прощай!
Он стоял неподвижно, охваченный чувством скорбного одиночества, слишком глубокого, чтобы он мог дать волю слезам.
Ему казалось, что душа Утопии, словно богиня, склонилась над ним, ласковая, восхитительная – и недоступная.
Мозг его оцепенел.
– Никогда, – прошептал он наконец, – никогда это не будет моим… Остается одно: служение… Только это… (Там же: 371).
Как видим, восхитительная и недоступная душа утопии тут уже не персонифицирована в образе ускользающей невесты. Еще раньше, в вышедшей в 1905 году книге «Современная утопия» (в которой, по справедливому замечанию Ричарда Нейта, представлена «скорее критическая рефлексия о статусе утопического письма, чем модель идеального общества» (Nate, 2012: 128)), Уэллс разделывается с сентиментальной сюжетной формулой, перепоручая ответственность за нее карикатурному персонажу, спутнику и антагонисту основного нарратора. Этот персонаж, полностью погруженный в переживание своей любовной истории, способен обратить внимание на прекрасный утопический мир только тогда, когда в нем обнаруживается двойник его неутопической возлюбленной (в сущности, это пародия на Беллами, в романе которого цветущая Эдит, обитательница утопического будущего, оказывается идеальной копией и правнучкой невесты главного героя, оставшейся в неутопическом прошлом). Нарратор «Современной утопии» видит в подобной драматургии чувств ограниченность и недостаток воображения; тема утопического двойничества интересует его в другом плане: если утопия возвращает по‐платоновски идеальные образы вещам и людям, значит, утопический реципиент может найти в ней и идеального себя: «Я целыми днями думаю о том, что в Утопии мне суждено познакомиться со своим вторым „я“. Я явился сюда, чтобы видеть самого себя» (Уэллс, 2010 [1905]: 203). Утопическая возлюбленная с такой точки зрения – пустая приманка, обещающая иллюзию эмоционального обладания утопией; в действительности реципиент ищет в утопии не невесту, а себя, а найдя, с неизбежностью обнаруживает, что его место занято. Реципиент не сможет присвоить утопию и почувствовать себя в ней своим – его место занято идеальным двойником, и это необратимо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?