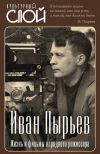Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
…Нет, не умрете; Но <…> будете как боги, знающие добро и зло.
Быт., 3: 4–5
Чтобы прояснить, каким образом утопия лишает мысль о смерти ее острого жала и как все это связано с укусами чувственного желания (а заодно и – с каким дьяволом здесь приходится бороться), я попробую переместить фокус взгляда с утопического пространства на другой локус уэллсовского воображения: речь пойдет о «волшебной лавке» (или «лавке древностей» в более ранних версиях этой литературной формулы – прежде всего в «Шагреневой коже» Бальзака), которая представляет собой своего рода антоним утопии.
В самом деле, упорядоченному и функциональному пространству абсолютного смысла, каким пытается выглядеть утопия, прямо противоположно пространство лавки, захламленное странными вещами, функция которых далеко не всегда очевидна. Если утопия – территория вытеснения, то лавка, где «со щедрой небрежностью» смешаны «неисчислимые случайности человеческой жизни» (Бальзак, 2006 [1831]: 26), – хранилище вытесненного. С близких позиций рассматривает сюжет о лавке древностей итальянский исследователь Франческо Орландо, включая ее в число «ветхих объектов» («oggetti desueti»), наряду с руинами или зарытыми кладами: по мнению Орландо, такие объекты воспроизводятся в литературе как специфические проекции вытесняемой и нефункциональной памяти о прошлом (Orlando, 2006 [1994]). Это отчетливо видно на примере оруэлловской антиутопии «1984»: как замечает Орландо, антикварная лавка в этом романе становится местом, противостоящим утопическому стремлению к абсолютному контролю над прошлым, тем «дырам памяти», в которых в здании Министерства Правды исчезают обреченные на уничтожение документы (Ibid.: 271)[20]20
Очевидно, что позднéе такое противостояние между антикварной лавкой и (анти)утопией приобретает устойчивость сюжетной формулы – ср., например, роль антикварной темы в романе Филипа Дика «Человек в высоком замке» (1962).
[Закрыть].
То же противостояние можно увидеть и в более материальном ракурсе – как конфликт двух урбанистических проектов. Утопический взгляд, одержимый идеей планирования, помечает городской разнобой многочисленных маленьких лавок как «уродливый»: Кабе предлагал заменить его универсальными общественными магазинами, Беллами – величественными центрами распределения товаров[21]21
О философской традиции, в рамках которой универмаг рассматривается как метафора общества, и о связи этой метафоры с утопией XIX века см.: Бьюмонт, 2004.
[Закрыть]. Попадая в послереволюционный Петроград и наблюдая заколоченные досками, «мертвые» магазины, Уэллс обнаруживает, что исчезла сама основа капиталистического города, причем почти как Вальтер Беньямин в знаменитых эссе о Бодлере связывает «современный город» и его смысл с практикой фланерства:
Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Здесь никто больше не «прогуливается». Для нас современный город, в сущности, – лишь длинные ряды магазинов, ресторанов и тому подобного. Закройте их, и улица потеряет всякий смысл. Люди торопливо пробегают мимо (Уэллc, 1964 г [1920]: 317–318).
Но, разумеется, лавка, которая меня в данном случае интересует (как бы она ни называлась – лавкой древностей или волшебной лавкой), – не обычный магазин. Разыгрывающаяся в ней мистерия торговли, столь противоположная утопическому отказу от денег и частной собственности, как правило, завершается тем, что магические предметы отдаются даром или продаются за бесценок. Такая лавка лишь кажется маленькой и тесной, ее пространство имеет свойство расширяться, трансформироваться и вытягиваться в бесконечные анфилады – она в некотором смысле соразмерна утопии и тоже предполагает существование не обозначенного на карте пространственного излишка. И так же, как утопия, претендует на тотальность, абсорбируя ресурсы всех цивилизаций мира – правда, не их высшие достижения, а «обломки»: «Все страны, казалось, принесли сюда какой‐нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств» (Бальзак, 2006 [1831]: 23), «В магазине моего торговца брикабраком было сущее столпотворение: все века и все страны словно сговорились здесь встретиться» (Готье, 1972 [1840]: 367).
Уэллс, выросший в семье владельцев посудной лавки и с отвращением вспоминавший юношеский опыт работы в небольших магазинах, в своих литературных текстах дважды обращается к интересующему нас месту действия.
В раннем рассказе «Хрустальное яйцо» (впервые опубликованном в 1897 году) в антикварную лавку вместо предписанного сюжетной формулой магического предмета попадает фантастическое техническое устройство – некое средство прямой трансляции с Марса; этот текст примечателен не только и не столько попыткой рационализации «литературы чудес», сколько тем, что Уэллс тут опробует возможности эскапистской темы, столь значимой для его прозы в дальнейшем, – темы необъяснимой притягательности иного мира, завораживающего именно своей инаковостью, непохожестью на скудную, грубую и недружественную повседневность. Странный марсианский пейзаж здесь так же мучительно недостижим и так же воодушевляет своей «бескрайней» перспективой, как и утопия в романе «Люди как боги».
Но для моих целей важнее другой, более известный рассказ Уэллса – собственно «Волшебная лавка». Уэллс со свойственной ему дискурсивной чувствительностью улавливает в сюжете о волшебной лавке поле напряжения между символами фальсификации, имитации, подделки и семантикой «настоящей магии». Его волшебная лавка – место, в котором «все без обмана» и «за чудеса денег не берут», оно последовательно нарушает ожидания нарратора, оказываясь не аттракционом фокуснической подмены, а пространством, где открывается подлинная суть вещей (и в этом нарушении ожиданий состоит главная подмена и главный фокус). В определенном смысле Уэллс утопизирует волшебную лавку, добавляя в этот сюжет этическое измерение и категорию долженствования – его лавка открыта исключительно для хороших мальчиков и безнадежно закрыта для плохих. На чем же строится такая дидактика, каким критериям необходимо соответствовать, чтобы считаться хорошим? Этот момент мне представляется ключевым: хороший мальчик прежде всего сдержан в выражении своих, даже самых сильных, желаний и во всех эмоциональных движениях «полон заботы о других» (Уэллс, 1964а [1903]: 248), его антипод – избалованный «маленький себялюбец», чье «крошечное личико, болезненно бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов» бессильно заглядывает в лавку снаружи, сквозь заколдованное дверное стекло (Там же: 250).
Если действительно считать «Шагреневую кожу» одной из первых версий интересующей меня сюжетной формулы (а Орландо скорее склоняется к такому мнению), то можно утверждать, что в основе этой формулы – история об опасности желаний. Кусок шагреневой кожи с загадочной надписью на санскрите – магический талисман, полученный протагонистом в лавке древностей, – отвлекает его от идеи демонстративного самоубийства, однако втягивает в необратимый кошмар, в котором страх смерти неотделим от страха жизни. Именно об этом сообщают санскритские письмена: «Желай – и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она – здесь. При каждом желании я буду убывать, как <и> твои дни» (Бальзак, 2006 [1831]: 41). Кожа, исполняющая желания и становящаяся при этом все меньше, – метафора представлений о жизни как об ограниченном наборе ресурсов, которые можно истратить. Каждое желание и его реализация с этой точки зрения – шаг к исчерпанию жизни, к смерти.
Лавка с чудесами – это, безусловно, место соблазна; вероятнее всего – дьявольского соблазна (кажется, ни одно рассуждение о «Шагреневой коже» не обходится без упоминания «Фауста»); страх быть соблазненным сопровождает, наверное, все вариации этого образа, ощутим он и в «Волшебной лавке» Уэллса.
«Хороший мальчик», который берет нарратора за палец и, ни о чем не прося, безмолвно и почти рефлекторно тянет в сторону волшебной лавки, носит домашнее имя старшего сына Уэллса – Джип (сокращение от Джордж Филипп). Таким образом Уэллс задает достаточно отчетливый сценарий рецепции этой новеллы: совершенно очевидно, что она должна прочитываться как трогательное выражение отцовской любви, которое не обошлось без идеализированного образа детства, – «детское» воображение и «детская» способность мечтать акцентированно противопоставляются здесь «взрослому» скучному прагматизму. И вместе с тем «Волшебная лавка» предлагает и другую (тоже вполне отчетливую) стратегию чтения, просвечивающую через канву нормативной, «правильной» интерпретации, – отцовская любовь тут тесно переплетена с отцовской тревогой, с тем сопротивлением, которое мешает воспринимать волшебную лавку как «благое место» и помечает ее как место соблазна. Кульминацию этой тревоги провоцирует финальный трюк лавочника: он накрывает Джипа большим барабаном и Джип исчезает – в этот момент нарратор пугается так, что перестает испытывать страх, на смену тревоге приходит «зловещее чувство», не оставляющее сомнений в том, от чего нарратор все это время пытался защитить своего мальчика, что именно являлось подлинным объектом сопротивления и страха: конечно, это прежде всего страх утраты, страх навсегда потерять сына, иначе говоря – страх смерти. Для смотрящего сквозь призму этого страха сама смерть соблазняет Джипа услужливым исполнением разнообразных невероятных желаний, завлекает его, чтобы затем отнять. Деньги, которыми нарратор настойчиво и безрезультатно пытается расплатиться за «настоящее волшебство», – своего рода выкуп, попытка установить цену за исполненные желания, что позволило бы перевести их в безопасный, договорной, несерьезный, неподлинный регистр. Подлинное, стихийное, неконтролируемое желание кажется опасным, оно способно разрушить жизнь и приблизить смерть.
«Забота о других» – еще один легитимный, более того, социально одобряемый способ контролировать и вытеснять стихийное желание, а значит – защищаться от смерти. Этот же защитный барьер, но предельно абстрагированный, обобщенный, отчужденный от сколько‐нибудь реальных «других» – в основе уэллсовских (мета)утопий. Персональная смерть наступает «слишком рано», однако достаточно изменить масштаб зрения, переключить внимание с персональных желаний на коллективные, чтобы обрести бессмертие – бессмертие всего человечества. В рамках этой логики утопическая деятельность будет строиться как восполнение некоей исходной недостачи, как борьба с исчерпаемостью человеческой жизни – как непрерывное отвоевывание ресурсов у «матери природы», равнодушно жестокой по отношению к отдельному человеку, но бессильной перед коллективным натиском. Ср. в романе «Люди как боги»: «Эти земляне боятся увидеть, какова на самом деле наша Мать Природа. <…> Она не исполнена грозного величия, она отвратительна. <…> Мы, люди Утопии, уже перестали быть забитыми, голодными детьми Природы – мы теперь ее свободные и взрослые сыновья» (Уэллс, 1964б: 214–215).
Желание, отчужденное, объективированное, универсализированное и перенесенное в область возвышенного, выглядит вдохновляюще; Уэллс выстраивает свою модель утопического, опираясь на притягательные ценности научного познания («Знание – это власть» (Wells, 1982 [1939]: 120), иными словами – контроль) и энтузиастически самозабвенного исследовательского поиска[22]22
Уэллс подчеркивает этимологическую связь этой модели с идеями Фрэнсиса Бэкона (Ibid.: 121). О «сциентистском утопизме» Бэкона и Уэллса см.: Nate, 2001.
[Закрыть]. Именно эта модель сыграет столь заметную роль в практиках советской утопической рецепции в конце 1950-х – начале 1960-х. Но комфортный мир свободолюбивых ученых комфортен прежде всего потому, что базируется на интенции победы над смертью: смерть, как кажется, прячет свое жало, однако будет регулярно являться в кошмарах – гибели всего человечества, конца самой жизни.
* * *
Я сознательно не рассматриваю здесь содержание «политических программ», которые Уэллс транслирует в своих (мета)утопиях или с их помощью, не разбираю принципы социального моделирования, которым он следует. Моя цель – привлечь внимание к другой стороне утопического, к возможности увидеть в утопии способ справляться с «предельными» значениями, способ решать – через язык социального – вопросы смысла жизни и страха смерти. Утопическое восприятие, если оно аффективно заряжено, часто сопряжено с поиском экзистенциальной и этической опоры. Но насколько устойчива такая опора, насколько пространство утопии, с его бассейнами и виадуками, беседками и общественными зданиями, полями и садами, каталогизациями и умолчаниями, пространство забвения, пространство, которое мы как будто бы пытаемся вспомнить и в котором никогда не могли и не сможем быть, – насколько такое пространство способно стать источником силы и местом «обретения себя»? Именно такой запрос обращает к утопии Уэллс в надежде, что из поля внимания исчезнет «комариная туча мелких забот», тот повседневный опыт, который кажется бессмысленным или, что то же самое, навязанным вопреки желаниям – иначе говоря, не являющимся объектом волевого выбора. В этой оптике воля допускается исключительно в пространстве возвышенного, в пространстве утопии – но столь ожидаемая встреча с собой («Я явился сюда, чтобы видеть самого себя») оборачивается, конечно, рациональной иллюзией; «я», с которым знакомится протагонист «Современной утопии», оказывается – в терминах психологии нарциссизма – «фальшивым».
Было бы неправильно утверждать, что утопизирующий погружается в мир собственных фантазмов. На мой взгляд, термин «фантазм», когда он привычно используется для определения утопии, уводит в сторону от понимания опыта утопической рецепции, опыта утопического as is. Утопия как идеальный тип, своего рода утопия утопии, так или иначе присутствующая в каждом индивидуальном утопическом жесте (в той мере, в какой этот жест вообще опознается как утопический), скорее представляет собой нечто противоположное фантазму. Это репрезентация не столько искаженного желания, сколько не желания, антижелания – страха желать. Репрезентация оптики, в рамках которой желание – это форма растраты. «Нейтральность» классических утопий, воспетая Мареном, собственно, и есть проявление замешательства перед выбором, когда никакое определенное желание невозможно, когда волевая часть «я», способная испытывать желания, оказывается вытеснена и подменена фигурами долженствования, инстанциями восстановления истинной нормы и поддержания нормативных предписаний – эта подмена (на сюжетном уровне выглядящая как устранение самой потребности желать, поскольку все желания уже исполнены) и обеспечивает то впечатление «безжизненности», «неправдоподобия», которое Уэллс пытается объяснить через противопоставление фантазии и реальности.
Уэллсовское объяснение, разумеется, не случайно: навык классического утопического письма включает в себя умение оформлять нормативное суждение как смелую и даже абсурдную фантазию; отчасти по этой причине суть подмены становится для постромантического восприятия практически невидимой – утопия начинает казаться пространством свободного воображения и объектом аффективного желания (а существенно позднее, уже в ХХ веке, определяется как кладезь неукротимой творческой энергии, противостоящей любому господствующему порядку). Вместе с тем переживание неудачи, «фрустрации», которым сопровождается рождение утопического аффекта, и сам образ «недостижимой утопии», появляющийся одновременно с попытками ее эмоционального присвоения, можно интерпретировать как новую форму защиты от страха перед волевым актом желания. Дорогая Уэллсу идея эволюции утопического общества закрепляет этот защитный механизм, но придает ему более оптимистичный характер: возникает впечатление, что, превратив утопию из застывшей модели в процесс, растянутый на много веков вперед, удастся разрешить фаустовский парадокс – не останавливать прекрасный момент исполнения желаний, а бесконечно продлить его во времени. Однако при этом продлевается и фрустрация (ср. у Беллами: «Создатель вложил в сердца наши бесконечный идеал совершенства: перед ним все предыдущие наши подвиги кажутся ничтожными, а цель всегда остается далекой» (Беллами, 1891: 289)). Утопическое желание наделяется сверхценностью постольку, поскольку остается отчужденно-возвышенным и неудовлетворенным, неисчерпаемым и не подлежащим растрате, иными словами – безопасным, ассоциированным не со смертью, а с (пусть и коллективным) бессмертием.
Страх перед желанием и сопротивление его реализации включены в представления об утопическом даже тогда, когда за теми или иными проектами (политическими или социальными, архитектурными или образовательными) закрепляется статус «осуществляемой» (хотя и, возможно, не окончательно осуществленной) утопии: характерно, что этот статус обычно присваивается либо как маркер заведомой неудачи, нежизнеспособности замысла (Манхейм, 1992 [1929] (Т. 2): 19), либо как тревожная метка, указывающая на опасность насилия, подавления воли желать (нередко – как первое и второе одновременно).
Тоталитарные проекты XX века, которые многократно описывались при помощи метафоры утопии и со всей очевидностью опирались на навыки утопической рецепции, но при этом отводили утопизированию роль неактуальной и даже нелегитимной практики, демонстрируют сложное сочетание модусов «реального» и «желаемого». Проект соцреализма с его гипертрофированной конструкцией «реальности» (всегда опережающей, согласно каноническому взгляду, самые смелые мечты) включает в себя и дискурс абсолютной реализованности желаний, и дискурс энтузиастического самоотречения, и осторожные попытки контролировать бурные проявления энтузиазма, вписывая их в границы дозволенного. В завершение этой главы, в качестве своего рода постскриптума к ней я хотела бы вернуться к локусу волшебной лавки и показать, как он мог выглядеть на излете «сталинского большого стиля» – как конструируется характерная дидактика желания, при этом, безусловно, заимствующая утопическую образность.
Мультфильм «Волшебный магазин» был снят в 1953 году по одноименной сказке Владимира Сутеева. Лавка здесь не только увеличивается в размерах, но и универсализируется, органично вписываясь в план социалистического города, – перед нами, согласно вывеске над входом, «волшебный детский универмаг», где в идеальном порядке расставлены игрушки, мало отличающиеся от тех, что находились в советском производстве. Лентяй Витя Петров попадает сюда во сне, чтобы пройти испытание реализацией желаний (наиболее очевидной образцовой моделью такого испытания для авторов и зрителей мультфильма являлись сказки Валентина Катаева про девочку Женю – «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик»). «Маг-завмаг», умеющий принимать облик всех известных советскому пионеру волшебников (от Деда Мороза до фокусника) и даже вовсе исчезать под шапкой-невидимкой, последовательно искушает Витю, однако делает это в воспитательных целях: его чудеса обманчиво функциональны, в конечном счете они не только не приносят пользы, но и становятся причиной самых неловких ситуаций. Волшебные краски, оформляя за Витю стенгазету, рисуют карикатуры на него самого; волшебная балалайка не может исполнить плясовую на школьном концерте без забытого заклинания; но, даже запомнив заклинание – на сей раз необходимое для успешной игры в футбол, – Витя не успевает его произнести и, стоя на воротах, пропускает мячи один за другим.
Очевидно, что все желания Вити носят специфический характер – они исключительно нарциссические. Чем больше его желание славы, тем сильнее переживается позор. Он ищет удовольствия не от самих волшебных товаров, а от реализации с их помощью «фальшивого „я“» – его интересует возможность «выдвинуться перед ребятами», причем «без труда и без науки», то есть не затрачивая личных усилий, не присутствуя, не включаясь в происходящее. Дидактический посыл этого испытания – «Если сам за дело берешься, любые чудеса сделаешь!» – характерен для советской детской литературы этого времени. Собственно говоря, именно этот тезис противопоставляется не только «идеологии потребления», но и «мечтательному», «умозрительному», то есть всегда «оторванному от реальности» утопизму.
Однако на этом примере отчетливо видно, что, хотя намерение «выдвинуться перед ребятами» оценивается скорее негативно, дидактическая машина, утверждая ценность личного участия в происходящем через мобилизующий труд, никак не работает непосредственно с нарциссическим желанием. Исправлению тут подлежат средства достижения целей, но не мотивации. Предполагается, что, победив лень, Витя обретет самостоятельность, ответственность, а значит, и волю – волю следовать не ложным, а подлинным (то есть, в рамках этой логики, нормативным) желаниям. Этот бихевиористский подход позволяет увидеть границы (одну из границ) процесса «формовки советского человека», пределы нормативного вмешательства в вопросы персональной идентичности, но также – собственно ту модель идентичности, которой отдается предпочтение. Нарциссическая потребность в общественном признании играет роль полезного триггера, в конце концов побуждающего Витю приложить усилия, чтобы полностью совпасть с идеальным образом активного советского школьника, иными словами – абсолютно отождествиться с «фальшивым „я“», больше не оставляя никаких зазоров, позволяющих осознать подмену. Счастливый финал мультфильма не дает усомниться в том, что Вите это удастся и он удостоится столь долгожданных и на сей раз вполне заслуженных похвал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?