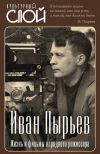Автор книги: Ирина Каспэ
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Фотография Свиридовой и Воздвиженского «Открытие станции Пушкинская» фиксирует усталые улыбки метростроевцев, к третьему ряду уже не очень отчетливые, а дальше, на задних планах кадра, лица постепенно «стираются», утрачивают черты, становясь в конце концов едва различимыми пятнами в плотной толпе. Многочисленные копии брежневского портрета начинают выполнять функцию масок, замещающих стертое человеческое лицо, – толпа как бы превращается в того, к кому обращены ее транспаранты, адресат оказывается адресантом: замкнутая коммуникативная система, замкнутое подземное пространство (ил. 11).
В распоряжении современного зрителя имеется достаточно очевидных контекстов, в которых может быть «прочитана» эта фотография. Он может соотнести ее, например, с известным итальянским агитационным плакатом 1932 года, изображающим стройные ряды патриотов с лицом Муссолини – Лоран Жерверо вспоминает этот плакат, описывая принцип «одинаковости» (equality), характерный для утопической эстетики (Gervereau, 2000: 361). Или со сложившимися к концу 1930-х годов канонами советских поэтических текстов о Сталине, о которых пишет Олег Лекманов: «Сталин вмещает в себя образы всех советских людей <…> Верно и обратное – в каждом из советских людей есть частичка вождя, а все они вместе, как мозаика, складываются в образ коллективного Сталина» (Лекманов, 2015: 174–175). Но подходящие случаю интерпретативные контексты поставляет и массовая культура последних десятилетий: ключевой эпизод фильма «Быть Джоном Малковичем» (1999) – когда множество одинаковых малковичей оживленно беседуют при помощи единственного слова «малкович», когда означаемое и означающее, знак и референт, даже не просто соответствуют друг другу, но и вовсе друг от друга неотличимы – тоже может быть увиден утопическим взглядом, улавливающим принцип одинаковости, эквивалентности, повтора, на сей раз перенесенный во «внутреннее пространство» человеческого сознания или подсознания. Пугающий образ герметичного «внутреннего пространства», населенного бесчисленными дублями одного и того же лица, позволяет задуматься о том, какое чувство все же является для утопии исходным: страх забыть и утратить себя или страх с собой столкнуться.

Ил. 11. Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова. «Открытие станции Пушкинская», цикл «Время иллюзий». 1975
4В Утопии ничто не раздражало ни зрения, ни слуха. Воздух, некогда загрязненный мешаниной всяческих шумов, был теперь прозрачен и тих. А звуки, которые все же ложились на эту тишину, напоминали четкие красивые буквы на большом листе прекрасной бумаги.
Герберт Уэллс. «Люди как боги». (Перевод А. Чернявского)
В заключение мне представляется уместным сослаться на фотопроект, придуманный и осуществленный уже в 2000–2010-х: болгарский фотограф Никола Михов документирует судьбу монументов «коммунистической эры». Название цикла – «Забудь свое прошлое» – связано с фотографией «Дом-памятник Болгарской Коммунистической партии, Бузлуджа»[10]10
http://www.nikolamihov.com/forget-your-past.
[Закрыть]. В кадре нет ничего, кроме центрального входа в заброшенный мемориальный комплекс, построенный в 1981 году на вершине Балканских гор. Это пространство внушает элегический покой, как любая руина, и – ощутимую тревогу. В сущности, здесь соединяются оба ракурса, о которых шла речь в данной главе. Мы видим, как со стен осыпаются буквы пропагандистского текста, как раскрошившийся текст подменяется граффити – тем самым мусором многозначности, которого так боится утопия, – как место главного лозунга над входом занимает самодельный и самовольный призыв «FORGET YOUR PAST». То, что было задумано как мемориал, превращается в памятник забвения. Эту фотографию просто трактовать, и вместе с тем она дезориентирует. Перед нами, безусловно, «странное место», напоминающее сновидение. Я не знаю, чей голос требует от меня забыть прошлое (не исключено, что мой собственный), и обращен ли он ко мне в принципе, и как можно действовать в этом «нейтральном», нейтрализующем память пространстве – оставлены ли здесь какие‐то возможности действия, кроме неостановимого процесса письма, кроме бесконечного рисования на стенах.
Ужас утратить себя вместе с собственным прошлым, скрытый в классической утопии, но помещенный прямо в центр кадра Николы Михова, – едва ли не самое актуальное переживание, связанное с восприятием советской истории. В российском контексте мы можем наблюдать, как в ситуации непроясненной субъектности такой страх (наряду, конечно, с множеством других страхов) блокирует и процедуры забвения, и процедуры памяти. Но это, впрочем, сюжет для другого исследования.
«Утопия принадлежит миру книги и знака», – подчеркивает Марен (Marin, 1990 [1973]: 69). Утопическая рецепция – в значительной мере упражнение на «забывание себя», на вытеснение непосредственного, наличного опыта, на избегание включенного взаимодействия с другими. Сегодня в utopian studies больше распространен интерес к «диалогичности» утопии, к ее способности провоцировать реципиента на индивидуальное достраивание предложенных в ней схем. При этом в тени остается другая сторона утопического. При всей своей декларативной одержимости социальным[11]11
Ср. попытку использовать «утопический метод» для разговора о «траектории и границах социологии» (Levitas, 2013). См. также размышления о связи «утопического воображения» и «социологического мышления» в специальном номере журнала «Социология власти» – «Социология и утопия» (№ 4 за 2014 год), особенно – Вахштайн, 2014: 13–37.
[Закрыть] утопия парадоксальным образом не допускает интерсубъективности: утопическое пространство полностью закрыто для того, что Альфред Шюц называл «ответом», – для любого внешнего воздействия, для всего, что способно оказать сопротивление и принципиально расширить смысловые ресурсы. Утопия – непрозрачное стекло, которое мы накладываем на существующую конструкцию социальной реальности. Зачем нам это нужно и что мы таким образом видим? Этот вопрос, пожалуй, особенно часто задается исследователями утопического. Безусловно, стоит задать его еще раз.
* * *
Между тем счастливые дети на фотографии Нины Свиридовой и Дмитрия Воздвиженского продолжают красить футбольные ворота. Утопический взгляд фиксирует пустотное пространство, уставленное, в полном соответствии с принципом повтора, одинаковыми коробами домов и одинаково голыми деревьями. Буквы на крыше одного из зданий – там, где в 1970-е годы обычно размещались официальные лозунги, – конечно, должны были бы стать подписью к этой картине: закономерно было бы увидеть здесь «МИР», или «СЧАСТЬЕ», или «СЛАВА КПСС!», но вместо этого в кадр неожиданно попадает вывеска «ОБУВЬ», полностью разрушающая интерпретативную инерцию, и референт в очередной раз ускользает от знака, и ветер треплет волосы.
2. Утопическое чтение: возвращаясь в «Утопию»
Aнализируя культурные практики визуализации утопии, Лоран Жерверо внимательно рассматривает карту наилучшего острова на самой первой и самой известной иллюстрации «Золотой книжечки» Мора – гравюре 1516 года: топография Утопии напоминает исследователю очертания человеческого мозга, заключенного внутри черепа, и одновременно эмбриона, заключенного внутри матки. Гравюра «подтверждает наши подозрения», пишет Жерверо: утопия – «цитадель разума», «эпицентр истины», «ядро мысли», заточённое в прочной черепной коробке и изолированное от окружающего хаоса; и она же помещена «в исходную чистоту, в мир до грехопадения, до родового крика, до сепарации» – этот дистиллированный мир со всех сторон защищен околоплодными водами, и утопия-эмбрион испытывает желание «никогда не родиться, никогда не поддаться времени» (Gervereau, 2000: 358).
Возможность увидеть эти впечатляющие образы, конечно, не в последнюю очередь задана историей утопической рецепции, сложившимися моделями читательского и зрительского восприятия – «нашими подозрениями» и ожиданиями, которые должны быть оправданы. Но в то же время в столь поэтичном описании Жерверо отражено желание, которое, по видимости, могло бы быть разделено многими, – проникнуть в самую суть утопического, уловить утопию, понять, что она собой представляет.
Такое желание тем более амбициозно, что известные способы рецепции литературных утопий с трудом поддаются классификации и совсем не поддаются унификации. Так, Питер Рупперт, первым предпринявший развернутое исследование этих способов, подчеркивает, что «Утопия» Мора «в разные времена <…> прочитывалась как революционная книга, которая предлагает радикальные изменения, как реакционная книга, которая ностальгически тоскует по простой монашеской жизни и средневековым идеалам, и как шутливая и ироничная книга, которая одобряет отсутствие какого бы то ни было мировоззрения» (Ruppert, 1986: 78). Список читательских реакций здесь, разумеется, заведомо не полон. Литературная утопия обладает статусом дидактического повествования, навязывающего некую жесткую программу восприятия, однако при этом – обнаруживает Рупперт – реальные практики чтения утопий удивительно разнообразны и, более того, противоречивы.
В последние десятилетия объект utopian studies все чаще описывается через внутреннюю противоречивость, как если бы все другие способы описания оказались в данном случае нефункциональными и нелегитимными. С такой точки зрения утопия основывается на противоречивых желаниях, располагаясь между стремлением к изменению, с одной стороны, и к стабильности – с другой: между историцизмом и хилиазмом, активизмом и эскапизмом, практицизмом и идеализмом etc. (Ruppert, 1986; Gervereau, 2000; Jameson, 2005). Нередко замечается также, что утопия зависает между противоречивыми целями – между эмансипацией и принуждением, разоблачением и обманом; она, как пишет Рупперт, «намеревается освободить нас от форм социальной манипуляции и дисциплинирования, но предлагает систему, которая в своем принуждении и манипулятивности тоже становится угнетающей» (Ruppert, 1986: 73). Наконец, утопия дискурсивно противоречива и может определяться как «жанровый гибрид» (по формулировке другого исследователя утопического чтения, Кеннета Рёмера) – читательское восприятие тут разрывается между типами письма, которые наделяются характеристиками правдоподобия (и предполагают «фактуальную» доказательность, описательность, аналитическую критику), и типами письма, имеющими дело с невероятным, небывалым, непредставимым (Roemer, 2003: 29).
Предполагается, что столкновение разнозаряженных полюсов производит «подрывной» эффект и побуждает читателя занять критичную и творческую позицию по отношению к тексту утопии: запускает «процесс конструирования нашего собственного утопического видения – если не на бумаге, то, по крайней мере, в нашем воображении» (Ruppert, 1986: 77). Противоречия и несогласованности указывают на исторические границы возможного, на пределы утопических желаний и могут позволить читателю (конечно, при условии, что он захочет избрать именно такую – «активную», «открытую», «диалогическую» – модель чтения) «диалектически исследовать» собственные исторические ограничения и собственные утопические мечты (Ibid.).
Этот «диалектический» взгляд на утопию сегодня вполне конвенционален (в целом его вполне разделяют Фредерик Джеймисон, Том Мойлан и другие авторитетные исследователи утопического). Он сформировался не без влияния Луи Марена, полагавшего, что утопия выявляет скрытые, вытесненные, не проявленные в культуре социальные и когнитивные противоречия (впрочем, тут же их «нейтрализуя»); существенную роль сыграли и концепции, закрепляющие за утопическим текстом эффект «отчуждения» (Morson, 1981), «когнитивного остранения» (Suvin, 1979), «когнитивного диссонанса» (Pfaelzer, 1984) – продуктивного замешательства, благодаря которому читатель приобретает возможность увидеть собственный «настоящий момент» дистанцированно (Roemer, 2003: 63) и осознать его как момент исторический, вписать в исторический контекст (Ruppert, 1986: 166).
Только такой тип утопического чтения – предельно независимый от текста, настроенный на производство собственных альтернативных версий наилучшего общества – представляется Питеру Рупперту (и далеко не только ему) осмысленным и интересным. Рупперт настойчиво показывает, что все прочие варианты читательского обращения с утопиями обречены на фрустрацию и провал – утопия будет казаться скучной, наивной, авторитарной, неубедительной. Иными словами, единственный способ справиться с противоречивостью утопии – признать противоречия продуктивными и вдохновляющими; единственный способ преодолеть герметичность утопического письма, его непроницаемость для адресата – вступить с утопией в творческий диалог. Таким образом, будучи сторонником самых либеральных взглядов на литературную рецепцию и отстаивая читательское право на свободную трактовку, не ограниченную никакими устойчивыми представлениями об авторском замысле, Рупперт, по сути, не оставляет аудитории литературных утопий выбора – ей придется либо следовать «диалогической» модели, либо вовсе отказаться от заведомо обреченных попыток прочесть утопию. Если я и утрирую, то лишь с целью сделать более очевидными те «исторические ограничения» – в терминологии Рупперта, – в рамках которых существует привлекающий его способ воспринимать утопический текст.
Конечно, «активная», «диалогическая» модель утопической рецепции – как она описывается Руппертом и его коллегами – отражает потребности и тревоги читателя конца XX века, испытывавшего желание реабилитировать утопию, очистить ее от прямых отождествлений с катастрофами тоталитаризма и политического насилия, найти ей новое место в актуальном интеллектуальном ландшафте[12]12
О всплеске интереса к утопиям (начиная с 1960-х годов), который сопровождался переопределением задач utopian studies, см.: Moylan, 2000: 96.
[Закрыть].
Поэтому ценность концепции Рупперта (и причина ее довольно подробного разбора здесь) мне видится не столько в предложенной «позитивной программе» чтения утопий, сколько в том, что предшествует такому предложению, – в самой фиксации читательского замешательства, своего рода бессилия перед классической утопией. По большому счету мы не очень понимаем, как утопию читать. Она принципиально отказывает нам в ключах и подсказках, которые позволили бы с достаточной уверенностью судить о мотивациях утопического письма. Мы не знаем, к кому обращена утопия и для чего написана, – мы можем лишь строить более или менее убедительные догадки.
Но при всем широком диапазоне нередко исключающих друг друга догадок и интерпретаций, при всем многообразии литературных утопий, которые были созданы за последние пять веков (и которые тоже можно рассматривать как варианты утопической рецепции, варианты читательского отклика на «Золотую книжечку»), читатели имеют возможность ощутить на себе работу механизма узнавания. Мы узнаем утопическое пространство, как только сталкиваемся с ним в своем читательском опыте. Если такое узнавание происходит – вне зависимости от того, какой материал, какой текст послужил для нас дверью в утопию, – мы раз за разом возвращаемся в одно и то же знакомое место, пусть и модифицированное в результате очередного вмешательства чьей‐то фантазии. Этот механизм, безусловно, может быть описан в терминах узнавания жанровых канонов и формул – как оправдание ожиданий и «подтверждение подозрений», – но все‐таки он не сводится к жанровой проблематике.
1Что‐то как бы осталось полым, возникло новое полое пространство. Оно заполняется мечтами, и возможное (которое, скорее всего, никогда не сможет стать действительным) живет внутри.
Эрнст Блох. «Принцип надежды». (Перевод Л. Лисюткиной)
В представлении Луи Марена утопия – не столько жанр, сколько пространство (вненаходимое, неопределимое, присутствующее только в тексте etc.). Этот взгляд развивает и продолжает интуицию Эрнста Блоха, согласно которой утопия возникает постольку, поскольку появляется место для нее – специальная лакуна, полость в структуре человеческого восприятия реальности. Вообще, метафоры нового, дополнительного, не заполненного наличным миром и замкнутого в своих границах пространства так или иначе востребованы в разговоре об утопическом. Способом указать на такой «пространства внутренний избыток» может стать упоминание о «пространстве воображения», или «пространстве желания», или о «потенциальности». Более выверенный понятийный аппарат позволяет говорить о том же самом, скажем, в связи с проблемой репрезентации.
Примерно в этом ключе Михаил Ямпольский описывает «новоевропейскую» («классическую») репрезентацию: она возникает в ренессансной культуре как открывающееся пространство («область») «между реальностью и миром платонических идей <…> Но отношения репрезентации с идеями и реальностью никогда не бывают простыми» (Ямпольский, 2007: 5). Под классической репрезентацией Ямпольский понимает «особую форму представления реальности. Она основана на замещении некоего объекта его иллюзионным изображением. Отсутствие изображаемого замещается в ней иллюзией присутствия. При этом иллюзия почти никогда не достигает такой интенсивности, чтобы буквально обмануть зрителя или читателя. Иллюзия почти всегда не скрывает того, что она не обладает истинным бытием» (Там же). Такая репрезентация возможна лишь при наличии в культуре понятия субъекта, она опирается на субъектно-объектные отношения и отличается от известных ранее способов «копировать реальность» в первую очередь тем, что предполагает мимесис не «внешних физических форм мира», а «призраков души» – соответственно, «ее сферой <…> оказывается воображение», а «моделью <…> является сновидение, греза или видение» (Там же: 5–7).
Очевидно, что этому теоретическому ракурсу соответствуют инициированные Жаном Бодрийяром подходы к описанию культуры Нового времени через констатацию произошедшего и усиливающегося разрыва между знаком и референтом (Там же: 261). Утопия в этом свете будет выглядеть как предельный случай такого разрыва – коль скоро она, по предположению Марена, автореферентна. «Утопия… – пишет Фредерик Джеймисон, – это репрезентация, которая стала замкнутой настолько, насколько это возможно (а это, конечно, невозможно), автономной и самореферентной» (Jameson, 2005: 39–40).
Это, разумеется, не означает, что утопия в своем стремлении к автореферентности погружается в некий омут персонального фантазма. «Непростые отношения репрезентации с идеями и реальностью», которые упоминает Ямпольский, изначально связаны с представлениями об универсальной истине и универсальном разуме, то есть, как формулирует Марен, об «эквивалентности знаков, визуальных образов, вещей и идей», – они взаимопереводимы и оказываются втянуты в «великий обмен репрезентации» (Marin, 1990 [1973]: 206–207). Репрезентации благодаря подобной взаимопереводимости становятся своего рода экранами, позволяющими «осторожно исследовать мир» и «артикулировать бытие» (Ibid.). Таким образом, замечает Марен, пространство репрезентации (если только оно не остается «слепым пятном», не выносится за скобки в претензии на «точное», «адекватное» воспроизведение мира) может восприниматься как инструмент извлечения смысла, экстракта истинной реальности – и отсечения, отбраковывания всего случайного, единичного, исключительного.
Утопическое письмо, безусловно, основывается на использовании этого инструмента, но одновременно – на стремлении его блокировать. Оккупируя пространство репрезентации и, более того, обустраивая внутри него модель идеальной, образцовой репрезентации (экстракт смысла извлечен, шумовые помехи отброшены), утопия при этом – и, возможно, поэтому – заряжена интенцией остановить «великий обмен» (вернуться в состояние, в котором знак абсолютно соответствует референту), сделать работу механизма репрезентации невозможной.
Читательская потребность наладить коммуникацию с герметичным утопическим текстом, убедиться в том, что он говорит с нами и о нас (об известном нам мире, о том, что доступно нашему пониманию и имеет для нас значение), реализуется через попытки увидеть в классической утопии критический памфлет, или конституционный проект, или предсказание будущего; ту же потребность отражают исследовательские гипотезы о географических прототипах придуманного Мором острова (о них, напр.: Zubrycki, 2007: 274). Такого рода попытки действительно (тут нельзя не согласиться с Руппертом) почти всегда требуют дополнительного усилия и никогда не оказываются полностью удовлетворительными – за любыми интерпретативными рамками остается не до конца проявленный, но неизменный эффект столкновения с Другим, опыт инаковости, который провоцирует утопия. Именно этот опыт, скажем, позволяет Джеймисону рассматривать в утопическом ракурсе Зону из «Пикника на обочине» братьев Стругацких – пространство, заполненное абсолютно чужеродными объектами, на которые человечеству приходится смотреть непонимающими, не улавливающими смысла глазами, но которые оно пытается приспособить к собственным нуждам и собственным представлениям о пользе (Jameson, 2005: 73–74).
Утопия автореферентна (или, точнее, пытается быть автореферентной) прежде всего в том смысле, что она разрушает логику мимесиса, предполагающую первичность подлинника, оригинала – будь то платоновский «мир идей» или «реальный мир» в рамках референциальной иллюзии – и вторичность подобия (Жерверо использует в связи с утопией оксюморонный термин «немиметическая репрезентация» (Gervereau, 2000: 358)). Собственно говоря, так в первую очередь и достигается эффект герметичности. Утопическое пространство абсорбирует различные варианты понимания «реального» («подлинное», «истинное», «фактуальное») – однако наделяется именем, содержащим вполне прозрачный намек на нереальность, несуществование самого пространства («ου-τοπία»). В том, что утопический текст «подражает» фактуальным типам письма (от путевых записок до философского трактата) и при этом присваивает им фикциональный статус, мне видится нечто большее, чем жанровая проблема.
Мор уделяет довольно много внимания коммуникативной игре со своими первыми читателями, для которых фикциональный характер «Золотой книжечки» мог оставаться неочевидным. В работах, исследующих «Утопию» с позиций литературной теории, подробно анализируются вступительные письма к Петру Эгидию, в которых эксплицитный автор настаивает на своей скромной роли публикатора заметок путешественника Рафаила Гитлодея (одно из писем появляется в самом раннем издании книги; другое было написано для второго, парижского издания (1517) уже по итогам некоторых читательских откликов). Дискурсивная стратегия этого эпистолярия, как замечает Альберто Петруччани, заключается в чередовании довольно явных подсказок и их игрового опровержения, она строится «в основном на контрасте назойливо повторяемых уверений в подлинности описываемого и последовательном игнорировании имен собственных» (Петруччани, 1991 [1983]: 104). В подтверждение своих выводов Петруччани цитирует характерную моровскую головоломку:
Если бы не вынуждала меня верность истории, то я ведь не настолько глуп, чтобы по собственному своему желанию давать такие варварские, ничего не обозначающие названия, как «Утопия», «Анидр», «Амаурот», «Адем» (Там же: 106).
Делая вид, что не имеет к «варварским» именам никакого отношения, Мор, безусловно, побуждает читателей все же заметить их и расшифровать (в действительности все они образованы от древнегреческих слов с семантикой отсутствия или недоступности: река Анидр – от ανιδρος, «безводный»; столичный город Амаурот – от αμαυρος, «темный, неясный, туманный»; адем, должность главы утопического государства, – от α – δῆμος, «без народа»). Таким образом, Мор с увлечением балансирует между игровым уходом от авторской ответственности (ссылка на «верность истории» здесь подразумевает уклонение от позиции транслятора собственных идей, категоричного ментора, морального арбитра, вообще от любой субъектной позиции по отношению к тексту) и желанием быть разоблаченным.
Эта игра, в своей настойчивости даже способная казаться утомительной (Петруччани упоминает о том, что второе письмо Эгидию показалось Эразму Роттердамскому «откровенно скучным» и поэтому в издание, для которого сочинялось, оно так и не вошло), не выглядела непривычно для современников «Утопии» и, похоже, ничего не добавила к их восприятию книги. Самые простодушные читатели оставались нечувствительными к намекам и воспринимали заявления о публикаторской роли Мора буквально, более искушенные прочитывали «Золотую книжечку» через призму «идеального государства» Платона – как демонстрацию должного, как образец достигнутого общественного блага, как пример совершенного государственного устройства, на который необходимо ориентироваться:
– Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет.
– Но может быть, есть на небе его образец, доступный каждому желающему; глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно – это совсем не важно. Человек этот занялся бы делами такого – и только такого – государства (Платон, 1994: 388).
Мор, бесспорно, имеет в виду возможность такого прочтения; «Золотая книжечка», как формулирует Петруччани, «прямо‐таки изобилует аллюзиями» (Петруччани, 1991 [1983]: 102) – и на платоновские диалоги, и (пусть менее явно) на другие античные и средневековые тексты, в которых речь так или иначе заходит о несуществующих государствах. Однако, слишком акцентированно обыгрывая границу между правдивой историей и вымыслом, примеряя на себя роль нейтрального публикатора и вместе с тем настойчиво давая понять, что под этой маской скрывается другая роль – создателя воображаемого мира, автор «Утопии» привлекает внимание к рубежу, за которым, собственно, начинается утопия.
Платоновские диалоги об идеальном государстве, лежащие не в области воображения, а «в области рассуждений», в действительности довольно далеки от того, что мы сегодня привыкли считать утопией. Их задача – не описать, а понять, логически реконструировать образец, который, «может быть, есть на небе», «разобрать» его законы. В этом смысле Атлантида, лишь бегло упомянутая в диалоге «Тимей» и толком так и не описанная в диалоге «Критий» (описание прерывается, едва начавшись, – как отмечают комментаторы, «на самом интересном месте»[13]13
См. примечания Алексея Лосева в изд.: Платон, 1994: 622.
[Закрыть]), – всего лишь объяснительная модель, схематичная иллюстрация, необходимая в рамках строгой мыслительной процедуры. Показательно, что Петруччани, придерживаясь скорее взгляда на утопию как на некий вневременной «архетип» (с чем мне сложно согласиться), но все‐таки полагая, что Мор изобретает для этого архетипа новые жанровые рамки, характеризует дошедшие до нас более ранние опыты моделирования несуществующих государств именно как недостаточно описательные, слишком фрагментарные и «декларативные» (Там же: 99).
Остров Утопия оказывается в гораздо большей степени видимым, утопический текст провоцирует визуальное воображение (Gervereau, 2000: 357) – это вполне согласуется с ракурсом, в котором Ямпольский рассматривает новоевропейскую репрезентацию, определяя ее в первую очередь как «визионерскую» и говоря об утопии в контексте ренессансных архитектурных проектов «идеального города» (Ямпольский, 2007: 231–249). Желание увидеть утопию и открывающаяся возможность ее вообразить прямо связаны с тем, как устроено пространство репрезентации, – с той «иллюзией присутствия», которую оно производит. Указывая путем прозрачных намеков на условную, фиктивную природу репрезентации, «Утопия» Мора задает контекст восприятия такой иллюзии и при этом пытается достичь ее предельных форм – репрезентировать не просто отсутствующий, но несуществующий объект. Визуализация утопий, вообще говоря, весьма специфична: исследуя утопическую иконографию, Жерверо отмечает прежде всего ее редукционистский и тавтологичный характер (Gervereau, 2000); к этой теме стоит вернуться позднее, пока же важно подчеркнуть особое свойство утопической образности – она может быть вдохновенной и вдохновляющей и в то же время воспроизводиться на грани несуществования.
Последовательность в восприятии утопического острова как безупречного образца потребовала бы признать, что модель совершенного государства здесь помещена в никуда – Утопии (в том виде, в каком она задумана и описана Мором) нет ни на земле, ни, в отличие от идеального государства Платона, на небе. Разумеется, первые читатели «Золотой книжечки» и первые авторы аналогичных книг легко научились не замечать, игнорировать подобные знаки несуществования – прежде всего, конечно, через попытки смоделировать христианскую версию утопии. Предполагается, что Христианополис Андреа или Новая Атлантида Бэкона устроены в полном соответствии с Божественным замыслом о человеческом обществе и, следовательно, являются лишь медиаторами должного, лишь репрезентируют образец. Однако сам Мор подобных (с христианской точки зрения довольно опасных) ходов избегает. В подтверждение этого тезиса можно было бы коротко указать на принятую у утопийцев свободу вероисповедания (за исключением, правда, запрета на атеизм) и на то, что Рафаил Гитлодей называет утопические верования «ересями», но главка «О религиях утопийцев» организована настолько замысловато, что требует отдельного разговора – ну или, как минимум, небольшого отступления.
Вначале нам сообщается, что «религии утопийцев отличаются своим разнообразием» (Мор, 1953 [1516]: 196), затем – что доминирует все же одна, наиболее «благоразумная» – некий предельно универсальный, нейтральный (Луи Марен одобрил бы это слово) монотеизм. Таким образом, Утопия оказывается благодатным полем для христианской миссионерской деятельности – вскоре мы узнаем, что «немалое количество» утопийцев заинтересовалось христианством, впервые услышав о нем от Гитлодея и его спутников:
Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование; причиной этому могло быть или тайное внушение божие, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существующей у них, и что она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах (Там же: 197–198).
Многие утопийцы даже принимают крещение водой (правда, все прочие таинства остаются для них пока недоступными, поскольку среди путешественников-христиан не оказалось священника). Однако введенный Утопом закон о свободе вероисповедания продолжает действовать – как выясняется дальше, основатель Утопии в свое время намеренно оставил вопрос о религиозной истине нерешенным, в том числе и для самого себя:
Утоп не рискнул вынести о ней <о религии> какое‐нибудь необдуманное решение. Для него было неясно, не требует ли бог разнообразного и многостороннего поклонения и потому внушает разным людям разные религии. <…> Но, допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп все же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собою; но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко (Там же: 200).
Эти размышления воспроизводятся в традиционной молитве утопийцев, пересказанной в финале главки:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?