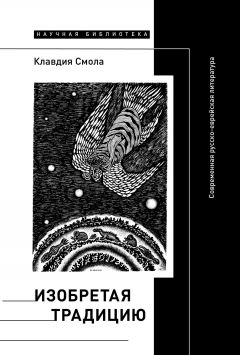
Автор книги: Клавдия Смола
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Эли Люксембург родился в Бухаресте и вырос в Ташкенте; в Советском Союзе он был известен как боксер и спортивный тренер. Уже во второй половине 1960‐х годов он подал документы на выезд в Израиль и эмигрировал в 1972 году, после нескольких лет отказа. Обращение Люксембурга к иудаизму и в иудаизм, как и занятия каббалой до репатриации, отражены в его текстах: исход и всю историю еврейского народа он неизменно рассматривает в свете веры и провидения и потому считается «религиозным писателем-мистиком» [Люксембург Эли].
Психиатрический дискурс, который играет важную роль в произведениях еврейских и нееврейских диссидентов – указывая, с одной стороны, на кафкианские карательные механизмы и иррациональность всесильного государства, а с другой – на реальную психическую уязвимость восстающих против него людей, – в прозе Люксембурга становится ключевым мотивом. Страстное желание героев «Третьего храма» и «Десятого голода» вырваться из советской «империи зла» и достигнуть Палестины оборачивается непоправимым ущербом, болезнью, которая порождает вторую, магическую действительность фантазий и веры, в конце концов не давая ответа на вопрос о реальности и причинах происходящего.
Действие повести «Третий храм» разворачивается в психиатрической больнице в Таджикистане. Страдающий манией преследования и галлюцинациями Исаак Фудым, от лица которого ведется повествование, на момент действия почти достроил у себя в уме третий Храм на горе Сион; он убежден, что живет на своей возлюбленной родине – в Израиле. Идеей переселиться на Святую землю одержим и его сосед по палате, Натан Йошпа, которому постоянно снится, что в последний момент ему не удается сесть в уже взлетающий самолет; каждое утро, когда действие сделанного перед сном укола заканчивается, Натан просыпается в слезах и отчаянии. Для воплощения своей мечты ему, как несколько презрительно заключает Исаак, недостает силы воображения: «В своем желании поселиться на родине он не дошел, очевидно, до последних границ отчаяния»174174
Здесь и далее цитируется более поздняя, переработанная версия текста, см.: [Люксембург 2008].
[Закрыть].
Карикатурной выглядит фигура профессора медицины Кара-хана, который рассматривает Исаака как интересный научный объект и тщетно пытается его гипнотизировать. О причастности Кара-хана к карательной медицине советского извода говорит тот факт, что врач исследует загадочную болезнь «палестиноманию»175175
«Палестиномания» – это явно эвфемистический синоним «сионизма», слова, которое после Шестидневной войны снова стали использовать в советской прессе в пейоративном смысле.
[Закрыть], надеясь излечить Исаака при помощи нового метода психоанализа. Дихотомия двух точек зрения подчеркивается полной недоступностью для профессора истинных устремлений Исаака, а идею строительства храма доктор считает неким странным, еще не изученным комплексом. Он размышляет об интересе Исаака к «какому-то Иудейскому Храму, павшему двадцать веков назад», о котором «во всем прогрессивном мире и память изгладилась». Однако страдающий паранойей Исаак принимает беседы с Кара-ханом за допросы и с легкостью водит врача за нос. В повторяющихся аллегориях разворачивается ассоциация больницы с преисподней. Так, в воображении Исаака грубый, мускулистый надзиратель Славик предстает в образе «библейского гада», могучего удава с «дегенеративным личиком» и «смрадным дыханием».
Повествование «Третьего храма» проникнуто особым дуализмом, поскольку колеблется между как будто объективным изложением событий и перспективой больного Исаака Фудыма. Незаметно для других в тоскливой больничной обстановке встает во всем своем великолепии волшебная, сюрреалистическая, возвышенная реальность древней библейской Иудеи:
Храм сооружался во дворе лечебницы, как раз между отхожим местом и скотным двором. Никто, понятно, Храма его и в глаза не видел. Храм этот строился в одном воображении гениального зодчего, который в любую погоду, в зной и стужу, пропадал на строительной площадке.
Символично, что стена с колючей проволокой загораживает Исааку вид на его шедевр. Нарочитое раздвоение действительности на полярные сферы высокого и низкого напоминает о романтическом мотиве безграничной творческой силы художника, ушедшего в мир своих возвышенных видений, а в пределе – и впавшего в безумие; если же учесть неразрешимую, почти пародийную амбивалентность процитированного фрагмента, очевидным становится прием романтической иронии. Помимо этого, здесь просматривается и более близкая историко-литературная параллель – отсылка к неоромантически-дуалистической концепции романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором затравленный тоталитарной властью, измученный и страдающий паранойей Мастер тоже спасается (мнимым?) безумием. Непосредственным заимствованием из булгаковского претекста кажется магическое сосуществование двух временных и событийных пластов: далекого, библейски-притчевого, созданного фантазией Мастера – и уровня «реальной» современности, рисуемой в гротескно-сатирических тонах. Как и мир тайного романа Мастера, мир фантазий Исаака изображен детально и эпически, что сообщает ему статус своеобразной реальности, «легитимирует» его, наделяя нарративной автономией:
И вправду, стоял на Святой Земле трудный месяц ияр, самый неудобный для тех темпов, с какими строили иудеи свой Третий Храм. Свистели, крутились по стране песчаные хамсины вперемежку с дождем и градом. И размыты были дороги, тяжело приходилось многочисленным обозам одолевать на пути в Иерушалаим смрадные болота с ползучими библейскими гадами, кручи над пропастью в больших и малых горах.
Вместе с тем описания воображаемой Иудеи сохраняют признаки несобственно-прямой речи и потому никогда не переходят границ сознания Исаака окончательно:
К тому же великое множество проходимцев и шарлатанов являлись под стены Храма, выдавая себя Бог знает за кого! То это были современники царя Соломона, то люди Нехемии-пророка, люди Второго Храма. И льстили зодчему: «В наши дни не знали подобного энтузиазма!»
Тот факт, что Исаак постоянно уличает как реальных, так и воображаемых лиц в болезненном расстройстве идентичности или обмане, иронически отражает его собственное состояние.
Трагизм фигуры Исаака становится все более очевидным: до мельчайших подробностей продуманная идея третьего Храма говорит о мощном творческом воображении зодчего, о его сокровенном чувстве принадлежности к еврейству и тонком знании еврейской истории. В видении Фудыма исполняются тысячелетние иудаистские чаяния – Ковчег Завета со скрижалями Моисея снова перенесут в святая святых Храма; само здание, с одной стороны, цитирует архитектуру двух первых разрушенных Храмов и так восстанавливает прерванную историко-религиозную преемственность, с другой – архитектонически «рассказывает» всю многострадальную историю еврейской диаспоры, обогащаясь уже современными художественными стилями. Зал жертвоприношений посвящен катастрофе еврейства: символические сцены показывают человека, который, пройдя через ад концлагерей, «озаряется истиной». На этих росписях овцы, аллегорически изображающие порабощенных евреев диаспоры, по ту сторону колючей проволоки превращаются в львов – евреев, которые «пробирались на родину через всю послевоенную Европу».
Притча об овцах и льве – ключ к пониманию образа Исаака, ее сюжет обнаруживает прозрачную связь с его биографией, постепенно проступающей из намеков и обрывков. Желая ввести профессора в заблуждение, Исаак пересказывает тому вымышленный сон, в котором его в пустыне «усыновило» стадо кротких овец; мало-помалу самые тучные начинают исчезать одна за другой. Отару ревностно стерегут вожак и волкодавы, пресекающие любую попытку узнать хоть что-нибудь о судьбе пропавших. Когда в один прекрасный день стадо доходит до края пустыни, контроль усиливается, сам же сновидец замечает льва, который говорит, что рассказчика обманули, и призывает того подняться и взглянуть на свое отражение в луже. Дрожа от страха, Исаак видит в воде, что он не овца, а лев. На этом сон обрывается. Профессор выдвигает не такое уж далекое от истины предположение, что заплутавшие в пустыне овцы символизируют скитания еврейского народа, а в событиях на краю пустыни отразилась реальная попытка побега Исаака в Израиль через афганскую границу.
Как оказывается, безумие Исаака, его видения и эта притча черпают свою мифологическую событийность из пережитой травмы и, поддаваясь дешифровке, раскрывают глубокий комплекс вины и жажду искупления. Исаак Фудым, некогда заслуженный капитан артиллерии Советской армии, в мае 1945 года был в числе освободителей концлагеря под местечком Вульфвальд. Признав в Фудыме своего соплеменника-еврея, заключенный Лейвик просит героя помочь ему вместе с небольшой группой других освобожденных евреев бежать в Палестину и тем самым осуществить их мечту, рожденную среди невообразимых страданий. Опасающийся ЧК Фудым без особого энтузиазма сообщает о своей готовности помочь, однако смотрит на «оборванцев» и «жалких доходяг» свысока176176
Анализируя роман Даниэля Ганцфрида «Отправитель» («Der Absender»), Доротея Гельхард пишет о распространенных в концлагерях выражениях «доходяга», «верблюд», «кретин», «пловец», «урод»: такими кличками «называли узников, которые потеряли всякую надежду, вплоть до утраты дара речи, и превратились в тени. Остальные узники, в том числе и те, кто выжил, относились к этим дошедшим до крайнего истощения людям […] с презрением» [Gelhard 2008: 136]. Цинично используя эти стигматизирующие клички, Исаак Фудым совершает грех против жертв шоа, риторически принимает на себя роль палачей – как немецких, так и советских.
[Закрыть]. Позже он начинает приходить к евреям и беседует с ними; однажды вечером Лейвик, преисполненный профетической веры в истинность избранного пути, пытается уговорить Исаака ночью вместе бежать «на родину». Фудым, еще веривший тогда в светлое советское будущее после победы, отказывается. Когда Лейвик говорит ему, что ЧК все равно уже заметила их запретный контакт, Фудым в панике выхватывает пистолет и убивает Лейвика. Отбыв многолетний срок в сибирском лагере «за измену родине», Исаак пытается бежать через границу в Израиль, попадается и оказывается жестоко избит молодыми пограничниками.
С той поры Исаака мучают бессвязные воспоминания и головные боли; тогда же началась его одержимость идеей заново возвести Храм, в своей душе перенести его в Иерусалим и вместе с Лейвиком, которого он страстно надеется снова увидеть живым, совершить «восхождение» (на иврите – «алию», так что восхождение к библейскому Храму напрямую связывается с репатриацией в Израиль). Одержимость Исаака отсылает к словам Лейвика: «Ты и я, мы встретимся дома, на нашей родине […]. Построим мы Храм, восстановим его во всем великолепии и славе. Мы найдем наши утерянные скрижали» – и к духовной трансформации, пережитой в лагере. Там Исаак обменивался с единомышленниками знаниями о библейской истории, истории диаспоры, богословии и литературе и «кончал факультет своего народа». Там он посмотрелся в лужу и увидел свое отражение. Теперь он, подобно Лейвику – его недостижимому идеалу и больной совести, – прошел через тюрьму и предпринял тщетную попытку достичь Палестины. Встречу с Лейвиком Исаак считает поворотной точкой и ниспосланным свыше испытанием, которого он не выдержал.
В (ир)реальности повести Исааку в конце концов удается бежать из больницы. На улице за ним увязывается какой-то старик, которого он сначала принимает за шпиона из окружения профессора Кара-хана, потом, после беседы в автобусе, за сумасшедшего и, наконец, за ангела-хранителя. Старика зовут Авраам, и на коленях он держит ягненка: значит, он не кто иной, как праотец Израиля. На этой параллели основана миссия незнакомца: он должен взойти на гору со своим сыном Исааком, чтобы выдержать испытание Бога. Ягненок же будет принесен в жертву во искупление смертного греха Исаака: старик хочет отвратить от последнего неминуемое наказание Всевышнего суда за убийство Лейвика. Получается, что это испытание Исаака, а не Авраама. Поскольку Авраам является частью библейской реальности и к тому же прекрасно осведомлен о преследующем Исаака чувстве вины за убийство Лейвика, старика можно принять за плод больного воображения. Однако тот факт, что настоящих родителей Исаака, которых он перестал узнавать, тоже зовут Авраам и Сарра, намекает, что речь здесь идет о подлинной, пусть и таинственной, встрече отца и сына. Когда Авраам по пути через горы упоминает профессора Кара-хана, Исаак окончательно решает, что это шпион, подосланный врачом; в панике он камнем убивает ягненка: «Смерть жертвенного агнца потрясла Авраама суеверным ужасом. В смерти этой открылось ему решение Всевышнего Суда». Вторым камнем Исаак поражает своего отца Авраама.
В состоянии полной эйфории Исаак поднимается на гору, по пути формулируя новые заповеди, которые будут высечены на скрижалях в восстановленном Храме: «Не будь сторожем брату своему!», «Пусть к каждому придет лев и возьмет его в братья!», «Пусть каждый окончит факультет своего народа!». Однако над головой у него неумолимо растет огромная черная туча, которую Исаак толкует как гнев божий, и напрасно зовет он своего «брата» Лейвика:
Сверкнула молния и ослепила зодчего. И громовой голос пронзил его насквозь. Дрогнули колонны Храма, зашевелилась свинцовая кровля […] И чтобы спасти Храм от этой катастрофы, он бросился бежать от этого места. Не отдавая себе отчета, ослепший и оглохший, он достиг края площадки и сорвался вниз.
Финал задает разные толкования. Если считать «Третий храм» политической аллегорией, то помутнение рассудка и гибель Исаака – это трагический крах советской алии в борьбе с коммунистическим Левиафаном. Несложное послание притчи об овцах и льве, как и программных религиозных заповедей Исаака Фудыма, равно как и сама его биография – тернистый путь духовного превращения из коммуниста в сиониста, – делают повесть политическим манифестом эпохи. Первая из приведенных заповедей восстает против государственного насилия; вторая призывает к взаимопомощи и просвещению; в третьей подчеркивается важность национального (само)образования для утративших свои традиции. Отсутствие национального сознания, некогда помешавшее Исааку Фудыму и Натану Йошпе воспользоваться шансом на возвращение, – грех истории: «Разве их это вина, что выросли они такими слепцами, лишенные национального воспитания?» Иудаистской традиции следует концепция исторической избранности Израиля, который служит Богу для репетиции «предстоящего слияния границ и народов на земле древнего Ханаана» и потому выполняет особую миссию страдания. Конкретный же политический смысл собрание евреев галута обретает лишь на фоне молодого еврейского государства.
Однако на более глубоком смысловом уровне повесть говорит еще и о непоправимой исторической вине евреев диаспоры, здесь русско-советской, перед собственным народом: из страха, незнания и оппортунизма Исаак убивает узника концлагеря и тем – по собственному более позднему суждению – предает «еврейскую родину». Для Люксембурга – автора, пишущего с точки зрения алии и об алии, – речь идет о роковом отречении евреев галута от себя: отягощенный этой виной, Исаак никогда не попадет на родину177177
Здесь Люксембург отсылает к еврейской религиозной концепции истории, в рамках которой современные катастрофы объясняются виной «непослушного и забывчивого народа Израиля» [Ассман 2004: 221].
[Закрыть]. Кроме того, убийство еврея шоа связано с идеей иного тяжкого коллективного преступления – советского антисемитизма и табуирования холокоста в Советском Союзе. Арестованный после убийства Лейвика, Исаак сам превращается в жертву юдофобии: «Пошарьте жидовскую падлу поглубже, он еще что-то прячет, – завизжал лейтенант. – Пошарьте, ребята, по-настоящему! Они все заодно!»
Заключительный эпизод, напротив, намекает на очищение и спасение Исаака, достигнутые через страдание, покаяние и смерть: за совершенный грех проливается кровь не только агнца, как в библейском источнике, но и самого героя. В конце старик Авраам (как оказывается, все же не убитый камнем) посыпает голову пеплом сожженной одежды Исаака и молит Бога даровать покой душе сына.
Как и весь текст, в котором не проводится четкой границы между событиями вне и внутри мира героя, фигура Исаака амбивалентна. Он сумасшедший, который в гибельном ослеплении, напоминающем об античных трагических героях, принимает родного отца за врага и бросает в него камень, и отважный одиночка, мудрец, чьему мысленному взору открыта чудесная, утопическая действительность, царство духа и веры. Повествовательная структура предполагает мистическую многомерность сюжета, порождая концепцию иррационального как смыслообразующего. Вместе с тем мир иудаизма и еврейского знания изображается как обреченный при советской власти именно на тайное, призрачное, эфемерное, чисто умозрительное существование. Тем самым трагически заостряется сама суть еврейской религиозной традиции, поскольку здесь доводится до абсурда исконная для еврейской диаспоры идея духовного Израиля, не связанного с реальной территорией или с материальным храмом, и родины, существующей лишь в вере178178
См. об этом: [Ассман 2004: 231–232].
[Закрыть]: культ окончательно теряет связь с реальностью, безнадежно и без остатка отрываясь от коллективного и потому приобретая черты аутистического фантома. Однако как раз здесь творчество Исаака, противоречащее всякому здравому смыслу, и его упорная память о традиции выступают как форма внутреннего сопротивления.
Третий Храм, выведенный в заглавие повести, становится центральным тропом текста. Взобравшись на гору, Исаак собирается выдержать последнее испытание веры, олицетворяя – как и патриарх Авраам в еврейской Библии – весь народ Израиля. Подобно тому, как опыт вавилонского пленения и последующего разрушения второго Храма играет решающую роль для экзегезы истории Авраама, так и история галута советских (и не только) евреев предваряет и объясняет сюжет Люксембурга. В литературном переписывании мифа179179
О разнице между структурной (например, сюжетной) и материальной интертекстуальностью см.: [Plett 1991: 7]; о похожей классификации интертекстуального отношения смежности и сходства см.: [Lachmann 1990: 38–39].
[Закрыть] искушение и грех отпавшего от веры народа израилева преодолеваются через катарсис духовного подвига – возведения нового Храма – и смерти. Однако разрушение третьего Храма, который гибнет вместе со своим зодчим, не только предстает расплатой за апостазию, но и диалектически ставит под сомнение саму возможность возвращения и, соответственно, прощения: бог явлен в «Третьем храме» исключительно в своем «ветхозаветном» обличье – он карает и воздает. Разрыв цепи преемственности, символизируемый убийством еврея Лейвика, маркирует непреодолимую цезуру, ставящую под вопрос религиозное и историческое будущее еврейства после холокоста и коммунизма. И все же страсть, духовная созидательная сила, смелые иудаистские видения и покаяние, определяющие путь Исаака к своему еврейству, оставляют надежду на грядущий исход.
«Десятый голод» – религиозно-философский, психологический и криминальный роман и, пожалуй, вершина художественных размышлений автора на тему позднесоветского исхода. Прием «шифровки» смыслов и событий повествования, играющего как с линейностью времени действия и воспоминаний, так и с правдивостью реконструируемых событий, связывает его с повестью «Третий храм». Фабульные апории, порождаемые субъективностью повествовательной точки зрения, усиливаются благодаря нарративной многозначности текста, сплетенного из многочисленных интертекстуальных нитей. Из повести «Третий храм» в роман переходят не только ключевые темы душевной болезни героя-одиночки, одержимого идеей религиозной миссии, вины, вероотступничества и еврейской борьбы, а также концепция мистического дуализма, но и некоторые персонажи, например, отец Исаака Фудыма Авраам, который после событий повести сам лишился рассудка и теперь уверен, что найдет своего сына живым в Израиле.
Роман представляет собой записки Иешуа Калантара, состоящие из обрывков воспоминаний, заметок о происходящих событиях, внутренних монологов, религиозных и философских рассуждений и духовных откровений. Иешуа находится в психиатрическом отделении Главного полицейского управления Иерусалима под пристальным наблюдением нескольких врачей. Его прибытие или, вернее, путь в Иерусалим потрясают весь Израиль и вызывают поток газетных статей с заголовками «Иешуа из преисподней» [Люксембург 1992: 19] или «Служившие Богу ногами» [Там же]; согласно оценке лечащего врача, имя его пациента прочно войдет в историю сионизма. Однако Иешуа сломлен душевно и изможден телесно, палата напоминает тюремную камеру, а постоянное медицинское наблюдение мучительно (лейтмотив его исповеди – ужас от прикрепленных к телу многочисленных проводов) и продиктовано отнюдь не только медицинскими причинами: героя, пришедшего в Святую землю из Узбекистана под землей, подозревают в шпионаже по заданию арабских и/или советских спецслужб180180
На интернет-странице Люксембурга описано, как сотрудники советских органов госбезопасности, прочитав об этом в рукописи романа, приняли вымысел за настоящий заговор и пытались выведать у автора информацию о нем: «Смешно вспоминать, самым серьезным образом пытали меня по поводу тайной группы евреев, пытавшихся под землей, пещерами бежать в Израиль. Когда я им говорил, что это сюжет сюрреалистического, мистического романа, существующего в моем воспаленном, больном сознании, они мне не верили. К счастью, через много лет этот роман написался, и вышел в Израиле несколькими тиражами, получив целый ряд престижных премий, был переведен на ряд языков» (Люксембург Э. Автор о себе // Официальный сайт писателя Эли Люксембурга [https://eliluksemburg.wixsite.com/luksemburg/lifestyle]).
[Закрыть].
Контраст между духовной миссией Иешуа и борьбой геополитических сил, в которую он оказывается замешан, становится концептуальной антиномией книги. Поэтому одни и те же территории – прежде всего Израиль как реальное государство и как священная земля патриархов – задают двойную семантику, причем примирить две эти основополагающие для истории Израиля топографические модели не представляется возможным. Из воспоминаний Иешуа, которые в силу своей фрагментарности порождают все больше загадок, встает картина беспрецедентного предприятия: группа бухарских евреев под предводительством польского хасида и каббалиста, пережившего шоа ребе Вандала, решает перебраться в Иерусалим через тайный подземный тоннель. Влияние ребе Вандала обусловлено его всеобъемлющими религиозными познаниями и необыкновенной духовной силой: она выражается, в частности, в совершенном отсутствии страха перед властью и даре чудотворства181181
В частности, ребе Вандал не допускает расстрела узников концлагеря, куда его интернируют во время войны, и вызволяет Иешуа из-под советского ареста: тот оказался втянутым в дело об убийстве и подвергся манипуляциям со стороны антисемитски настроенных государственных органов.
[Закрыть]. Именно судьбоносная встреча с ребе подталкивает Иешуа к решению отправиться в мучительный «путь домой».
Для кучки переселенцев, которые последовали за ребе Вандалом, Иерусалим воплощает собой освященное иудаистской традицией духовное место, поэтому новый исход и возвращение, показанные глазами Иешуа, вплетаются в плотную паутину коннотаций, отсылающих к единственному истинному прототексту – Библии и восходящей к ней еврейской мистике. Предание и притча заново обретают смысл здесь и сейчас: непосредственно переживаемые в настоящем чудесные события подтверждают духовную преемственность, незыблемость древней веры: в потайном подземном тоннеле Иешуа замечает несколько проплывающих мимо странных фигур, бесплотных и светящихся:
Они плыли мимо в жутком фосфорическом свете, а я воскликнул испуганно: «Ребе, что это, ребе?»
– Души евреев, – сказал он спокойно. – Где бы еврей ни умер, его душа идет в Иерусалим, ибо в день Воскрешения мертвых там вострубят в трубы, и каждый будет судим [Люксембург 1992: 16].
Представление о душах умерших как искрах света восходит к еврейской каббале: «…отдельная душа в иудаизме и, соответственно, в каббалистическом языке обозначается как искра, которая излучается (эманируется) „высшим“ светом» [Maier 1995: 225]182182
В постсоветской еврейской прозе мотив этот подхватывает Олег Юрьев; ср. его роман «Новый Голем, или Война стариков и детей» (2003). См. об этом: [Krutikov 2004: 5].
[Закрыть]. Кроме того, оно отсылает к уже упомянутому в предыдущей главе видению пророка Иезекииля со словами Творца: «вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву» [Иез. 37:12]. Мотив же подземного путешествия в Святую землю отсылает к еврейским народным верованиям, к мидрашам183183
Виктория Мочалова указывает на упоминание в мидраше Вайехи тоннелей, созданных Богом для перемещения душ умерших евреев в Эрец-Исраэль: воскресение ожидает всех чад Израиля лишь на Святой земле [Мочалова 2008: 43].
[Закрыть] и хасидским легендам, «означивая» Израиль как сакральное место. Хая Бар-Ицхак пишет о наличии этого мотива, например, в легендах о происхождении польско-еврейской диаспоры: там он передает идею тайной географической связи между польскими евреями и священным местом – Израилем; такая связь легитимирует богоизбранность Польши как места проживания евреев: «…пространственная связь Польши с Землей Израиля осуществляется через подземный проход, ведущий из синагог диаспоры в Израиль, или через камни Иерусалимского Храма, встроенные в стены местной синагоги» [Bar-Itzhak 2008: 170]. В изложенной Мартином Бубером хасидской легенде Баал-Шем-Тов отправляется по предложению карпатских разбойников в Святую землю: разбойники ведут его «в Землю Израиля, но особым путем – через пещеры и ходы в земле». Однако, увидев «пламенный меч, запрещавший ему следовать дальше», Баал-Шем поворачивает обратно («Разбойники» [Бубер 2006: 65]). Виктория Мочалова также упоминает польскую легенду о «белом ребе», который навсегда исчезает в лесной пещере, ведущей в Израиль [Мочалова 2008: 38]. В хасидской литературе известен мотив божественного запрета на путешествие в Святую землю и связанных с этим препятствий и страданий [Там же: 39]: Люксембург обращается к этому мотиву, изображая подземный путь своих героев в Израиль как смелый духовно-религиозный переход и в высшей степени скорбное, полное утрат предприятие. Так, ведущее в Израиль ущелье в процитированной Бубером легенде «было сырым и топким», а в «Десятом голоде» Иешуа описывает пещеру, по которой они шли, как «гиблое подземелье, разящее склепом и сыростью» [Люксембург 1992: 73].
Показателен иронически утвердительный ответ Иешуа на вопрос израильской службы безопасности, не нашел ли он в пещерах сокровищ и драгоценных камней: герой рассказывает о виденном им благородном «пещерном жемчуге» – душах умерших евреев [Люксембург 1992: 274]: опыт живого чуда постоянно сталкивается с неверующим рацио и мыслящей в категориях войны и выгоды, всеохватной полицейской системой здесь, в Израиле, и там, в советском галуте. Парадигматические для еврейской религиозной мысли сюжеты и образы, которые упоминаются в беседах Иешуа с врачом: освобождение еврейского народа из египетского рабства духовным вождем Моше Рабейну (Моисеем); гробница Рахили близ Вифлеема и плач праматери о своих детях, – вызывают в памяти архетипические сцены изгнания и бесправия евреев, однако вместе с тем и надежду на успех сопротивления и божественное милосердие. Центральная для литературной идеологии Люксембурга тема смертного греха, нарушения нравственной или религиозной границы, преступления и (веро)отступничества воплощается в аллюзии на кровавое злодеяние Каина: обнаруженного без сознания Иешуа доставили в больницу из пещеры, в которой, по легенде, свершилось библейское братоубийство. Причина предательства осмысляется лишь позже.
В демонстративном отказе повествовательной точки зрения от ценностей модерности и рационального знания реализуется модель непоправимо раздвоенного, дихотомического мира; реальный Иерусалим противопоставляется божественному, настоящая война – духовной, материальные богатства враждующих государств – сокровищам духа, мир неопровержимых свидетельств – миру незримых духовных событий. В этой реальности оккультная, каббалистическая вселенная – удел немногих избранных, но при определенных обстоятельствах эти носители тайного знания могут вмешиваться в сферу материального. Герой же и искатель Иешуа разрывается между светом и тьмой, его жизнь – непрекращающееся нравственное испытание в духе средневековой мистерии, инсценирующей битву добра со злом.
В образе ребе Вандала Люксембург рисует портрет исключительной личности, способной духовно противостоять монструозному государству и, подобно Моисею, отважиться на исход. На уровне морфологии повествования [Пропп 1928] ребе Вандал – помощник и наставник, необходимый для сюжета воспитания184184
О реальном прототипе ребе Вандала Люксембург рассказывает в интервью Хаиму Венгеру: «…позже я ввел в роман ребе Вандала, прообразом которого послужил мой спаситель, ребе Хаим-Занвиль Абрамович» (Венгер Х. Певец возвращения // Официальный сайт писателя Эли Люксембурга [https://eliluksemburg.wixsite.com/luksemburg/–c3br]).
[Закрыть]. А топос пути как движения в пространстве и одновременно духовного движения вновь обретает у Люксембурга семантику восхождения, «алии»: подземное путешествие совершается с непоколебимой мыслью о библейском исходе – ребе убеждает своих последователей отказаться от снаряжения, подготовленного ими для рискованного, едва ли не невозможного пути, так как им поможет «легион помощников» [Люксембург 1992: 72]:
Разве тащили мы что-нибудь на себе, когда шли из Египта? Все предметы, все вещи переносило Чудесное Облако […] вещи всегда будут с вами, вы их найдете, когда хотите! [Там же: 71–72]
Сидя на мешке с пеплом, ребе горюет о разрушенном Храме, как некогда «пленники императора Тита – свидетели гибели Храма и Иерусалима», а впоследствии учитель самого ребе, «знаменитый галицийский цадик, а тот принял сей обычай от своего учителя – гаона земли Баварской» [Там же: 64]. Память о библейских событиях, не прерывавшаяся нить веры не только определяют сознание восставших, но и спасают им жизнь: старому безумному Фудыму удается в одиночку расчистить выход из пещеры, заваленный огромными валунами, потому что он твердо верует в то, что его сын Исаак, передвигая «стотонные блоки», своими силами построил третий Храм. В результате случается чудо: «камни тронулись и поехали» [Там же: 75].
Портрет ребе Вандала насыщен отсылками к еврейскому фольклору и хасидско-каббалистическим преданиям. Обращение к агаде, еврейской агиографии и хасидским легендам с их центральным мотивом чудотворства цадиков – фон, на котором совершаются политические битвы и ядерные войны: в романе знаменитый антимаскильский пафос сверхрациональной логики хасидов переводится в советско-израильское настоящее. Мнимый алогизм мышления ребе напоминает многочисленные истории о странных, управляемых скрытой логикой решениях хасидских ребе. Остраненная сфера святой архаики в эпоху военной технократии и высокоразвитых спецслужб – контраст, несущий на себе апокалипсическую концепцию романа: современность – время духовной амнезии, проникнутое близостью глобальной катастрофы; как и в «Лестнице Иакова», в беспамятную современность проникают предостережения из далекого прошлого – из Торы и книг пророков; наступают (последние) времена духовной жажды, десятого голода.
Система иудаистских аллюзий «Десятого голода» отсылает к интеллектуальной атмосфере написания романа – периоду изучения религиозной литературы в среде подпольной еврейской интеллигенции, вместе с тем она содержит в себе и более конкретные топографические аллюзии. Выросший в Узбекистане Люксембург обращается к среднеазиатскому еврейству на периферии советской империи – евреям Бухары, еще сохранившим свои этнорелигиозные традиции. Для интеллектуала-нонконформиста Люксембурга уцелевшие на окраинах остатки еврейского мира – оазис почти полностью уничтоженной цивилизации и объект ностальгии, подобно караимам для Давида Шраера-Петрова или учителю хедера из бывшего местечка для Ефрема Бауха. Однако встреча как бы изолированных от мира евреев Бухары (в том числе родителей Иешуа) с религиозностью и судьбой польских хасидов в лице ребе Вандала выявляет непреодолимый мировоззренческий раскол. Пассивная еврейская община Бухары сопротивляется идее исхода и в конце концов остается на «чужбине». Встреча двух линий еврейства, прошедших через холокост и коммунистическую диктатуру, не приводит к желанному единению, которое, согласно концепции романа, могло бы начать массовую эмиграцию советских евреев185185
За этим угадывается критика еврейским диссидентом недостаточного национального сознания «укрощенных» советским режимом евреев, которое делает невозможной консолидацию и атрофирует политическую деятельность. О разных исторических формациях советского еврейства, о которых размышляет Люксембург, пишет, например, Даниела Бланд-Шпиц: «[У евреев Закавказья и Средней Азии] еврейская идентичность, отношение к Израилю и т. д. определяется прежде всего не национальными, а религиозными чувствами. […] Расцвет еврейской жизни пришелся там на годы Второй мировой войны, когда туда эвакуировались еврейские беженцы с оккупированных нацистами территорий» [Bland-Spitz 1980: 264]. В романе это кратковременное оживление бухарского еврейства затрагивается лишь вскользь, когда упоминается прибытие евреев из Восточной Европы: «Четверть века назад прибыли в Бухару первые эшелоны эвакуированных – истерзанные евреи из Польши. […] Заброшенные, разрушенные, веками необитаемые „памятники старины“ стали жилплощадью […] И вот мало-помалу унылые наши развалины ожили, обновились, а еще через несколько лет – опустели: война окончилась, „поляки“ уехали…» [Люксембург 1992: 92].
[Закрыть]. Так, духовный путь Иешуа до самого конца остается путем одиночки.
Иешуа снова и снова вспоминает, как последовал за ребе, чей «зов» ассоциируется у героя со «смертью и […] обновлением одновременно». Чуть ли не биологическая необходимость исхода заключена в метафоре186186
Впрочем, на разных уровнях референциальной структуры произведений Люксембурга, фантастически окрашенных и вместе с тем подчеркнуто психологизированных, метафорические образы часто оборачиваются «реальными» или же балансируют на грани мифа и действительности.
[Закрыть] пещер – «разверстых влагалищ земли»: земля евреев заново рождает в муках своих детей, а те повторно проходят через «боль рождения» [Там же: 161]. Эта телесная, архаико-мифологическая образность достигает высшей точки в заглавной метафоре десятого голода. Иешуа пересказывает отцу еврейское предание, чтобы объяснить, почему готов безоговорочно следовать за ребе Вандалом: «При сотворении мира Господь назначил десять времен голода: девять из них состоялись уже, а вот десятый! Десятый будет духовный, самый жестокий, будем искать божьего слова» [Там же: 197]. Духовный голод, охвативший и самого Иешуа, – это «мысль […] – коллективная, страстная, исступленная» [Там же: 203]; Иешуа верит, что, когда евреи вырвутся на свободу, мысль эта обретет силу телекинеза и устранит все материальные преграды на дороге в Палестину: именно так возникают потайные пещерные ходы, ведущие в Иерусалим. Лейтмотивом становится связь, которую посвященные усматривают между жизнью в галуте и идеей повреждения, насилия, усвоенной пассивности, неполноты бытия: по мнению ребе Вандала, на евреев галута, ущербных и убогих, «надо смотреть, как на изнасилованных» [Там же: 55], а жизнь на чужбине, по словам каббалиста рава Зхарии Бибаса, подобна летаргическому сну [Там же: 296]. Крайним выражением этой универсальной метафорической антитезы становится противопоставление жизни и смерти: выбор в пользу жизни, предполагающий переход от биологического к духовному, требует отречься от собственных родителей, отрешиться от всего усвоенного прежде.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































